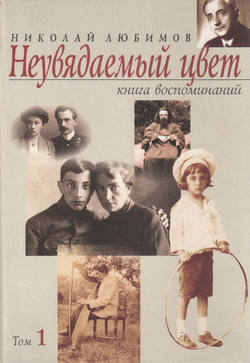Читать книгу Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1 - Николай Любимов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Родники
ОглавлениеВзойди, звезда воспоминанья;
Года, пережитые вновь…
Андрей Белый
Ранним вечером я часто засыпал под шелест страниц: это мать проверяла тетради учеников. Я уже знал, что она преподает в высшем начальном училище французский и немецкий языки. Давала она и частные уроки. И из-за стеньг до меня доносилось вытверженное наизусть:
– Ah, j 'ai vu, j ’ai vu, —
Me dit l’hirondelle,
– Ah,j’ai vu,j’ai vu! —
– Oiseau, qu’as tu vu?
– J’ai vu les enfants
Parcourir les champs,
J’ai vu tout verdir,
J’ai vu tout fleurir[12].
Или:
Ich frage die Maus:
– Wo ist dein Haus?[13]
А то – начало Лафонтеновой басни «Ворона и Лисица»;
Maitre Carbeau, sue un arbre perché,
Tenait en son bee un fromage.
– He Carbeau, a Corbeau, – поправляла мать, и в голосе ее улавливалась нотка усталого раздражения.
Я знал маминых сослуживцев: некоторых только по именам, а некоторых и в лицо. В «царские дни» мать по обязанности классной наставницы водила своих подопечных к поздней обедне в собор. Я любил «царские дни», и мне запомнилось это название, оттого что мать тогда уходила из дому позже, а возвращалась раньше обычного.
Октябрь 1917 года перевернул вверх дном даже строго размеренную, педантически упорядоченную школьную жизнь. Именно порядок-то прежде всего и полетел к черту. Планета «Русская школа» сошла с орбиты. Уроки, малые и большая перемены – все смялось, сбилось, спуталось, перемешалось. Мужское высшее начальное училище и женская гимназия слились в Единую трудовую школу. Ученики распевали на мотив «Марсельезы» кем-то наспех сочиненный гимн:
Вперед за свободную школу,
За Единую школу труда!
Расписание перестало быть регулятором школьного механизма. Разладился весь механизм. Часы школы то стремглав летели вперед, то надолго останавливались и замирали. Почти все уроки являли собою уроки рисования, лепки – образцы ученического искусства живописи и ваяния потом экспонировались на выставке каких-либо рукомесел, – но преимущественно уроки пения, главным образом – самодеятельные, стихийные, а математики, физики, географы зачастую присутствовали лишь в качестве безмолвных свидетелей при том, как «Вперед за свободную…» по произволу певцов сменялось с не меньшей силой ударявшим по барабанным перепонкам: «Смело, товарищи, в ногу…», а революционные песни уступали место хороводной: «Со вьюном хожу, со вьюном хожу… (Вьюном служил носовой платок.) Я не знаю, куда вьюн положить… Положу я вьюн на правое плечо…»
Учить не учили, но на вошедших в каждогодний обиход предосенних, зимних и предлетних двух-, а то и трехдневных учительских конференциях лились потоки красноречия: это представители Унаробраза, Губнаробраза и прибывшие из Москвы методические светила рассуждали о том, как надо учить по-новому, о необходимости срочной замены парт столами и скамейками и о прочих столь же насущных нововведениях. Впоследствии одни новшества заменялись другими, сама жизнь заставляла многое новое заменять старым, давным-давно проверенным на опыте, но вот поди ж ты: учительские конференции оказались живучими, как бурьян. Нужды нет, что аудитория уже много лет не слушает докладчиков и напоминает огромный шмелиный рой. Нужды нет, что конференции выродились в нудную пустопорожнюю формальность, – канитель тянется по сей день. Начальство не представляет себе, как можно приступить к занятиям в новом учебном году без конференции, равно как оно не представляет себе 1 мая или 7 ноября без людских стад на улицах. Одна игра – не потеха. О нет! Для иных потешной может быть только одна какая-нибудь игра. Боже упаси заменить ее новой или хотя бы отменить, потому что она давным-давно осточертела. В нас ухитряются уживаться Стенька Разин и преющий в охабне допетровский боярин. Нам могли бы позавидовать Аттила и царский сановник из самых ярых охранителей и рутинеров. Мы являем собой противоестественное сочетание безудержного и безоглядного вверхтормашества, страсти к беспрерывному шиворот-навывороту – от сельского хозяйства и школьных программ и до названий улиц и городов, – с неподвижностью лежачих камней.
Вокруг слабовольного Народного комиссара по просвещению Луначарского тучами болотно-лесной мошкары тотчас начали виться выдававшие себя за реформаторов и новаторов прожектеры вроде Блонского, до Октябрьской революции известного своими религиозными воззрениями, а после поспешившего объявить себя материалистом, – одного из тех оборотней и перевертней, одного из тех мыльных пузырей, что вздувались после переворота и довольно скоро лопались, – в первом издании Большой Советской Энциклопедии о нем хоть и холодно, но говорится, а во втором издании автору «Трудовой школы» и «Педологии» места уже не нашлось.
В своей пространной речи на уездной учительской конференции о принципах Единой трудовой школы кто-то из калужских последователей Блонского не коснулся преподавания иностранных языков. В перерыве моя мать обратилась к нему за разъяснениями.
– О, для преподавателей иностранных языков в Единой трудовой школе открывается широчайшее поле деятельности! – живо откликнулся советский Песталоцци. – Предположим, вам предстоит дать урок немецкого языка, а перед вами в этом же классе давал урок преподаватель физики. Вы входите в класс и прислушиваетесь. Учащиеся оживлены, у них блестят глаза, они все еще переговариваются. Вы спрашиваете, что́ их так занимает. Оказывается, их увлек опыт, который им только что показал преподаватель физики. Вот вы и подхватите эту тему и начните говорить с учащимися о том, что их интересует, по-немецки. Так! между вами и учащимися сразу установится живая связь, а ваш урок явится естественным продолжением предыдущего.
– Да, но как же я буду говорить по-немецки о явлениях» изучаемых физикой, с теми учениками, которые еще «Guten Tag» не умеют как следует произнести? – робко возразила моя мать.
«Блонскист», сделав вид, что его вызывают по делу, ретировался.
Школу разваливала не только революция. Школу разваливали ее спутники: холод и голод. Зимой учителя и ученики снимали в школе только головные уборы. Учителя превратились в хлебодаров. Установились дежурства: дежурные учителя резали, взвешивали и раздавали ученикам хлеб, раздавали «фунтики» с сахарным песком. Когда уж тут заниматься? Да ведь и не всегда удается побороть унизительное, но такое настойчивое желание ощутить языком и небом вкус пищи. Учитель рассказывает о тропической флоре и фауне, а сам думает, как бы растянуть кусок хлеба со жмыхом до завтрашнего утра и что у него осталось чуть-чуть чаю-суррогату, а там придется перейти на кипяток. Но если трудно заставлять себя забывать о голоде учителям, то что же спрашивать с учеников? К ученью глухо не только сытое, но и голодное ученическое брюхо. Какая уж тут наука! Кому пойдут на ум склонения и спряжения, когда в животе петухи поют?
Чтобы получить право на кусок хлеба, на пакетик («фунтик») сахарного песку и на обед, состоявший из одного блюда (иногда это был жидкий кулеш, иногда кулеш с кусочком или всего лишь с запахом селедки – такое блюдо казалось нам особенно лакомым, иногда «сладкий суп», то есть попросту компот), – чтобы иметь право на все эти яства, я пошел в школу рано: осенью 19-го года, когда мне еще не было семи лет, я поступил в первый класс «Единой трудовой».
Пока я учился в младших классах, школа претерпевала многоразличные изменения и неоднократно переименовывалась, подобно тому как менялись и наименования самой преподавательской профессии. Слово «учитель» шибало в нос реформаторам чем-то старорежимным. И вот учителей перекрестили в «шкрабов» (школьных работников) – свирепствовавшая тогда эпидемия условных сокращений коснулась и учителей. Впрочем, «шкрабы» были вскорости заменены более благозвучными и не допускавшими иного толкования «просвещенцами». Школа подразделялась на первую и вторую «ступени», соответствовавшие начальной и средней школе, вторая «ступень» – на первый и второй «концентры». «Концентр» не так-то просто было выговорить натощак учителям, а каково приходилось ученикам и родителям, по преимуществу – писцам, мастеровым, огородникам, бывшим приказчикам и купцам! Ничего, ничего! Пусть ломают языки, пусть выворачивают скулы! И не беда, что слово бессмысленное, лишь бы оно было ново и лишь бы это было не русское слово! Интернационализм – так интернационализм, черт побери! «Пальнем-ка пулей в Святую Русь», а заодно изрешетим и русский язык. Над «концентрами» возвели надстройку: «Перемышльский педагогический техникум». Справедливость требует заметить, что наблюдалось и обратное явление: производилась замена варваризмов русскими словами, но это для того, чтобы ничто не напоминало о царской школе. Так, во главе школы стояли теперь не директора, а «заведующие», «завшколами». Глава техникума в официальных бумагах и речах именовался «завперпедтех».
Но как ни старались, замазав старое название, выводить новое на черной вывеске, висевшей на двухэтажном белом полукруглом здании бывшего высшего начального училища, золотые курсивные буквы, из которых слагались эти слова, долго еще проступали с предательским и вещим упорством. В конце концов проступила и взяла верх над смутой тяга молодежи к знанию (тогда предпочитали говорить «молодежь» в стремлении переиначить все, вплоть до ударений, обезьянничая с инородцев, – по крайней мере, в Перемышль завез это ударение председатель Калужского губернского исполнительного комитета, Губисполкома, латыш Витолин), а эта тяга вызвала к жизни порядок, а порядок потребовал подчинения правилам, подчинения учащихся учащим. Осенью 20-го года в учительскую явилась депутация от учащихся старших классов, возглавляемая детьми крестьян, с просьбой к учителям заниматься по-прежнему, потому что они, учащиеся, не хотят войти в жизнь никчемными неучами, и помочь им хоть сколько-нибудь наверстать упущенное. Учителя взыграли духом. И мало-помалу школьная жизнь начала входить в колею. Из окон школьного здания уже не гремело маршеобразное: «Смело, товарищи, в ногу…», учителя выдавали хлеб и сахар после уроков. Стрекозы, пропев два учебных года подряд, добровольно преображались в муравьев, зима их будущего устрашающе глянула им в глаза.
Все на свете разлаживается легко и быстро, а налаживается со скрипом и с надсадкой. Не по мановению волшебного жезла налаживалась и школьная жизнь в Перемышле. С особой неохотой садились за книгу ученики средних классов: у этих все еще кружилась голова от всечасных резвостей и веселостей.
Однажды в учительскую вошел бывший инспектор высшего начального училища, бывший председатель педагогического совета женской гимназии (в 1912 году перемышльская прогимназия была переименована в гимназию), бывший член епархиального и уездного училища совета, преподаватель математики Александр Михайлович Белов и с присущей ему вескостью объявил:
– Богданов – ненормальный.
Все подняли на него изумленные глаза. Юра Богданов, люто голодая, как, пожалуй, никто другой из учеников, показывал отличные успехи по всем предметам, даже когда грохот ломки школы раздавался на весь город. Чем же он мог теперь не угодить Александру Михайловичу?
– А как же? – продолжал тот. – Задачи дома решает, на уроках – весь внимание, постоянно поднимает руку, что ни спросишь – знает, вызовешь к доске – докажет любую теорему, да еще, представьте себе, и по алгебре, и по геометрии идет дальше и просит объяснить непонятное. Нет, нет, он, положительно, ненормальный, – безапелляционно заключил Александр Михайлович.
Лень, уж конечно, прежде нас родилась, и на первых порах Октябрьская революция сделала все для того, чтобы лень одержала в школе полную победу над любомудрием, трудолюбием и прилежанием, но ведь и то сказать: голод – не тетка. А город все еще голодал. Телесные, душевные и умственные силы иссякали у взрослых, у подростков и у малышей. Тот же Юра Богданов целый год не ходил в школу из-за головных болей.
И все-таки на месте сумасшедшего дома возникло нечто, медленно принимавшее очертания школы.
Младших классов распад не коснулся. Я учился почти так же, как учились мои предки и как еще не одно поколение училось после меня: у нас были уроки чтения, письма, арифметики, рисования и пения. Все по часам, все по звонку: и уроки, и перемены. Кстати, на уроках пения мы под скрипку, на которой с не меньшим усердием, чем аккомпанируя на сцене городского театра хору учеников, исполнявшему гимн «Единой трудовой», пиликал учитель пения, он же церковный регент, Константин Лаврентьевич Соколов, получивший у своих сограждан за круглоту и приземистость прозвище Картошка, пели не революционные гимны, а нечто более соответствовавшее нашему нежному возрасту:
«Я не ваш», – ответил зайка.
«Я не ваш», – ответил зайка.
«Я не ваш», – ответил зайка.
Прыг – и убежал!
Или:
Елочка, елочка,
Как мы тебя любим!
А уже в четвертом классе мы проникновенно исполняли чувствительный романс:
У зари, у зореньки
Много ясных звезд,
А у темной ноченьки
Им и счету нет.
Горят на небе звездочки,
Пламенно горят,
Они сердцу бедному
Что-то говорят…
Говорят о радостях,
О минувших днях,
Говорят о горестях,
Жизнь разбивших в прах.
………………………………….
Полно же вам, звездочки
Милые, сиять,
Полно вам прошедшее
Мне напоминать!
Пока я допер до «второй ступени», то есть до пятого класса, техникум раскассировали. Образовалась школа-девятилетка (в те времена полная средняя школа состояла из девяти классов). Для нашего поколения анархия в школе ничего заманчивого не представляла. Нам она рисовалась чем-то вроде довременного хаоса. Мы не мыслили себе школы без дисциплины, но только у нас установилась дисциплина не испод-палочная, а сознательная, основанная не на одном уважении, но и на любви учащихся уже не к «шкрабам» и не к «просвещенцам», а – снова – к учителям.
Понятно, мы проказничали и шалили. Да и что за детство без проказ и без шалостей? Но шалости наши были почти всегда невинного свойства, да и шалили-то мы преимущественно не в школе, а после уроков, по дороге домой – накопившаяся энергия требовала разрядки. Мы кричали нарочито тревожными голосами вдогонку проехавшему мимо нас крестьянину: «Дядь, дядь! Глянь-ка! У тебя ось в колесе!». Или совсем уже отчаянными голосами: «Тетка, тетка, стой! Что ж у тебя лошадь-то кверху спиной едет?» Проезжие чаще всего попадались на удочку: озабоченно осматривали колесо, бросали испуганный взгляд на сивку, но зато потом, когда до их сознания доходил глумливый смысл наших предостережений, обдавали нас, как из ведра, мощной струею не очень, впрочем, забористой брани. Зимой школьники любили вспрыгнуть на сани за спиной у хозяина и незаметно для него прокатиться, а потом так же незаметно и безнаказанно спрыгнуть. Когда мы проходили мимо дома купца Ивана Степановича Борисова, который еще до революции провел для шику звонок, нас подмывало изо всех сил дернуть ручку над крыльцом. Вечером, возвращаясь домой из школьной библиотеки (книги нам выдавали в вечерние часы), мы иногда позволяли себе застучать в окно и завопить: «Юдины! Юдины! Пожар! Пожар!» Когда же вышеназванные Юдины выбегали за калитку, то ни языков пламени, ни клубов дыма не обнаруживали, а только слышали стремительно удалявшийся в густой вечерней уездной темноте, с которой не под силу было справиться за версту один от другого расставленным, подслеповатым фонарям, веселый топот мальчишечьих ног. То был верх нашего коллективного озорства. Я пишу: «мы», «наш», – но это не точно. В проказах я не участвовал – «ноблесс облизывала», положение «сына учительницы» обязывало, – я бывал лишь восхищенным их зрителем! Да и как было не посмеяться над приключениями пятиклассника Сережи Буренко́ва? Идем мы из школы втроем: он, Петя Гришечкин и я. Сережа, он же Cepга́, по дороге взял у сапожника из починки свои сапоги и не налюбуется на них. Подходим к мосту через овраг. По горе с синеватыми проплешинами льда летят на санках и на «кобылках» в овраг малыши. Хорошенький, голубоглазый, розовощекий бутуз Коля Мысин только что с довольным видом влез на гору после стремительного спуска на санках и, поставив санки в сторонке, пресерьезно объявляет, резко отделяя один слог от другого, точно подражая ходу поезда:
– А те-перь я на шо-пе по-е-ту.
И незамедлительно осуществляет свое намерение.
За мостом, возле Георгиевской церкви, на горе, стоит парень лет восемнадцати, Алешка Иванов по прозвищу Зыка. Он позволил себе заслуженный отдых: только что накачал из глубокого, так называемого «больничного» колодца (колодец находился посреди больничного двора) два ведра воды, втащил их на гору и поставил наземь. Теперь уже дорога пойдет до моста под гору, и до дому Алешке оставалось два шага – он живет по ту сторону моста, на краю оврага.
Поздоровались.
– Алеш! Погляди, какие у меня сапоги! – начинает разговор Сережа. – Они – волшебные. Что ни захочу – все исделают.
– Волшебные? – Зыка скептически усмехается. – Ну вот пусть они исделают так, чтобы мои ведра пролились.
– Чтобы твои ведра пролились? – с готовностью переспрашивает Сережа. – Это, брат, в два счета.
Сережа, обладавший недюжинной физической силой, что́ он немного спустя и доказал, ибо, изверившись в пользе наук и убедившись в ограниченности сферы человеческого познания, поступил в подручные к кузнецу, о чем он давно уже страстно мечтал, и в кузнице, куда он прежде частенько сбегал с уроков, не посрамил Землю Русскую, – с размаху ударяет носками сапог по ведрам. Ведра падают. Зыка оторопело смотрит на растекающиеся, черные на снегу потоки воды. Сережа, из боязни правой и, быть может, кровавой мести, давай Бог ноги!
Приезжавшая на летний отдых москвичка-пенсионерка, старомодно одевавшаяся и причесывавшаяся, однажды вышла из дому в сад, как раз когда шестиклассник Женя Новиков, низкорослый не по летам, с большими черносливными глазами, которые как-то особенно строго глядели на его бледном, с тонкими чертами, лице и в которых где-то глубоко-глубоко прятался плутовской блеск, уже занес было ногу на перекладину забора. Его внимание, по всей вероятности, привлекала росшая неподалеку груша – «тонковетка». Груши поспели; тряхни легонько дерево, и они дождем посыплются наземь. Набил карманы, прыг через забор – и был таков. Хозяйки дома, две сестры, на ту пору куда-то отлучились. А тут нелегкая принесла дачницу. Этого досадного обстоятельства установивший надзор за сестрами их сосед Женя, по-видимому, не предусмотрел. Он долго следил взглядом за дамой – она явно не собиралась покидать «тень задумчивого сада«» (Надсон). Женя не выдержал. Он понимал всю безнадежность своего положения, понимал, что задуманный им налет сорван, но не выразить своего возмущения виновнице срыва – это было выше его сил.
– Что это вы здесь, мадам, прогуливаетесь? – обратился к ней Женя.
Дама молча продолжала идти по дорожке.
– А нельзя ли вас, мадам, по роже смазать? – еще более изысканно, вежливым тоном, в котором, однако, слышалось холодное бешенство, после паузы снова обратился к дачнице Женя и соскочил с забора.
Дама после рассказывала об этой мимолетной встрече со смехом. Она сочувствовала Жене и отдавала дань его светской манере обращения.
«Второступенцы» ходили друг к Другу на именины, танцевали вальс па-д’эспань, краковяк, польку-кокетку под аккомпанемент садившегося за пианино, если у хозяев был инструмент, или игравшего на собственной гармонии моего одноклассника Бори Соколова по прозванию Богыс Палыч, которое он заслужил своим грассированием, но в котором своеобразно выражалось нами и уважение к свойствам его хорошей души; водили хороводы и пели:
Ах ты, зимушка-зима!
Зима лютая была,
Закурила, замела
Все дорожки и пути,
Все дорожки и пути —
Нельзя к милому пройти,
Я дорожки размету —
Сама к милому пройду.
Сте́лю, сте́лю, постелю́
Постель пуховую.
Кого, верная, люблю,
Того расцелую.
С этими словами девочка, ходившая внутри хоровода, едва касалась губами щеки своего избранника или клала ему руку на плечо и становилась на его место в круг, и теперь уже он ходил внутри круга, и песню пели от его имени:
Сам я к миленькой пройду…
Другая песня кратчайшим путем вела к желанной цели:
У попа на крыше
Завелися мыши.
Один мыш околел,
Целоваться всем велел.
Пели хоровые песни.
Пели частушки:
Один Коля дрова колет,
А другой дрова кладет.
Один Коля Нюру любит,
А другого зло берет.
Подобные увеселения доставляли удовольствие даже старшеклассникам.
В перерыве между играми и танцами пили чай с пирогами и с вареньем. (То были уже годы НЭПа.) Вплоть до окончания школы ни на одном сборище, включая выпускной вечер, никто из нас не понюхал не только водки, но и вина.
Уже в пятом классе мальчики начинали ухаживать за девочками. Вспыхивали и гасли увлечения, тянулись романы. Да и что за отрочество и за юность без увлечений и романов? Но все это не выходило за рамки строгой платоники.
Само собой разумеется, не все ученики любили всех учителей. Иные из неуспевавших предпочитали объяснять постигавшие их неудачи не своею ленью или скудоумием, а мнимою несправедливостью учителей. Одна ученица сетовала:
– Георгий Авксентьич уж так меня гонял, так гонял, спрашивал о том, чего во всей физике нет. Я ему все-таки отвечала, а он мне поставил «неуд.». (То есть, двойку.)
Кое-кто пускал слушок и даже доносил в городскую партийную или комсомольскую организацию, что имярек потому поставил ему «неуд.», что он, мол, «бедняцкий элемент». В прениях по отчетному докладу заведующего клубом на образцовую и неутомимую руководительницу любительской труппы, учительницу Софью Иосифовну Меньшову накинулась обиженная бездарь, которой Софья Иосифовна не давала ролей. Единственное обвинение: засилье в труппе интеллигенции.
– К Софье Иосифовне ходят на репетиции всё в брюках да в галстуках!
– А вы что же, хотите, чтобы ко мне без брюк приходили? – спросила поклонника античной простоты в одежде Софья Иосифовна.
Не надо забывать, что в годы НЭПа отношение правящих кругов к интеллигенции не отличалось благожелательностью. Оно еще ухудшилось по сравнению с годами военного коммунизма, когда было не до нее, когда прямой наводкой били по «буржуям», помещикам и «царским слугам» от министров до исправников и городовых. Теперь имели хождение презрительные клички: «гнилая интеллигенция», «интеллегузия», «Интелягушка».
На интеллигенцию науськивали всякую шушеру, и эта шушера то здесь, то там приходила в такое неистовство, что время от времени приходилось кричать ей: «Тубо!» Появился даже особый термин: «спецеедство», что означало – травля специалистов.
Однажды я из-за пустяков повздорил с моей одноклассницей. Желая как можно больнее меня уязвить, она бросила с издевочкой в голосе:
– Интеллигенция!
Чего-чего, но важничанья и чванства («я-де» мол, сын учительницы») во мне не было. Ни с кем из детей интеллигенции я в школе не сближался. Я не любил дочерей перемышльского врача, не любил сына перемышльского дьякона; я дружил с крестьянскими детьми и с детьми городского простонародья.
Но тут меня задело за живое, – Да, я интеллигент и горжусь этим, – отрезал я.
На дружбу или, как тогда выражались, «якшанье» партийцев и комсомольцев не только с «чуждым элементом», но и с беспартийной интеллигенцией смотрели косо, а иной раз вычищали «якшавшихся» из партии и из комсомола. Вычистили по этой причине одну партийку и в Перемышле. У меня на именинах был мой товарищ, сын местного парикмахера, активный комсомолец Коля Рубисов, Вечеринка кончилась рано, и Коля успел попасть на танцы в клубе. Комсомолец по прозвищу Яшка – Свиная Хряшка, в каковом прозвище, точно в зеркале, отразилась Яшкина наружность, встретил его такими словами:
– Ты что же это, отсек (Рубисов был ответственным секретарем школьной комсомольской организации, или, как тогда говорили, «ячейки»), – по меньшевистским именинам ходишь?
Термин «меньшевистские» Свиная Хряшка употребил по абсолютному своему невежеству, ибо ни моя мать, ни покойный отец, ни сестра матери тетя Саша близко ни к одной партии не подходили: для Яшки было все едино – что интеллигент, что меньшевик. Рубисов ответил ему решительно:
– Хожу и буду ходить, а ты мне не указ. Пошел к чертям! Когда учителя приглашали на вечеринки своих партийных коллег – преподавателей обществоведения, те благодарили, но предпочитали не являться: одни – из боязни быть обвиненными в якшании, другие – потому что не желали якшаться» Я помню только одного партийца, который бесстрашно посещал своих беспартийных сослуживцев, – Ивана Семеновича Осипова, но его скоро убрали: он преподавал у нас всего один год.
Так вот, на этой настороженной неприязни к интеллигенции, в какой тогда не случайно воспитывались партийцы и комсомольцы и которую спустя несколько лет духовным отцам Сталина и его присным, выработавшим многоступенчатый план борьбы с интеллигенцией на несколько лет вперед, без малейших усилий удалось превратить в гонение, выразившееся сначала в установке рогаток, на которые натыкались державшие экзамены в вузы дети интеллигентов, в изгнании за границу ученых-идеалистов и в судебной и внесудебной расправе над сотрудниками Союзмяса, Союзрыбы, Союзконсерва, Союзплодовоща и Народного Комиссариата Торговли (Наркомторга), над инженерами (достаточно вспомнить «Шахтинский процесс», процесс Рамзина, Ларичева, Федотова и других), над экономистами (достаточно вспомнить «процесс Союзного бюро меньшевиков»), над «аграрниками» (достаточно вспомнить арест так потом и сгинувших профессоров Чаянова и Кондратьева), а затем, при Ежове, переросшей в смазь вселенскую, – на этой подозрительности, пока еще безуспешно, играли иные оболтусы и лоботрясы. Жертвы доносов отделывались кратковременными неприятностями, а зачастую дело обходилось и вовсе без неприятностей. Да и случаи-то эти были тогда единичны, как единичны были случаи хулиганства учащихся. Исключенных из школ я мог бы пересчитать по пальцам. Редко оставляли на третий год – нужны были сверхуважительные причины – и уж, конечно, не оставляли на четвертый. Исключались те, что охальничали с девочками, непристойно ругались при них, те, что дерзили учителям. Эта худая трава мигом выпалывалась из поля вон. Сегодня поступила жалоба, сегодня же наряжали следствие, и, если факты подтверждались, в тот же или, в крайности, на другой день созывался внеочередной школьный совет, а наутро исключенному объявляли приговор, и тот покидал перемышльскую школу навек.
Учителя не цеплялись за старину-матушку единственно потому, что они к ней привыкли, как привыкают к разношенной обуви. Вводится новая система оценок? Ну что ж. В конце концов не все ли равно: «5», или «в. у.» (весьма удовлетворительно), «4», или «уд.» (удовлетворительно; на тогдашнем школярском жаргоне – «удочка»), «3», или «е. у.» (едва удовлетворительно), «двойка», или «неуд.»? Вот только совещания, на которых учителя проставляли четвертные или годовые отметки, со стороны можно было принять за хоровую декламацию Хлебникова:
– «Еу», «вэу», – выпевали учителя.
Наша школа с каждым годом все заметнее окреетьянивалась, и учителя этому радовались. Окреетьянивалась школа с мудрым отбором. Прежде чем отдать своего мальчонку в городскую школу, отец обыкновенно советовался с его учителем:
– Василий Миколаич! Как скажешь: стоит мово Ванькю в градскую школу отдать? Ведь до города далёко – придется его на квартеру ставить, обужа, одежа, а достатки у нас, сам знаешь, невелики. Неш подождать, пока старшую дочку замуж пристрою?
– Отдавай, отдавай, – уверенно говорил Василий Николаевич, – из твоего Вани толк будет. Отдавай – не пожалеешь.
Благословение сельского учителя – это еще далеко не все. Осенью в перемышльскую школу нахлынет белоголовая волна из разных сел и деревень, ближних и дальних, и вот тут-то и решится судьба Вани, Коли, Пети, Никиты, Нюры, Груши и Маши, Весной они, выдержав экзамены, окончили свою сельскую четырехклассную школу. А теперь им для поступления в пятый класс городской школы надлежит уже в этой школе выдержать экзамены, или, как тогда говорили, «испытания», по основным предметам. Невыдержавшие шли «по крестьянству». Выдержавшие и поступившие составляли цвет нашей школы. Учителя не могли ими нахвалиться:
– Ах, деревенские ребята! Какая прелесть! Куда нашему перемышльскому дубью хотя бы против корекозевских «пузатиков»! (Так в шутку называли ребят из села Корекозева.)
Тому разумному преобразованию, какое внесла в школу новая жизнь, – я имею в виду «самоуправление учащихся» – учителя не только не противились – это новшество они приветствовали, этому новшеству они, сколько могли, содействовали. Самоуправление учащихся, претворявшееся в жизнь под тактичным руководством педагогов, не расшатывало, а укрепляло дисциплину. Провинившийся, пожалуй, с еще большей неохотой плелся на бюро старостата, где его должны были прочистить с песком товарищи, чем даже на «исповедь» к заведующему. В иных случаях бюро старостата проявляло излишнюю жестокость, и школьному совету приходилось отменять его суровые приговоры.
В семье у моего одноклассника стряслась беда. Его старший брат, выродок, связался с уголовниками, заделался главарем бандитской шайки и как раз в тот год, когда мой товарищ оканчивал школу, был пойман, судим и расстрелян. Мы знали, что для нашего товарища это большое горе: что там ни говори, родной брат… Мы были с ним особенно ласковы, но о брате не заговаривали. И только один наш одноклассник, злобный карлик с изрядной величины носом, за что он и получил соответствующую кличку (издали увидев, что он идет в школу, младшеклассники выстраивались у школьного крыльца шпалерами, и он проходил мимо них, но только вместо «Здравия желаем, ваше высокоблагородие», ребята дружно приветствовали его: «Дубовый Нос – Осиновые Пятки!»), – этот злобный карлик, поссорившись с братом расстрелянного, посмеялся над его несчастьем. Бюро старостата, приняв во внимание, что Дубовый Нос не первый раз оскорбляет товарищей и бьет их по больному месту, вынесло постановление исключить его из школы. Общее собрание учащихся второй ступени единогласно одобрило решение бюро. Школьный совет, куда входили и представители от родителей, и представители исполкома, комитета партии, комитета комсомола и Совета профессиональных союзов, отменил решение собрания учащихся на том основании, что исключать из школы ученика перед выпускными экзаменами за оскорбление словом – это слишком строгая мера наказания. Нам пришлось ограничиться тем, что наш староста от имени всего класса объявил Дубовому Носу бойкот, и мы начали здороваться и разговаривать с изгоем лишь несколько лет спустя, когда съехались в Перемышль на каникулы.
Я был несменяемым председателем охватывавшей учеников средней школы культурно-просветительной комиссии, что отмечено у меня в аттестате. Комиссия делилась на четыре секции: литературную, драматическую, хоровую и секцию самодеятельности. На занятиях литературной секции мы под руководством преподавательницы литературы Софьи Иосифовны Меньшовой читали и разбирали произведения, которые значились в программе внеклассного чтения или почему-либо вызывали у нас повышенный интерес. Круг чтения был разнообразен: от «Воскресения» Льва Толстого до «Дневника Кости Рябцева» Огнева и «Исанки» Вересаева, по поводу которых устраивались диспуты. Драматический кружок ставил спектакли и в школе, и в городском театре. Неизменным режиссером их была Софья Иосифовна. Ей сорежиссировал кто-нибудь из учеников старших классов. Сценами из «Бориса Годунова», «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган» мы отмечали день памяти Пушкина, постановкой «От ней все качества» – столетний толстовский юбилей, сценами из «Горя от ума» – столетие со дня гибели Грибоедова (на грибоедовском вечере я делал доклад о творчестве драматурга и играл Репетилова). Хоровым кружком руководил преподаватель литературы в младших классах Владимир Федорович Большаков. Благодаря Владимиру Федоровичу мы в стенах школы слушали концерты, на которых наши товарищи и подруги исполняли хоровые песни, дуэты (вплоть до «Уж вечер, облаков померкнули края…» и «Мой миленький дружок…») и соло. Всю эту работу, отнимавшую у педагогов много времени и сил, они выполняли с подъемом, с неугасимым «огоньком» и, разумеется, безвозмездно.
Как же нам было не любить своих учителей? Ведь мы видели, ведь мы чувствовали, что их жизнь – в школе, их жизнь – в нас. И подавляющее большинство учеников в обиду их не давало. Свою любовь мы доказывали им на деле.
Мне вспомнились лица товарищей милых…
Весной 28-го года из Калуги в Перемышль нагрянула комиссия проверять нашу школу. Комиссия была, мягко выражаясь» слишком мало компетентна, чтобы судить о квалификации педагогов и о глубине познаний учащихся. Да академические наши успехи ее и не интересовали. Прибыв в Перемышль, члены комиссии занялись опросом плохих, «обиженных» учеников и учениц на предмет выявления политических ошибок, допускаемых учителями. На общем собрании учащихся второй ступени и на школьном совете (куда прежде допускались старосты старших классов) они перешли в открытое наступление. Лише других наскакивал на учителей представитель Калужского губернского комитета комсомола по фамилии Архаров – фамилии, точно определявшей моральный и культурный уровень, равно как и тактические и полемические приемы комиссии. Учителям предъявлялись обвинения, основанные на вздорных доносах. Так, члены комиссии утверждали, будто Софья Иосифовна нам внушала, что крепостное право в России пало благодаря «Запискам охотника». Я был на этом уроке. Софья Иосифовна развивала ту простую и неоспоримую мысль, что «Записки охотника», в гораздо большей степени, чем «Антон Горемыка» и «Деревня» Григоровича, возбуждали общественное мнение против крепостного права.
Учителя отбивались с искусством испанских героев «плаща и шпаги«». Но особую ярость и неутомимость в бою обнаружили заступавшиеся за них ученики, в частности – ученик выпускного класса Петя Гришечкин. Они всыпали комиссии, что называется, «по первое число». Они доказали, что в обвинительных речах нет ни слова правды; все – поклеп, все – напраслина. Они опутали господам ревизорам карты. Ревизоры надеялись на поддержку учащихся, а малочисленные доносчики прикусили языки: одно дело – нашептывать в темных углах, и совсем другое – выступать с открытым забралом. А вот заступников, притом заступников башковитых и за словом в карман не лезших, оказалось немало. Наскок комиссии был отбит. Но в конце лета она тиснула в губернской газете «Коммуна«» клеветой о нашей школе. Заведующий, Петр Михайлович Лебедев, ответил в редакцию, разбив авторов клеветона по всем пунктам. Редакция, следуя традициям советской прессы, ответа не напечатала, а Губоно (то есть Губернский отдел народного образования – так теперь назывался бывший Губноробраз), куда Петр Михайлович послал копию ответа, оставил кляузу комиссии без последствий.
Мне вспомнились лица товарищей милых…
Если к нам поздно вечером раздавался тихий стук в окно, мы знали, что это мой одноклассник и приятель Сема Левашкевич, живший через несколько домов от нас, по дороге домой с закрытого комсомольского собрания хочет к нам забежать и уведомить, не затевает ли какая-нибудь Свиная Хряшка каверзу против учителей.
Мне вспомнились лица товарищей милых…
Весной 29-го года мои одноклассники и приятели Иван Миронов и Леонид Линьков отказались выполнить поручение бюро городской комсомольской ячейки: ходить в пасхальную ночь по «церквам и выслеживать учителей. Это были не шкурники, не приспособленцы, не карьеристы, а убежденные комсомольцы. Идти на разрыв с комсомолом им было нелегко, потому что они верили в благодетельную неизбежность коммунизма, а коли так, – рассуждали они, – то их место в первых рядах борцов за коммунизм, то есть – в комсомоле. И все же они заявили, что, мол, «извините – подвиньтесь»: шпионами они не были и никогда не будут и уж во всяком случае наотрез отказываются следить за учителями, которые ничего, кроме хорошего, им не сделали. Оба положили комсомольские билеты на стол. Выход из комсомола помешал им поступить в высшее учебное заведение. Летом того же года они на сплошных «вэу» выдержали экзамены на физико-математический факультет тогдашнего 2-го МГУ (Второго Московского государственного университета, ныне – Московского педагогического института имени Ленина), а немного погодя получили по почте извещение, что они не приняты «за отсутствием мест». И это несмотря на то, что многие тогда могли бы позавидовать их «социальному происхождению». Ваня Миронов был сын крестьянина-середняка из села Корекозева Перемышльского уезда, а Леня Линьков – сын сельского учителя и сельской учительницы, которые уже несколько десятилетий подряд благоуспешно сеяли «знанья на ниву народную…». Попали они в вузы лишь несколько лет спустя.
Во время «торжественной части» выпускного вечера моего класса я выступил от имени всех моих товарищей и подруг с благодарственной речью, обращенной к учителям. Бывший «завперпедтех», наш классный руководитель, преподававший у нас физику, химию и естествознание, Георгий Авксентьевич Траубенберг не мог присутствовать на вечере. Он прислал со мной приветствие, которое я же и огласил: «Великолепному, неповторимому девятому классу мой сердечный привет. Г. Траубенберг». А потом – игры и танцы до зари! Чтобы как-то выразить педагогам свою восторженную признательность, мы без конца их качали; учительниц качали с комфортом – на стуле.
Уже спустя несколько дней по окончании школы мать застала меня в слезах.
– Ты что?
– Школу жалко… – ответил я.
Почти все наши учителя долго, как рыбы об лед, бились в нужде. В годы военного коммунизма они получали смехотворное жалованье – маминого месячного жалованья хватало ровно на коробку спичек. Их «паек» состоял из куска чего-то, отдаленно напоминавшего хлеб, и из микроскопического количества сахарного песку. Донашивали чиненое и перечиненное старье. Крутили из «Коммуны» «собачьи ножки», курили махорку, в просторечии «махру». Некоторых выручали собственные сады и огороды, иных, как, например, мою мать и меня, сад и огород, которые мы снимали вместе с домиком. Выручало еще вот что: учителям наряду с прочими гражданами отводились участки земли под картошку, свеклу, капусту. Не обделяли учителей и лугами, независимо от того, держали они скотину или нет. Землю нам обрабатывали крестьяне Маловы и́сполу, а луг – уже при НЭПе – за деньги. Честность Меловых была вне подозрений. Мы никогда их не учитывали и не проверяли, при сборе и дележе урожая редко когда присутствовали: сколько привезут – столько и ладно. Они нам и капусту рубили сечками. Мы ходили только подбирать картошку, чтобы дело быстрее шло, да и какое же это веселое занятие!
Федор Дмитриевич Малов, голубоглазый, скуластый, с лицом коричневого цвета, ближе к глазам отливавшего розовым, с темными усами, которые двумя полуконцами огибали рот, с небольшими проплешинами надо лбом, не лез в праведники, в церковь ходил только по большим праздникам, но несокрушимо верил в то, что «над всеми людьми Бог ваш»:
– Бог – старый хозяин, – часто говорил он.
Федор Малов был на все руки мастер. Он и печки перекладывал, и валенки валял. Погоду предсказывал лучше всякого метеоролога.
– Надо, как ни мога́, с сеном управиться нонче.
– А что? Завтра как бы дождя не было?
– Свободная вещь.
«Свободная вещь«» и «ясный факт«» – это были два его излюбленных выражения.
С сеном он успевал «управиться» до вечера, а на другой день первое, что мы видели, пробудившись, – это заплаканные окна.
Федор Дмитриевич Малов никогда не резал животных. Уходил из дому, если звали соседа зарезать курицу или теленка. По свидетельству его жены, Натальюшки, такой же голубоглазой, как и он, «Хведор» даже «черным словом» не ругался. Не пил. Я несколько раз видел его захмелевшим в Перемышле во время коллективизации: он пил с тоски по лошадям, которых у него взяли в колхоз, – по Костюшке и Орлику. И горевал он не столько из-за того, что подарил лошадей чужому дяде, сколько из-за того, что теперь его лошадей будут бить, а он на них только замахивался кнутиком, вовремя не накормят, вовремя не напоят. И еще пил Федор Дмитриевич с тоски по прежнему укладу крестьянской жизни:
– Мужиков больше в России не будет. Исделают из нас изо всех даже и не рабочих, а батраков на государство. Ясный факт!
Моя мать про него говорила:
– Федор Дмитриевич – аристократ духа. Я многих интеллигентов с ним рядом не поставлю, не говоря уже о мещанах.
В трудных случаях жизни мы обращались к нему, и он нас всегда выручал.
Он с Натальюшкой частенько приходил к нам в гости, благо жили они в подгородной деревне Хохловке. При НЭПе моя мать старалась как можно лучше их угостить. Они с особым удовольствием пили чай; в деревне тогда пили чай только по большим праздникам. Наконец Натальюшка переворачивала чашку вверх дном, клала на донышко огрызок сахару и говорила:
– Сыти, сыти покель некуды. Благодарность!
Это означало конец чаепитию.
Федор Дмитриевич и Натальюшка так и остались одними из самых верных, надежных и любимых наших друзей. Мне не надо было учиться выполнять некрасовский завет: учиться мужика уважать. Глядя на Маловых и других наших приятелей из крестьян, я просто не мог не уважать их. Мое народничество, свободное от партийных шор и пут, выросло из дружбы с теми «калуцкими мужуками», среди которых я рос, чья жизнь была у меня на виду…
…В конце зимы моя мать продавала почти все сено – у нас были две козы, а на них сена шло немного. Продажа сена помогала матери обернуться, кое-как заштопать прорехи в бюджете, уплатить первоочередные долги.
В годы НЭПа на смену одним трудностям пришли другие. В лавках и на базарах всего вдоволь, и все дешево, но только не для учителя: учителям все еще платят гроши, да и выплату грошей задерживают по месяцам и этим еще больше запутывают и расстраивают их дела. Учителя и их дети наголодались, малышей хочется изредка чем-нибудь и побаловать, и учителя должают нэпманам и кооперации, отпускающим товар «на книжку», должают за квартиру, занимают у более состоятельных граждан, занимают друг у друга, как в паутине, увязают в долгах.
Октябрьская революция ужаснула учителей. Ужаснула вовсе не тем, что им пришлось взяться за черную работу. Революция ужаснула мою мать не тем, что она, привыкшая возиться только в саду, теперь почти все делала по дому сама. Она ужаснула Траубенберга вовсе не тем, что он теперь собственноручно колол дрова. Революция ужаснула учителей безалаберщиной в школе. Ужаснула неразберихой во всех городских учреждениях: учреждения размножались «почкованием», они росли, как грибы после дождя, но только грибы эти были червивые: внутри советских учреждений сразу завелись черви бюрократизма и бумажной волокиты. Революция ужаснула учителей невиданным размахом воровства там, где можно было поживиться съестным, – от Упродкома до детского дома. Революция ужаснула их голодом. Революция ужаснула их вечерней темнотой в нетопленых квартирах, где «коптилки» или «моргаски» освещали лишь кружок на столе. Революция ужаснула их, привыкших к провинциальному жилищному простору, «уплотнением»: учреждений развелось столько, что власти скучивали по несколько семейств в один домик. При НЭПе их финансы еще долго пели романсы. Их удручали ни с чем не сообразные действия и распоряжения начальства, как непосредственного, так и более высокого. Их удручала невежественность новых хозяев жизни, вроде заведующего отделом здравоохранения Бурыкина, который на одном из заседаний утверждал, что наибольшую опасность представляют больные-хроники, ибо они суть главные очаги и распространители заразных болезней. Бурыкин был тем, по крайней мере, хорош, что, в отличие от большинства своих соратников, особенной деятельности не развивал. Он целыми днями сидел за канцелярским столом, углубившись в бумаги. Кто бы и с чем бы к нему ни обратился, он, с глубокомысленным видом подняв голову от бумаг, отвечал всегда одно и то же:
– Этот вопрос еще не предрешен.
До революции начальство вменяло учителям в обязанность помимо преподавания водить школьников по царским дням в собор и раз в год говеть – они и на это поваркивали. Теперь они были обязаны являться на нескончаемые митинги, «демонстрации», собрания, торжественные заседания и внимать «орателям», не умевшим связать по-русски два слова. В 23-м году секретарь Укома партии Елагин на площади с трибуны провозгласил – Товарищи! Траурный митинг в честь убийства Воровского считаю открытым.
В том же году политический руководитель летних учительских курсов, мозг нашего перемышльского комитета партии, негрообразный Павел Иванович Кухтинов в течение месяца обучал учителей политграмоте. Он мнил себя всесторонне образованным человеком и любил разъяснять слова, которые, как ему казалось, могут быть непонятны аудитории
– Это уже была настоящая сти́хия, – рассказывал он о русской революции 1905 года и тут же не преминул пояснить. – А что такое сти́хия? Сти́хия – это восстание рабочих и крестьян.
В том же году, осенью, заведующий «общим» отделом исполкома Фома Николаевич Зайцев, делясь своими впечатлениями от московской сельскохозяйственной выставки, долго склонял, «кабе́ль», «кабеля́», «кабелю́». Можно было подумать, что он побывал не на сельскохозяйственной, а на собачьей выставке. Но он рассказывал о последних достижениях советской электротехники. Один из вождей местного комсомола, Владимир Успенский, оглашая на траурном заседании заключение врачей о болезни Ленина, неукоснительно произносил? «атрериоскле́роз». Другой комсомольский вождь, Александр Четвериков, делая доклад на учительской конференции, многократно употребил словосочетание: «партия Векепе́бе». Один из перемышльских деятелей, Кододочкин, подобно многим другим «комиссарам», любил иностранные слова, но и у него охота до них была смертная, а участь горькая. Он произносил их на свой лад, и вместо «парадокс» у него получался «прадакос». И, конечно, не только Колодочкин, но решительно все власть имущие «константировали» тот или иной факт. Выступая на собраниях, Колодочкин терял всякое представление о времени. Осенний дождь и зубная боль тем и несносны, что ты не знаешь, когда они пройдут. Главным образом по той же причине были нестерпимы и рацеи товарища Колодочкина. Остервенелые слушатели в знак того, что их терпение иссякло, начинали кашлять«» сначала порознь, потом хором; густо басовое прокашливанье сливалось с теноровым перханьем: «Кха! «Кхе!». Колодочкина это не смущало. Он делал публике вежливое замечание:
– Товарищи! Ежели у кого такая болесть, что харкать, так прошу выйтить в калидор.
И ехал дальше.
Мы точно знали, что, открывая митинг на площади 7 ноября, оратор начнет свою речь со слов:
– Товарищи! Столько-то лет прошло с тех пор, как рабочие и крестьяне свергли иго ярма помещиков и капиталистов.
Менялись ораторы, в словесной формуле проставлялась новая цифра, но сама формула пребывала до тошноты неизменной, и неизменным оставался напоминавший жужжанье осенней мухи тон.
Тетя Саша, служившая в Унаробразе, сняла себе на память копию с одного документа. Это было заявление некоего Фролова, заведующего внешкольным подотделом Наробраза (этому отделу были подчинены библиотеки и клубы), в котором заведующий доводил до сведения высшего начальства, что для «изложения благих мыслей на письменную почву без посторонних толчков» ему необходимо столько то фунтов керосину. Председатель Уисполкома Васильев уведомлял население, какие у Советской власти дальнейшие «планты́ и виды́». Он же на заявление одного из своих ближайших помощников наложил пространную резолюцию. Смысл ее сводился к тому, что есть люди, не умеющие работать без палки. «И вот такая палка, – заключил Васильев свою резолюцию, – требуется на спину тов. Макаричева». Васильеву нельзя было отказать в изобретательности – он пытался разнообразить меры воодушевления. В другой резолюции он кому-то прописал «шейный пластырь». Излюбленным словесным повтором непосредственного начальника учителей, заведующего Унаробразом Василия Вавилыча Розанова, была анафора. Каждую свою речь, каждое выступление он начинал так: «Утета (вот это)… таперьчи (теперь)…», а потом уже развивал свою мысль, почти после каждого слова вставляя» «и так и далее» и «знычит». Несчастный «завперпедтех», Георгий Авксентьевич, накануне делового свидания с ним страдальчески морщился.
– Опять завтра переть в исполком к Розанову, черт бы его побрал! Опять смотреть на его сковородообразную лакейскую морду и выслушивать «утета», «таперьчи», «и так и далее», «и так и далее», «знычит», «знычит», «знычит»! Какая тоска! Боже мой, какая тоска!
Все это было бы смешно – и большей частью учителя добродушно посмеивались над перемышльскими Демосфенами, – когда бы не было так грустно ведь это же были не курьезы, не словесные раритеты – это была опостылевшая повседневность. За купцом Гаврилой Дмитричем Долбишевым знали его слабость к иностранным словам и называли его за глаза «Метформоза», но он не был начальством» никто не заставлял его слушать, его пристрастие служило поводом для смеха – и только. А тут изволь, служи под начальством у «прадакосов», выслушивай их упражнения в ораторском искусстве, выметайся из школьного здания, потому что «прадакосы» рассудили, что здесь лучше устроить зимний театр, а школу – эка важность! – можно и «уплотнить». Вавилыча в конце концов убрали с поста заведующего Унаробразом. На пленуме исполкома Петр Михайлович Лебедев открыл по Вавилычу ураганный огонь. Вавилыч не нашелся, что ему ответить в заключительном слове.
– Гы! – жалко усмехнулся он. – Уж товарищ Лебедев, знычит, и выступил! Как дубиной меня огрел!
Розанова убрали» но чего это стоило! Сколько душевных сил было расточено в непрерывных стычках с Розановыми, имя им легион! Сколь» ко энергии ушло не на дело, а на словопрения, на отстаивание так называемой «сетки» – на отстаивание более или менее полных нагрузок для учителей, чтобы случайно спаявшийся драгоценный учительский коллектив не распался, на отстаивание школы, потому что кому-то из властей предержащих вспало на ум упразднить в Перемышле девятилетку и оставить только семь классов! При НЭПе учителя не были уверены в завтрашнем дне. При военном коммунизме заставляли работать хочешь – не хочешь. При НЭПе везде шли «сокращения штатов». В школах воздвигалось гонение то на «язычников», то на преподавателей рисования и пения. А вдруг сократят? И что тогда делать? Бросать насиженное гнездо? Переселяться на «новые земли»? А что ожидает их там?
И все же разлад учителей с эпохой (я имею в виду не учителей-обывателей, исполнительных, но преимущественно интересовавшихся, сколько у них в наступающем учебном году будет часов; я имею в виду тех, кто оглядывался по сторонам и смотрел далеко вперед) – этот разлад вызывался не безобразиями, творившимися в Перемышле, – вольные или невольные издевательства над перемышльской интеллигенцией лишь усиливали этот разлад.
Я сызмала присутствовал при разговорах взрослых. Меня оберегали только от обсуждения альковных тайн» ставших достоянием всего города. Я был общителен, но не болтлив. Я умел держать язык за зубами. Старшие в этом удостоверились и, не стесняясь моим присутствием, беседовали на разные темы» Вот почему настроения тех учителей, которые постоянно бывали у нас в доме» открылись мне в первые же годы революции.
Разруха в стране; игра на низменных инстинктах («грабьте награбленное!»); накладывавшиеся на «недорезанных буржуев» контрибуции, часть которых застревала в карманах комиссарских «галифе»; обыски у буржуазии, превращавшиеся в ночной разбой; «красный террор», в частности – убийство в Екатеринбурге царской семьи» возмутившее даже тех, кто ненавидел монархию; глумление над религией; преследование за религиозные убеждения; планомерное осуществление задуманного еще Козьмой Прутковым проекта «введения единомыслия в России»; гонение на инакомыслящих в политике, философии, истории, литературе; с утра до ночи липким туманом обступавшая ложь» ядом которой были пропитаны газеты от передовиц до корреспонденции с мест; сочетание искусительной лжи прислужников Сатаны с изворотами пойманных жуликов; закрытие доступа сначала в высшие, а потом и в средние специальные учебные заведения детям «лишенцев»» то есть лишенных Советской властью избирательных прав (детям торговцев, крестьян» пользовавшихся наемным трудом, детям духовенства и т. д.), иначе – детям «чуждых, вредных, нетрудовых элементов»; крайне ограниченный в течение долгого времени доступ в вузы для детей служащих (бухгалтеров, канцеляристов и т. д.; дети «специалистов», в том числе учителей, в 29-м году были – по крайней мере, на бумаге – приравнены к детям рабочих и крестьян-бедняков); расстрелы без суда невинных людей в 27-м, 29-м и 30-м году; отход от провозглашенной Лениным новой экономической политики» обрекавший страну при относительно слабой развитости государственной торговли где на полуголодное» а где и на голодное существование; насильственная коллективизация, разорившая крестьян, с которыми провинциальная интеллигенция была связана тысячью нитей и которые не дали ей при военном коммунизме помереть с голоду; бесчеловечная «ликвидация кулачества как класса и ликвидация новой буржуазии»; процессы мнимых «вредителей» – вот что вызывало незатухающий гнев учителей, в свое время чаявших улучшений во всех областях жизни, мечтавших и о революции в России, но не о такой кровавой» не о такой опустошительной» не о такой безмозглой и не о такой тлетворной.
Там
за горами го́ря
солнечный край непочатый.
За голод,
за моря море
шаг миллионный печатай!
(В. Маяковский. «Левый марш»)
Да, но ведь известно» – рассуждали учителя, – что за морем телушка – полушка» да рубль перевоз! «Перевозчикам» Россия уже уплатила бешеные деньги» а солнечного края все нет как нет»,
Почти все учителя были в глубине душ и умов непримиримы к новому строю во имя Справедливости, во имя Свободы, во имя Добра, во имя Любви к ближнему, во имя Красоты. Но они считали себя слугами не Советской власти, а слугами народа, которому они еще в юности присягнули на верность. И они продолжали служить ему верой и правдой. Они полагали, что народ – в беде, а бросать кого-либо в беде – подло. Как ни одолевали заботы Софью Иосифовну, содержавшую мать, тетку и школьницу-дочь, как по временам ни травили ее перемышльские сановники за самоотверженную культурно-просветительную работу в полном и глубоком значении этих слов – не только среди школьников, но и среди населения в целом, – она, дав пять, а то и шесть уроков и наскоро пообедав, дробным, спорым шагом, в своей неизменной зеленой куртке с опушенным мехом стоячим воротником и зеленой шляпенке, возвращалась в школу: нынче репетиция, завтра ей нужно еще раз прослушать, как ученицы и ученики читают стихи, которые они собираются декламировать на праздничном (ноябрьском или майском) вечере, послезавтра надо начинать читать шестому классу «Детство» Горького, потому что в программе-то оно значится, а во всем городе есть только один экземпляр этой книги, после-послезавтра заседание редколлегии школьного журнала, а Софья Иосифовна – и член редколлегии, и один из авторов. (Мы выпускали и стенную рукописную газету, и рукописный журнал.) Софья Иосифовна знала повадки своих учеников, знала их лексикон и со смехом говорила мне:
– Я спешу на репетицию, а вы смотрите из окна второго этажа и оповещаете: «Вон сыпет Софио́!»; «Вон летит на всех парах!»
Сведения у нее были точные.
Георгий Авксентьевич Траубенберг мог, сидя у нас за чаем, прицельным огнем своего остроумия бить по новой жизни, но это не мешало ему, невзирая на то, что больные ноги плохо его слушались, даже в гололедицу ковылять вечером в школу: нужно приготовиться к завтрашним опытам по физике и химии, нужно показать ученикам опыт, требующий полной темноты; в школе его уже ждут «ассистенты», как называл он своих помощников из учеников старших классов, любителей физики и химии. Моя мать посылала проклятия извергам рода человеческого, у которых поднялась рука на мальчика, наследника Алешу, но она предоставила у себя в квартире убежище во время антибольшевистского крестьянского восстания председателю Перемышльского уисполкома Васильеву и, рискуя собой и своим пятилетним сыном, спасла ему жизнь. Учителя так же щедро делились своими знаниями с учениками при враждебном им строе, как бы делились они и при любом другом. И никакой «агитации» они не вели, своего отношения к большевизму при учениках не выражали. Для этого они были нравственно слишком чистоплотны. Они находятся на жалованье у Советской власти; власть, какая бы она ни была, доверяет им воспитание и образование детей и юношества, а они не привыкли обманывать чье-либо доверие. В школе беспартийные учителя были безукоризненно лояльны по отношению к новой власти. Учителям нередко предъявляли тогда обвинение в «аполитичности». Если только это можно назвать обвинением, то оно было справедливо: учителя никакой политики, ни просоветской, ни антисоветской, среди учеников не проводили. Моя мать была верующая, религиозная женщина. Она постоянно ходила в церковь. Соблюдала обряды. Исповедовалась и причащалась нередко в один день с некоторыми из своих учеников. По ее просьбе священники служили панихиды на могилах наших родных, пока это не воспрещалось властью. Священник, идя по нашему приходу на Рождество и на Пасху, на престольные праздники, неукоснительно заходил и к нам, славил Христа, служил молебен. К нам в дом приносили икону Калужской Божьей Матери, когда ее привозили в Перемышль. У нас в гостях был тихоновский епископ, преосвященный Иерофей: родом из крестьян деревни Погореловка Перемышльского уезда, он приезжал навестить старуху-мать; в Перемышле останавливался у о. Владимира Будилина, и тот привел его к нам[14]. Моя мать входила в совет приходской церкви и совет Собора и оказывала духовенству большую нравственную поддержку. Однако, поскольку в советской школе обществоведы и комсомол воспитывали учеников в атеистическом духе, моя мать никого и никогда не пыталась «обращать». Софья Иосифовна, ближе всех учителей подходившая к современности, старавшаяся найти среди плевел зерна, так же тщательно и безошибочно вскрывала идею автора, разбирая произведение советского писателя или горьковскую «Мать», как вскрывала руссоизм «Казаков». Она обличала фамусовскую Москву и темное царство Большовых и Подхалюзиных, Кабаних и Диких в согласии с авторами и не кривя душой, ибо взгляды Грибоедова и Островского были и ее кровными убеждениями. Но она не «подкоммунивала». Служить просвещению она была рада, прислуживаться перед начальством ей было тошно.
«Не хочешь иметь дело с Советской властью – уйди из школы и тогда проповедуй все, что тебе угодно. Дома, с родными и друзьями, ругай ее на чем свет стоит, а учеников не настраивай. Наше дело – давать им знания, воспитывать из них порядочных людей, трудолюбивых членов общества, а как сложатся их политические воззрения – это будет зависеть от широты их умственного кругозора и от того, насколько чутка их совесть».
Так рассуждала моя мать. Так рассуждали ее сослуживцы, ближайшие ее друзья. Так рассуждали калужские ее друзья и коллеги. Так рассуждали, в применении к своим профессиям, перемышльские и калужские врачи, калужские адвокаты. И я им всем благодарен, в частности, за то, что они говорили при мне свободно. Это мне помогло, когда я в 30-м году от корки до корки читал отчет о суде над обвинявшимися во вредительстве инженерами, понять, что все это – «липа». Я мог головой ручаться, что русская несоветская интеллигенция ни на какой вид вредительства не способна. До поры до времени она была способна на любое открытое выступление против незваных гостей, и впрямь оказавшихся стократ хуже татар, – вплоть до саботажа, вплоть до террора, вплоть до вооруженной борьбы в рядах Белой армии, вплоть до разрыва с отчизной, вплоть до взывания о помощи к иностранным державам, вплоть до призывов к Крестовому походу (Куприн). Теперь оставшаяся на родине интеллигенция отказалась от борьбы. Но на то она и интеллигенция, чтобы мыслить критически, а не глотать, что ей запихнут в рот. Однако теперь она и критиковала новые порядки в стране строго келейно, а не с амвона. Ну, а русский интеллигент и вредительство – это нечто еще более «несовместное», чем гений и злодейство.
Когда дочь Александра Константиновича Воронского, большевика-подпольщика, ленинского ставленника, уже в то время отставленного от редактирования журнала «Красная новь», спросила его: «Рамзин и другие – правда, вредители?», – он ей ответил:
– Это суд не над преступниками, а над несчастными людьми. (Слышал от Галины Александровны.)
Воронский был уже тогда умудрен опытом: в 28-м году заместитель председателя ОГПУ Агранов сфабриковал «дело Воронского», и только в последнюю минуту Орджоникидзе добился для него замены концлагеря недолгой высылкой в Липецк. Я, беспартийный юнец, у которого кожа еще не задубела от непогод, думал точно так же, как и Воронений, которому были доступны многие тайны ленинско-сталинского двора, думал, ибо знал русскую, сложившуюся до революции интеллигенцию и был убежден, что вредительство противно ее разуму, совести, душе, естеству.
…Между перемышльскими учителями пробегали черные кошки и котята. Пробегут – и нет их. Иной раз пошумят в учительской, но это как летний дождь: хлынул – и прошел.
Учителя часто ходили друг к другу запросто, без зова, «на огонек». Бывали друг у друга на Рождество и на Пасху. При НЭПе возродился обычай праздновать именины. На именины созывались все сослуживцы. У нас в доме поить гостей водкой не полагалось. «На всю братию и на вся христианы»[15] выставлялась бутылка какого-нибудь «спотыкачу». Это, как сказал бы Василий Кирилыч Тредиаковский, «трезвое пианство» лишь бодрило дух к оживленной беседе, хотя беседа и без того текла свободно, то искрясь разноголосым весельем, то наполняя комнату шумом споров, то устремляясь вдаль по ровному руслу, то выгибаясь излучинами. В других домах подавался на стол и графинчик с водкой. Меня коллеги моей матери рано начали приглашать вместе с ней на вечеринки, и я ни разу не видел учителя, упившегося до скотского состояния. Кто-то, пропустив три-четыре рюмки, становился еще находчивее и остроумнее, кто-то, напротив, погружался в безмолвную меланхолию, кто-то шел домой не весьма уверенной и твердой походкой, но никто не выписывал мыслете и не держался за землю. Тогда в винопийстве большинство еще не «находило вкуса». Ну, а кроме того, учителя не считали возможным ронять свое достоинство. В пьяном виде попасться на глаза ученикам или родителям – это могло разве что присниться в дурном сне, подобном сну героя поэмы А. К. Толстого «Сон Попова» – статского советника Тита Евсеевича Попова.
Чем же занимались учителя во внеурочное время помимо подготовки к урокам и опытам, проверки письменных работ, чтений школьникам вслух, репетиций и спевок? Лебедев читал для населения лекции по астрономии. Преподаватель физкультуры и военного дела Григорий Владимирович Будилин проводил вечерние строевые занятия перед праздничными демонстрациями. Он же заведовал и зимним я летним театром, приглашал из Калуги гастролеров – артистов, музыкантов и певцов, гримировал участников любительских спектаклей, ежесубботне в театре делал для желающих обзоры событий за рубежом и внутри страны, ибо выписка газет тогда была многим, в том числе моей матери, не по карману; он же был членом правления местного кооператива.
Учителя много читали. Кое у кого были собственные библиотеки. До революции отпускались средства для пополнения библиотеки высшего начального училища и гимназии произведениями, входившими в программу по литературе. Но учителям хотелось новинок. И они в складчину выписывали сборники «Знания», альманахи «Шиповник». После того как прибывшая из столицы книга обходила крут, она поступала в школьную библиотеку. Я находил в библиотеке средней школы и сборник стихотворений Федора Сологуба, и сборник его рассказов «Истлевающие личины», и его роман «Мелкий бес», и «.Символизм» Андрея Белого, и первое, «сиринское», издание его «Петербурга», и «Златолиру» Игоря Северянина в издании «Гриф». До революции в городе была еще одна библиотека, основанная на средства перемышльского благотворительного общества – «Александро-Невского братства». После революции она получила название «Центральной» и гигантски разрослась: все, что уцелело после разграбления усадеб перемышльских помещиков, стеклось в Центральную библиотеку. И в этом захолустном книгохранилище вы могли обнаружить и гротовского Державина, и 24-томного Мережковского в издании Сытина. С начала НЭПа Центральная библиотека начала выписывать еженедельную «Красную ниву», ежемесячную «Красную новь». На ее полках появились сборники стихов Маяковского, вплоть до редкого, отпечатанного на желтоватой бумаге папиросной тонкости, «Все сочиненное Владимиром Маяковским» (1919 год), двухтомный «Песнослов» Клюева, томики Есенина с березкой на обложке, книги Неверова, Сейфуллиной, Пантелеймона Романова, «В тупике» Вересаева, «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина», «Барсуки» Леонида Леонова, «Города и годы» Федина, «Сестры» Алексея Толстого. В 30-м году «на базе сплошной коллективизации» вместе с кулачеством ликвидировали и не менее зловредные, по мнению строгих судей из калужского Губоно, книги: из библиотеки были выброшены не только Мережковский, не только коллективный футуристический сборник «Дохлая луна» и «Громокипящий кубок» Игоря Северянина, не только Есенин, но и Тютчев и Фет.
Как учителя проводили каникулы? На зимние каникулы и в конце летних (занятия у нас начинались 15 сентября: это была уступка крестьянам, нуждавшимся в помощи детей при уборке урожая) отправлялись в Москву – главным образом, чтобы походить по театрам. За одеждой и обувью тогда в Москву не таскались – чего нельзя было достать в Перемышле, покупали в Калуге. Рыбная ловля и хождение по грибы совмещались с участием в спектаклях и концертах.
Первый класс, куда я поступил осенью 19-го года, вела Софья Семеновна Макшеева. Она стала учительницей от нужды и с горя. Ее муж, Владимир Николаевич Макшеев, помещик Перемышльского уезда, отказался от своей доли имения в пользу сестры. Много лет служил он в Польше комиссаром по крестьянским делам, выслужил большую пенсию и поселился в Перемышле, во флигельке у сестры, которая к тому времени продала имение и выстроила себе в городе дом с мезонином и флигель. Единственная дочь Макшеевых, Сонячка, училась в Москве, на историко-филологическом факультете Высших женских курсов. Перед самой революцией она заболела чахоткой. Курсы пришлось оставить. Помню ее, обложенную подушками, золотистоволосую, с точно кистью наведенными рдяными кружками на щеках. «Какая же она больная? – подумал я. – Больные бывают бледные». Начавшаяся голодуха ускорила кончину Сонички: весной 19-го года, во время разлива, она умерла.
Софья Семеновна заходила к нам, мы встречались с ней на улице, на кладбище, в окрестностях города, и я ни разу не видел у нее ни одной слезинки. Она улыбалась своими большими глазами, лучившимися на ее некрасивом, желтом, высохшем до пергаментной сухости лице с чересчур крупными чертами, шутила, но даже я, мальчуган, чувствовал, что в сердце у нее залегла тихая неизбывная скорбь. Она не носила траура. Идешь, бывало, межою и видишь, как над колосьями ржи словно вьется большой мотылек. Это – белая косынка Софьи Семеновны, это она в белом платье бродит одна по полям. Вечерами она ходила в гости – правда, только к близким знакомым, – была разговорчива. Но когда кто-нибудь неосторожно дотрагивался до ее раны, она вздрагивала. «Не надо!..» – просила она. Ей хотелось быть наедине со своим горем, и она никого не подпускала к нему. Горе не отдалило ее ни от Бога, ни от церкви. Войдя в церковноприходской совет храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы, она перед самой Пасхой 20-го года возродила распавшийся было хор. По просьбе Софьи Семеновны управлять хором взялся служивший в Наробразе, а впоследствии заведовавший им Владимир Петрович Попов. Прежде он пел тенором в том же хоре и помогал регентам. На просторе его талант раскрылся и развернулся, в хор влились лучшие голоса, и светлый праздник показался прихожанам еще светлее. А для меня с этим хором связаны одни из самых неколебимых и самых прекрасных воспоминаний моего детства, да не только детства, но и всей моей жизни.
Теперь, когда я вызываю в воображении мои первые шажки в школе, я отдаю себе отчет, что Софья Семеновна была учителем-дилетантом. Уроки Софьи Семеновны, вероятно, не выдержали бы методической критики. Но она приучила нас не бояться школы, она помогла нам создать помимо круга домашних интересов круг интересов школьных. Нас тянуло в школу, потому что нам было там уютно и весело, мы пропускали уроки нехотя.
Я не помню, чтобы Софья Семеновна рассердилась на кого-нибудь из нас за плохой ответ, за невыученный урок. А шалить мы у нее не шалили. Шалил на переменах только Петя Гришечкин, потому что баловником он на свет родился. И он был любимцем Софьи Семеновны. Если к ней поступала жалоба, что кто-то из ее учеников нечаянно разбил в соседнем доме окно или умышленно залепил снежком в прохожего, она спрашивала:
– Кто это сделал?
И всякий раз поднимался Петя и, глядя Софье Семеновне прямо в глаза, своим хрипловатым голосом отвечал:
– Это я, Софья Семеновна.
За правдивость Софья Семеновна прощала Пете все его «подвиги».
А проучились мы у Софьи Семеновны всего один учебный год. Осенью 20-го года она слегла и уже не встала. Своим близким друзьям, в том числе – моей матери, Софья Семеновна призналась, что, окончательно удостоверившись в призрачности своих надежд на выздоровление Сонички, она решила от нее заразиться – и добилась своего: ровно два года спустя после смерти дочери, весной 21-го года, как и дочь – в половодье, она умерла от чахотки. Как хоронили Софью Семеновну – не помню. Помню только блуждающий, пустой взгляд Владимира Николаевича. Помню, что он все делал не так, как требовалось по обряду. Помню, что при выносе он стоял на самом ходу, пока его не попросили посторониться, беспомощно держал в левой руке свою измятую шляпу пирожком, а в правой – табуретку, не зная, куда ее девать.
После смерти Софьи Семеновны Владимир Николаевич несколько лет прожил бобылем в Перемышле. Почти все воскресные вечера проводил у нас. Когда он рассказывал о Польше, я превращался в слух. Запомнилось мне, что он, разбирая земельную тяжбу Генрика Сенкевича с крестьянами, стал на сторону крестьян, и пану Сенкевичу, по словам Владимира Николаевича – сутяге и жмоту, пришлось-таки отдать «хлопам» незаконно присвоенную им землю.
Одно время Владимир Николаевич служил в исполкоме, потом его сократили. Пенсия была у него уже не прежняя: он получал всего-навсего двенадцать рублей, на каковую сумму и при НЭПе и даже в уездном городе не очень-то можно было разъехаться. Его настойчиво звала к себе в Полтаву племянница. Наконец Владимир Николаевич решился покинуть родные места и в 26-м году уехал из Перемышля. Переписывался он с нами почти до самой смерти, а умер в 33-м году от голода, которым Сталин, под метелочку вычистив в «колгоспах» хлеб, покарал Украину за то, что она посмела не выполнить план хлебозаготовок…
Юра Богданов отзывался о Белове так: «Математика и Александр Михайлович – это верх совершенства». Я не учился у Александра Михайловича – он уехал из Перемышля до того, как я перешел во «вторую ступень», но бывать у нас он начал, еще когда существовало высшее начальное училище и он являлся непосредственным начальником моей матери. Он дал ей немало добрых советов на первых порах ее провинциальной педагогической деятельности в мужском учебном заведении, где поддерживать дисциплину было куда труднее, нежели в московском институте «для благородных девиц».
Александр Михайлович был выше среднего роста, осанистый, представительный. Глядя на него, никто бы не подумал, что он – из купеческого сословия. Каштановый, с проседью, бобрик и аккуратно подстриженная борода подчеркивали строгую правильность черт, и строгость эту еще усиливали очки в золотой оправе. В его манере держать себя, в его походке не чувствовалось ничего выработанного, деланного. Ходил он – вернее, выступал – чинно, заложив руки за спину. Говорил с внушительной неторопливостью. Я представлял себе, что вот так же спокойно и веско объясняет он ученикам на уроках. Математика воспитала в нем стройность мышления. По словам тех, кто у него учился, его уроки походили на чертежи. Он был непогрешим в исполнении своих обязанностей и требовал такой же исправности от подчиненных. Вернее, он ничего не требовал. Он не прибегал к проборкам, головомойкам, взбучкам и распеканциям. Он не корчил из себя начальства. Он только подавал пример. И учителя просто не представляли себе, как можно опоздать на урок, хотя они отлично знали, что, кроме удивленного взгляда, Александр Михайлович никаких других мер к опоздавшему не применит. Знали и ученики, что у Александра Михайловича «не забалуешься», – старшие братья внушали это младшим. И когда от революционного взрыва порядок в школе взлетел на воздух, то никто из учителей так болезненно не переживал катаклизма, как Александр Михайлович. Его не так удручали голод, холод и то, что, отказавшись возглавить «Единую трудовую», он вынужден был оставить свою просторную, светлую, с не по-уездному большими окнами, квартиру при школе и снять на двоих комнатушку в Завершье, откуда до школы путь был не легкий и не такой уже близкий, как удручал хаос на месте им сотворенного разумного мира. Он был воплощенная честность и в самом простом, и в самом высоком смысле этого слова И он с ужасом глядел не только на развал, не только на бестолочь, но и на порожденные голодовкой плутовство и пройдошество. Заведующий Уездным продовольственным комитетом (Упродкомом) Иванков хапал почем зря, жрал в три горла и равнодушно смотрел своими косыми глазами («Бог шельму метит», – говорили про него перемышляне), как бедствуют врачи, учителя, канцелярские служащие с семьями. И Белов, дивясь прозорливости Алексея Константиновича Толстого, вспоминал его строки:
У приказных ворот собирался народ
Густо;
Говорит в простоте, что в его животе
Пусто!
«Дурачье! – сказал дьяк, – из вас должен быть всяк
В теле;
Еще в Думе вчера мы с трудом осетра
Съели!»
Еще больше угнетало Александра Михайловича то, что инстинкт самосохранения толкал на неблаговидные поступки иных его коллег, что некоторые из них научились урывать лишний кусок хлеба за счет ближнего. Ему претило подлаживанье к начальству, его тошнило от проныр и хапуг.
Один из перемышльских священников, Петр Александрович Лихачев, тотчас после Октябрьской революции подстригся (но не расстригся), сменил рясу на партикулярное платье и поступил сперва в Наробраз, потом в «Единую трудовую». Он ухитрился не снять сана, как на него ни наседали, он все увиливал и изворачивался. На одной из первых учительских конференций он с пафосом перебежчика громил интеллигенцию, как не громили ее самые ярые большевики. Вскоре после него взял слово Александр Михайлович и с присущим ему внешним спокойствием начал так:
– Священник Лихачев утверждает…
После этого выступления громовержец стал бочком пробираться к выходу.
Надо заметить, что Лихачеву то и дело наступали на любимую мозоль. Как-то по поручению матери я, еще дошкольник, зашел к тете Саше в Наробраз. В той же комнате, где и она, сидел Лихачев.
– Поздоровайся, Коля, – сказала тетка, – это Петр Александрович Лихачев.
Лихачев приятно осклабился и протянул мне руку.
– А я вас знаю, – заявил я.
– Откуда же ты меня знаешь? – выразил удивление Лихачев.
– Я помню вас, когда вы были священником во Фроловской церкви, – без всякой задней мысли, звонким детским голосом ответил я.
Лихачева перекосило.
Отравленные интеллигентской щепетильностью, учителя, дежурные по раздаче хлеба, лишний хлеб, оставшийся после раздачи потому, что не все ученики являлись, между собой не делили, хотя каждый ломтик порадовал бы их детей, малость подкрепил бы их самих. Учителя запирали этот хлеб, а на другой день ученики получали крохотные довески. Как-то дежурили моя мать, Александр Михайлович и Лихачев. По окончании раздачи Лихачев взял краюху оставшегося хлеба, не торопясь завернул ее в газету и сунул ее себе под мышку.
– А это что за хлеб? – спросил Белов.
– Ржаной, Александр Михайлович! – озорно сверкнув глазами и тряхнув головой, отвечал Лихачев.
– A-а, вот теперь я понимаю, – с видом полного удовлетворения закончил разговор Александр Михайлович.
Еще одна, последняя черта из жизни Лихачева: при НЭПе он счел для себя выгодным снова надеть рясу, но и тут выбрал путь наиболее безопасный: стал «обновленцем», «красным попом».
Как и моя мать, Александр Михайлович был непрактичен, беззащитен в звериной борьбе за существование. И его тянуло к моей матери отвести душу.
– У меня такое чувство, – сидя у нас вечерком за стаканом морковного чаю, говорил он, не повышая голоса, не ускоряя темпа речи и не жестикулируя, но с холодным отчаянием в глазах, – будто я потерпел кораблекрушение и очутился в открытом море, а ко мне со всех сторон подплывают акулы…
Александр Михайлович был холостяк. Он жил со своей старушкой матерью. В 18-м году мать умерла от «испанки». С ним поселилась его младшая сестра, Елизавета Михайловна. Она только что окончила в Москве учебное заведение, выпускавшее специалистов по дошкольному воспитанию, и взяла бразды правления в открывшемся перемышльском детском саду.
Старожилы помнили, что Александр Михайлович одно время ухаживал за учительницей Анной Николаевной Брейтфус. Анна Николаевна была натура скрытная, замкнутая, и все-таки постороннему глазу было заметно, что и она неравнодушна к Александру Михайловичу. Но почему-то дело расклеилось. И вот, когда они оба были уже немолоды, чувство и у того и у другого вспыхнуло с новой силой. Друзья Александра Михайловича и Анны Николаевны мечтали о том, чтобы эти два одиноких существа соединились.
Но тут вмешалась взбалмошная старая дева Елизавета Михайловна. Непохожие друг на друга внешне, брат и сестра были не дружны. Александр Михайлович придерживался порядка во всем. В мыслях и настроениях Елизаветы Михайловны безраздельно царил ералаш. До революции кто-то спросил Александра Михайловича, правда ли, что Елизавета Михайловна либерального направления. Александр Михайлович с полным основанием ответил: «Она бестолкового направления». Александр Михайлович рассуждал, точно теорему доказывал. Елизавета Михайловна перескакивала с предмета на предмет. Александр Михайлович говорил размеренно. Елизавета Михайловна лотошила. У Александра Михайловича был от природы хорошо поставленный бас. Елизавета Михайловна гнусавила. Александр Михайлович был, что называется, «интересным мужчиной», корректным, подтянутым чистюлей. Елизавета Михайловна была обрубковата, коротконога, с короткими руками, с широкими, короткопалыми, по-рабочему грубыми кистями. На ее мужеподобном толстоносом лице болталось пенсне с длинным черным шнурком. В любое время года от нее несло потом.
Пока Александр Михайлович не думал о перемене своей судьбы, Елизавета Михайловна жаловалась своим знакомым на его невыносимый будто бы характер, говорила, что жизнь с ним – не жизнь, а каторга. Как только Александр Михайлович порешил устроить свою судьбу иначе, Елизавета Михайловна объявила ему, что живет на свете только ради него, что если он женится, то ее жизнь потеряет смысл и она утопится. Ей удалось запугать Александра Михайловича. Она, как на аркане, потянула его к родным, в приволжское торговое село Лысково, откуда они были родом. Не дав ему проститься не только с Анной Николаевной, но и с друзьями, она увезла его из Перемышля ранним осенним утром.
С моей матерью Александр Михайлович переписывался до конца жизни. Все его письма были полны тоски по Перемышлю – по его духовной родине. На Волге он снова попал в купеческую среду, от которой давным-давно, еще мальчиком, оторвался. «В Перемышле чужие люди были мне как родные, а здесь меня окружают люди, родные по крови, но они мне чужие по духу», – писал он. В другом письме, вспоминая своих друзей, он приводил строчку из «Евгения Онегина»: «Иных уж нет, а те далече». Так, в духовном одиночестве, докоротал он свои унылые дни…
С пятого класса у нас начиналась предметная система.
Моя мать давно уже была моей учительницей. Она играла со мной во французское лото, и я шутя выучился болтать по-французски. Потом она стала регулярно заниматься со мной французским, арифметикой, потому что этот предмет давался мне трудно, и законом Божьим, потому что в советской школе его не преподавали. Теперь у меня появилась возможность наблюдать, что собой представляет моя мать не как домашняя, а как школьная учительница.
Иностранные языки – не первая скрипка в школьной программе. Но моя мать добивалась того, что иностранные языки для иных становились одним из любимых предметов. Дисциплина на ее уроках была идеальная, хотя я не помню такого случая, чтобы она кого-нибудь выгнала из класса или хотя бы повысила голос. Терпением она обладала неистощимым. Даже кряжистые дубы начинали у нее с грехом пополам изъясняться по-французски и по-немецки и получали заслуженную «удочку» – так она с ними возилась. Особенно лихой бедой было для нее начало. На одном из первых уроков немецкого языка в пятом классе мама, указывая на стену, спросила тихого, добродушного верзилу, под потолок ростом, Егоришу, как все его звали, Мысина, старшего брата того самого Коли, который чередовал катанье на санках с катаньем на собственной мягкой части:
– Was ist das?
– Кажись, die Wand, – после тягостного раздумья ответил Егориша.
Другой закоренелый двоечник, Витя Дёшин, изо всех сил старался получить «удочку» по-немецки, но все, бедняга, путал «в» с «фау». Читал он по слогам, каким-то утробным голосом и, к великому удовольствию всего класса, выговаривал так:
– Дас Цим-мер дэс Ва-тэрс…
Моя мать не подозревала, что один из ее приемов воспитывает во мне переводчика. Она говорила отличным русским языком, сочетая литературность с озорной сочностью и дерзкой свежестью просторечия. Живым русским языком переводила она тексты, предлагавшиеся в учебниках, таким же языком приучала переводить и нас, все время действуя методом сравнения, методом оттенения. Она была врагом того, что много лет спустя будет мне особенно ненавистно в художественном переводе.
– «Я имею хорошие отметки по всем предметам», – бойко переводит ученица.
Моя мать прерывает ее:
– Кабанова! Ведь вы же не скажете своим родителям: «Я имею хорошие отметки по всем предметам». Как вы им сообщите это приятное известие? Подумайте!
– «У меня хорошие отметки по всем предметам».
– Ну вот, так и надо было перевести.
Уже на первых уроках моя мать, в сущности, учила нас переводу художественно точному.
«Quelle date sommes-nous aujourd’hui?»
Моя мать добивалась, чтобы ученик понял, что в данном случае «date» по-русски означает не «дату», а «число»; далее, она добивалась, чтобы ученик правильно расставлял слова, правильно интонировал фразу:
– Какое у нас сегодня число?
На простейших примерах моя мать доказывала, что буквальный перевод – не только перевод тяжеловесный, неуклюжий, корявый, дубовый, ранящий наше эстетическое чувство – это бы еще полбеды, – что буквальный перевод сплошь да рядом искажает смысл.
– «Ces enfants travaillent trop».
– «Эти дети работают слишком», – не задумываясь, переводит Груша Замулаева.
Моя мать останавливает ее и объясняет, почему по-французски здесь стоит слово «ces», почему по-французски без него тут нельзя обойтись, а почему при переводе на русский язык в данном случае это слово оказывается лишним, и его не только можно, но и должно опустить. Да, глагол «travailler» означает прежде всего «работать, трудиться». Но нет ли в русском языке значения, более подходящего именно к данному случаю? Конечно, есть. Какой же это глагол?
– Заниматься! – отвечает сразу несколько голосов.
При переводе легчайшей, обиходной фразы моя мать заставляла ребят призадуматься над одной из основных проблем художественного перевода – проблемой слова в контексте, проблемой многогранности слова, проблемой синонимики. И, наконец, моя мать объясняла ребятам, если только они сами не догадывались, что по-русски нельзя сказать: «Дети занимаются слишком», – что по-русски после «слишком» требуется еще какое-нибудь слово – «много», «усердно» и т. д. Моя мать приучала нас при переводе французской или немецкой идиомы подыскивать соответствующую ей русскую. Она показывала на примерах, к чему приводит буквальный перевод идиоматики.
– «Il а le coeur gros». Если мы переведем это выражение слово в слово: «У него толстое (или жирное) сердце», – можно будет подумать, что речь идет о болезни сердца. Но и болезнь называется иначе: «ожирение сердца». А здесь о чем идет речь?
– О настроении.
– Правильно. Значит, как лучше это перевести?
– Ему тяжело!
– Ему грустно!
– У него на сердце тяжесть!
Исподволь моя мать подводила нас к положению, что как для перевода «Wer reitet so spät»[16],так и для перевода «Ich frage die Maus»», – в разной, понятно, степени – требуется творческий подход, что переводить – это значит не «перепирать», как выразился Тургенев в применении к переводам Кетчера из Шекспира, а перевыражать. Не только мы, но и моя мать не сумела бы привести наши наблюдения в стройную систему теории перевода (да и существует ли, впрочем, такая теория?), но на практике мы – ее воспитанники – были антибуквалистами.
Чего же достигала этим моя мать?
Для ответа на этот вопрос воспользуюсь еще одной русской поговоркой: она убивала двух зайцев. Во-первых, она оказывала немаловажную услугу преподавателю русского языка: мы и на уроках французского и немецкого языков приучались облекать свою мысль в литературную форму. Перевод литературный обостряет чувство родного языка, перевод буквальный притупляет его. Но это еще только один «заяц». При творческом подходе к переводу учащиеся гораздо лучше улавливают и схватывают тонкости изучаемого ими иностранного языка, глубже проникают в его суть, в «esprit de la langue»[17], как часто говорила на уроках моя мать. На фоне родного языка резче выступают особенности языка чужого.
Я останавливаюсь – и останавливаюсь подробно – только на одном из приемов моей матери потому, что этот прием пошел мне потом «на потребу».
Моя мать была учительницей по призванию. Она любила почти всех учеников, по-своему любила даже оболдуев и остолопов – ей нравилось высекать из этих кремней искры. Она жила интересами школы. Непорядки в школе она переживала как непорядки в собственном доме. И все-таки ее нравственное влияние на учеников, ее содействие их общему развитию было важнее того, что она давала им на уроках. Связующим звеном между нею и учениками служил я. Ко мне постоянно приходили товарищи – и «просто так», и для коллективного чтения изучаемых произведений, имевшихся в крайне ограниченном количестве экземпляров. Так, например, я прочел вслух моим приятелям «Ткачей» Гауптмана, «Обломова». Мать беседовала с моими товарищами о литературе, рассказывала им о своих московских театральных и музыкальных впечатлениях. Она создавала им атмосферу радушной простоты. Ребята не боялись ходить в дом к учительнице. Они только конфузились, когда моя мать угощала их. Ей всякий раз стоило труда перебороть их деликатность. Но она добивалась своего и хоть чем-нибудь да подкармливала их. Особенно заботилась она о крестьянских детях: они жили в городе у чужих людей, и побаловать их было некому.
В 50-х годах, когда моя мать доживала свою жизнь в Калуге, она получала от своих бывших учеников письма. Они сохранились. Привожу отрывки.
Дорогая Елена Михайловна!
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и желаем Вам доброго здоровья и благополучия в жизни.
Нет возможности в письме выразить то чувство глубокой благодарности, которое наполняет наши сердца за все, что Вы своим трудом и теплым вниманием сделали для нас.
Ваша абсолютная честность, истинно христианское человеколюбие и мужество, с которым Вы переносили тяжелые удары судьбы, служат для нас светлым примером всего лучшего, что может иметь человек.
Ваши ученики:
И. Миронов, Л. Линьков, Н. Рубисов, П. Гришечкин, С. Левашкевич.
Из письма Семы Левашкевича:
Дорогая Елена Михайловна!
………………………………………………………………………………….
Прошли долгие годы, но все свежо в моей памяти: и дом с крылечком, где так приятно проходили дни и вечера моего детства, дом, где вечерами мы собирались у самоварчика, и Ваш всегда интересный, а порой веселый и забавный разговор, и лица тех дорогих людей, которых уж нет с нами.
Могу ли я забыть Вас, когда Вы меня, нищего ребенка, волею жестокой судьбы занесенного в Перемышль[18], приблизили к своему дому, к своему сыну и сделали из меня человека? Тем, что я честный человек, я обязан только Вам.
………………………………………………………………………………….
Крепко целую Вас.
Ваш Семен. 17 марта 1959 года
Из письма Семена Левашкевича ко мне от 13 февраля 1978 года: «Да, счастливые были эти тяжелые годы детства. Был голод, тяжелая нужда, постоянная тревога за братьев, которые сражались на фронтах гражданской войны, было страстное желание учиться, с жадностью тянулись к знаниям, к настоящей культуре. В эти тяжелые годы легко можно было попасть на преступный путь. Но нам и в голову никогда не приходило украсть что-либо, нахулиганить или нагрубить старшим. Этим мы во многом обязаны нашим учителям и особенно твоей маме. Она мужественно прошла свой тернистый путь, не уронив достоинства и чести».
В пятом классе я стал изучать историю. Историю преподавала у нас перемышлянка, окончившая в Москве Высшие женские курсы, бывшая начальница перемышльской гимназии, в которую с течением лет переросла наша прогимназия, Надежда Васильевна Лебедева, жена преподавателя математики Петра Михайловича Лебедева, который после того, как техникум у нас прикрыли, стал заведующим школой-девятилеткой. (Тогда еще заведовать школами разрешалось и беспартийным; к концу 20-х годов беспартийных «завов» начали постепенно замещать партийцами.)
В пятом классе мы проходили древнюю историю. Народный комиссариат по просвещению (Наркомпрос) приказал изучать ее по учебнику Виппера. Сие пособие было написано как будто нарочно для того, чтобы раз навсегда отбить у тех несчастных, кто будет им пользоваться, всякую охоту углубляться в историю. На совесть бездарный ученый муж ухитрился один из самых увлекательных предметов покрыть пыльными волокнами скуки. Еще и сейчас, когда я слышу фамилию «Виппер», у меня зеленеет в глазах.
Те, что вроде меня обожали историю, взвыли. Мы обратились к Надежде Васильевне с мольбой: нельзя ли чем-нибудь заменить опостылевшего нам Виппера? Надежда Васильевна, в глубине души разделяя наше отвращение к этой мертвечине, пошла нам навстречу. «Зубрилы» довольствовались Виппером. А «бунтарям» Надежда Васильевна предложила записывать ее рассказы и дополнять их чтением художественных произведений на сюжеты, почерпнутые из древней истории.
Надежда Васильевна была наделена даром лектора. Ей бы надо было преподавать в высшей школе. Но у нас в классе подобрались ребята начитанные, развитые, и мы слушали Надежду Васильевну «носом и ушами» и успевали записывать самое главное. А чтобы история представала перед нами вживе, мы обращались к художественной литературе. Доходим до Юлия Цезаря – Надежда Васильевна предлагает нам прочесть трагедию Шекспира. Юлий Цезарь, Брут, Марк Антоний, Кассий, римская толпа, водоворот страстей, столкновение характеров, воль и умов – все это мы видели теперь как бы воочию. Доходим до Юлиана-отступника – Надежда Васильевна советует нам прочесть дилогию Ибсена «Кесарь и Галилеянин». Надежда Васильевна открыла нам доступ к своей библиотеке, кое-что мы выуживали из школьной и Центральной библиотек. Но вот «Спартак» Джованьоли в пересказе для школьников оказался в единственном экземпляре. Всю книгу Надежда Васильевна с пояснениями трудных мест прочла нам во внеурочное время.
Уроков истории нам не хватало. Мы тратили перемену на то, чтобы проводить Надежду Васильевну до другого школьного здания и дорогой как можно больше у нее выспросить. Но эта страница нашей школьной жизни неожиданно быстро перевернулась.
В шестом классе Надежда Васильевна уже познакомила нас с программой, и вдруг новость: история отменяется; вместо нее мы будем проходить «обществоведение», или, как потом стали называть его ребята, «обще́ство», «общество́». Преподавать новый предмет будет приехавший из Калуги питомец Советскопартийной школы («Совпартшколы»), которая горками блинов напекала преподавателей «общественно-политических дисциплин».
Обществоведы у нас почему-то долго не задерживались. Познания их не отличались ни широтой, ни глубиной. Один из них, Семен Алексеевич Стрельцов, корчил из себя оратора и любил для пущей вескости скандировать слова.
– Вот это и есть, товарищи, финансовый ко-пе-тал – заключил он свою тираду.
Итог этой реформы оказался для нас плачевен. Нам преподнесли винегрет из экономики нашего уезда (мы ходили по базарам и ярмаркам и для чего-то записывали цены на товары), политической экономии, обрывков из русской истории, которую нам показывали в кривом зеркале «Рурской истории в самом сжатом очерке» Покровского, истории революционного движения на Западе, истории революционного движения в России (начиная с декабристов) и истории Всесоюзной коммунистической партии, кончая разгромом троцкистов.
Я еще в «первоступенском» возрасте прочел несколько учебников русской истории. Я читал «Тараса Бульбу», «Бориса Годунова», драматическую трилогию Ал. Конст. Толстого, его роман «Князь Серебряный» и его исторические баллады, «Юрия Милославского», «Арапа Петра Великого», «Полтаву», «Капитанскую дочку», позднее – «Войну и мир» – это вводило меня в мир образов и событий отечественной истории. И потом я всю жизнь восполнял пробелы. А моих товарищей можно было разбудить в первосонье, и они без запинки ответили бы, кто входил в группу «Освобождение труда» (состав этой группы мы особенно хорошо знали, потому что облегчали себе процесс затверживанья: мы заучивали фамилии в таком порядке, что первые буквы фамилий освободителей труда составляли нецензурное слово), но вот о Смутном времени они имели представление самое смутное. Киевскую Русь вообще никак себе не представляли, а некоторые выходили из школы с твердым убеждением, что крепостное право отменила Октябрьская революция. История России притягивала и притягивает меня к себе и сейчас, история Востока и Запада любознательности во мне не будила, и в этой отрасли я по милости Наркомпроса так и остался недоучкой.
Когда у Надежды Васильевны отобрали уроки истории, мы долго ходили как в воду опущенные. Для Надежды Васильевны это была драма. Чтобы не расставаться со школой, она взялась преподавать географию. Я учился у нее до девятого класса включительно. Она заложила в нас прочные знания, преподавала добросовестно, но не увлеченно. Она чувствовала себя премьершей, которую ни за что ни про что перевели на второстепенные роли. Но и с географией пришлось ей расстаться. Она все сильнее глохла, и когда мы окончили школу, то преждевременно ушла из школы на пенсию и Надежда Васильевна.
В пятом классе я начал учиться у Георгия Авксентьевича Траубенберга.
Его известный в истории дальний предок – генерал-майор Траубенберг, убитый при неудачной попытке подавить предпугачевский бунт. Мать Георгия Авксентьевича – дочь священника. Его родственника со стороны матери, священника Ломакина, Советское правительство наградило медалью за мужество, проявленное им в дни ленинградской блокады. По материнской же линии Георгий Авксентьевич приходился двоюродным братом писателю Вячеславу Ковалевскому. Отец Георгия Авксентьевича – перемышльский мировой судья. Вскоре после революции он умер от истощения.
Георгия Авксентьевича Люди пожилые называли за глаза для простоты по отцу – «Мировой».
– Я спе́рва Мировому привезу, а по́том вам, – говорил крестьянин, который должен был по наряду завозить учителям дрова.
Я давно уже заметил на перемышльских улицах очень высокого, худого человека в студенческой форме, как-то странно выбрасывающего ноги при ходьбе. Мы с матерью решили, что он выработал себе такую походку из своеобразного кокетства. Оказалось, что у Георгия Авксентьевича, в детстве и в ранней юности – заправского спортсмена, атрофия мышц на руках и ногах. Болезнь не останавливалась в своем развитии. Спустя некоторое время Георгий Авксентьевич уже не мог обходиться без палки, не мог совершать далекие прогулки, не мог поднять руки выше определенного уровня.
– Я ведь очень несчастный! – в подражание Продавцу воздушных шаров из «Трех толстяков» Олеши, которых Георгий Авксентьевич видел в Художественном театре, с грустной улыбкой иногда говорил он.
Георгий Авксентьевич влюблялся в старшеклассниц, они влюблялись в него – такое особенное было у него лицо, такой занятный он был собеседник. Юный Лепорелло Георгия Авксентьевича, я относил его избранницам записки и букеты цветов. А затем Георгий Авксентьевич переламывал себя и, убежденный в том, что он, калека, не имеет права на личную жизнь, обрывал свои целомудренные увлечения.
Георгий Авксентьевич окончил Московский университет, его должны были оставить при университете, но голод погнал его обратно в Перемышль.
Его худоба при высоком росте, выбрасывание ног, яйцевидная форма головы – все это бросалось в глаза при первой встрече. Потом взгляд к этому привыкал. Внимание останавливалось на том обаятельном, что было в его внешности. Во всем очерке его не характерно русского лица было что-то оригинальное. Хищное строение широкого рта скрадывалось мягкой улыбкой, обнажавшей верхний ряд ослепительно белых, словно смеющихся зубов. Прямой, тонкий нос указывал на породистость. Очень хороши были умные, живые, карие его глаза, принимавшие то печальное, то угрюмое, то шаловливое выражение.
Фонетически сложное сочетание его имени, отчества и фамилии для многих являлось камнем преткновения. Уж как только его не звали и не величали! Интеллигенты, не знавшие немецкого языка, переставляли ударение в его фамилии: Траубе́нберг. Эта перестановка раздражала Георгия Авксентьевича. Простонародные варианты смешили его. Он коллекционировал их и ничего не имел против, когда знакомые в разговоре с ним избирали именно эти варианты. Для большинства простолюдинов он был «Егор Арсентьич», и только прислуга его московского товарища по университету выказывала оригинальность – она упорно называла его: «Егоргий Алексеич». В Перемышле его фамилия переделывалась на разные лады: Трамберг, Тромберг, Траунберг, Тимбумберг. А секретарь комитета партии Левчуков значительно усложнил и без того нелегкое произношение его фамилии. Не желая следовать готовым образцам, он предложил свой вариант: «Товарищ Тра́цуцунберг». Наконец, ученица-пятиклассняца, образование которой, впрочем, на пятом классе и оборвалось, на уроке обратилась к нему: «Рево́львер Авксентьич!»
С 20-го года Георгий Авксентьевич стал бывать у нас в доме, да все чаще и чаще. Если мы два вечера подряд не слышали в галерее знакомого стука палки, то это приводило нас в тревожное изумление.
Георгий Авксентьевич любил детей той снисходительно-долготерпеливой любовью, какой любят их только бездетные. Мы с ним привязались друг к другу быстро – и на всю жизнь. Когда я уехал в Москву учиться, мы тосковали друг без друга. Мать писала мне, что Горочка (так в Перемышле предпочитали ласкательно называть Георгиев) входит во все мелочи моего нового быта, спрашивает, кто мне стирает белье.
Георгий Авксентьевич преподавал естествознание, физику и химию. Излюбленной его областью было естествознание, а в естествознании больше всего говорила по уму и сердцу ботаника. Однако эти три области не поглощали его всецело. Он был театралом, с успехом выступал на перемышльской сцене, всегда рад был сразиться на шахматной доске, любил литературу, особенно – поэзию.
Он подробно рассказал мне, как в Художественном театре ставят «Синюю Птицу». Изобразил враждующих между собой Пса и Кота, Хлеб, вылезающий из дежи, Время, посылающее Неродившиеся Души на землю, И так раззадорил меня своим рассказом» что я попросил у матери разрешения прочитать «Синюю Птицу», Пьеса-сказка захватила меня с первых же слов, которыми обмениваются, глядя в окно, Тильтиль и Митиль… Вступив на переводческую стезю, я долго мечтал о переводе «Синей Птицы». Мне казалось, что в старом переводе диалогу недостает разговорной непосредственности» что ремарки Метерлинка» имеющие самостоятельное значение» разрастающиеся по временам в стихотворения в прозе» с прихотливым ритмическим узором, звучность которых кое-где усилена рифмой, в старом переводе выглядят по-деловому сухо, В 57-м году моя мечта сбылась.
Георгию Авксентьевичу я обязан первым знакомством с поэзией русского XX века. Моя мать» воспитанная на классике, долго ее не принимала. Она полагала, что поэты XX века – это в самом деле декаденты. Потом она сдала свои позиции – и уже не без моего влияния.
Георгий Авксентьевич принялся расширять мой читательский кругозор. Я знал стихи Бальмонта для детей, входившие в хрестоматию «Живое слово»:
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика
В сердце только грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья
Скоро Осень проснется —
И заплачет спросонья.
(«Осень»)
Мне казалось, будто я сам написал эти стихи – они изображали то, что я наблюдал из года в год, и передавали мое душевное состояние осенью.
Георгий Авксентьевич прочитал мне на память бальмонтовского «Лебедя». От частой декламации на литературно-музыкальных вечерах чуть ли не во всех городах России «Лебедь» покрылся лоском пошлости. Но мне открылся «Лебедь» во всей первозданной глубине его настроения, в чистоте напева и живописности звука:
Заводь спит. Молчит вода зеркальная
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится – печальная,
Как последний вздох души.
Это плачет лебедь умирающий
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
И горит и не горит.
Отчего так грустны эти жалобы?
Отчего так бьется эта грудь?
В этот миг душа его желала бы
Невозвратное вернуть.
Все, чем жил с тревогой, с наслаждением,
Все, на что надеялась любовь,
Проскользнуло быстрым сновидением,
Никогда не вспыхнет вновь.
Все, на чем печать непоправимого,
Белый лебедь в этой песне слил,
Точно он у озера родимого
О прощении молил.
И когда блеснули звезды дальние,
И когда туман вставал в глуши,
Лебедь пел все тише, все печальнее,
И шептались камыши.
Не живой он пел, а умирающий,
Оттого он пел в предсмертный час,
Что пред смертью, вечной, примиряющей,
Видел правду в первый раз.
Я «с голоса» выучил «Лебедя» и потом читал его моим знакомым» Старая учительница-пенсионерка Надежда Ивановна Высочинская пришла от «Лебедя» в восторг, но не хотела верить, что это стихотворение Бальмонта»
– Нет» нет» – говорила она, – декадент не мог так хорошо написать» Это он у кого-нибудь украл. Он вот какую ахинею несет…
И прочла мне наизусть четверостишие из чьей-то пародии на его стихотворение «Аромат солнца»:
Пахнут луны девами,
Грустными напевами,
Пахнут днями талыми,
Отзвуками алыми.
– Бог знает что за белиберда!
Меня потянуло к Бальмонту. И хотя время многое отшелушило из его чересчур обширного наследия, все же я и теперь, в который раз перечитывая «Безглагольность», «Фантазию», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…», «Я мечтою ловил уходящие тени…», испытываю такое чувство, будто звуковой поток подхватил меня и течет, и влечет, и несет…
Читал мне Георгий Авксентьевич и Вячеслава Иванова, даже Игоря Северянина:
Целый день хохотала сирень
Фиолетово-розовым хохотом.
Северянинский образ вызвал во мне ощущение фальшивой ноты. Как я ни напрягал воображение, а все же не мог представить себе хохочущую сирень, в цвете и запахе которой мне чудилась задумчивая печаль. Однако дерзость Северянина мне нравилась. Я еще долго дотом принимал оригинальничанье за оригинальность. (В прозе так у меня было с Пильняком.)
В зрелые годы я отвернулся от Северянина – мне претили его салонное позерство и гениальничанье. Протекло еще много лет, и я вновь вернулся к нему, хотя и без прежнего увлечения. Вновь запели во мне его особенные ритмы; я не мог не признать, что его работа над словом оставила след в русской поэзии. Не его ли неологизмы породили есенинские «водь», «бредь», «звень»?
До сих пор не уплыли из памяти строки из двух стихотворений Вячеслава Иванова, которые читал мне Георгий Авксентьевич:
А зарей задетые тростники живые
Грезят недопетые сны вечеровые…
(«Повилики»)
Лебеди белые кличут и плещутся…
Пруд – как могила, а запад в пыланиях…
…………………………………………………………
За мимолетно-отсветными бликами
С жалобой рея пронзенно-унылою,
В лад я пою с их вечерними кликами —
Лебедь седой над осенней могилою.
(«Лебедь»)
Из Блока Георгий Авксентьевич выбрал далеко не лучшее, но более или менее доступное для меня. Я знал одно-единственное стихотворение Блока, вошедшее в подаренную мне книгу «Маленьким детям – маленькие песенки»:
Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся
И пахнет весной.
Георгий Авксентьевич прочитал мне «В голубой далекой спаленке…». Мне не мог не запомниться карлик, откуда-то вылезший, остановивший часы и держащий в руке маятник. После опочившего в спаленке мальчика и сказочного карлика, после синего сумрака, окутавшего спаленку, меня три года спустя огорошили Ваньки, Катьки, Андрюхи и Петрухи на фоне завьюженного Питера. Впрочем, вся перемышльская интеллигенция, до которой «Двенадцать» дошли с большим опозданием, уже после кончины Блока, восприняла эту его поэму по-бунински – как пьяный бред хулигана.
Читал мне Георгий Авксентьевич и Брюсова: сначала Брюсова-пейзажиста, потом, когда я подрос, Брюсова-урбаниста.
Были же основания у Гумилева говорить о брюсовской нежности![19] И я узнал сначала нежного и певучего Брюсова, звуками дорисовывающего зримость осенних далей:
Ранняя осень любви умирающей!
………………………………………………
Ветви прозрачны, аллея пуста,
В сини бледнеющей, веющей, тающей
Странная тишь, красота, чистота.
(«Умирание любви»)
А когда я стал «старшим школьником», Георгий Авксентьевич прочел «Офелию» Брюсова, и она показала мне, далекому от городских «происшествий» провинциалу, страшный лик большого города, равнодушно топчущего людские судьбы.
И еще он прочел тоже ведь печального брюсовского демона – «Демона самоубийства»:
Своей улыбкой, странно длительной,
Глубокой тенью черных глаз,
Он часто, юноша пленительный,
Обворожает, скорбных, нас.
В ночном кафе, где электрический
Свет обличает и томит,
Он речью, дьявольски-логической,
Вскрывает в жизни нашей стыд.
Он в вечер одинокий, – вспомните, —
Когда глухие сны томят,
Как врач искусный в нашей комнате,
Нам подает в бокале яд.
Он в темный час, когда, как оводы,
Жужжат мечты про боль и ложь,
Нам шепчет роковые доводы
И в руку всовывает нож.
Он на мосту, где воды сонные
Бьют утомленно о быки,
Вздувает мысли потаенные
Мехами злобы и тоски.
В лесу, когда мы пьяны шорохом
Листвы и запахом полян,
Шесть тонких гильз с бездымным порохом
Кладет он молча в барабан.
Он – верный друг, он – принца датского
Твердит бессмертный монолог,
С упорностью участья братского,
Спокойно-нежен, тих и строг.
В его улыбке, страннодлительной,
В глубокой тени черных глаз,
Есть омут тайны соблазнительной,
Властительно влекущей нас…
Самым близким Георгию Авксентьевичу поэтом-символистом был Федор Сологуб. Стихи Сологуба взяли меня за сердце. И с тех пор Сологуб – один из самых дорогих мне русских поэтов.
Георгий Авксентьевич прочитал мне «Чертовы качели»:
В тени косматой ели,
Над шумною рекой
Качает черт качели
Мохнатою рукой.
Качает и смеется,
Вперед, назад,
Вперед, назад,
Доска скрипит и гнется,
О сук тяжелый трется
Натянутый канат.
………………………..
В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
– Попался на качели,
Качайся, черт с тобой! —
………………………..
Взлечу я выше ели,
И лбом о землю трах!
Качай же, черт, качели,
Все выше, выше… ах!
Символический смысл «Качелей» не дошел тогда до меня, но черт, раскачивающий качели, так и впился когтями в мое воображение.
Другие стихотворения Сологуба, которые Георгий Авксентьевич читал мне летним вечером в темноте (летом мы из экономии огня не зажигали), я тоже воспринимал поверхностно. Пока еще они были для меня однопланны.
Я острой детской жалостью жалел заблудившегося и выбившегося из сил путника:
В поле не видно ни зги.
Кто-то зовет: – Помоги!
Что я могу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,
Как помогу?
Кто-то зовет в тишине:
Брат мой, приблизься ко мне!
Легче вдвоем.
Если не сможем идти,
Вместе умрем на пути.
Вместе умрем!
Я острой жалостью жалел ребенка, замученного отцом с матерью, и в то же время упивался изысканной простотой, как бы нечаянной красотой сологубовского стиха с его сложным рифмическим узором:
Ангельские лики,
Светлое хваленье,
Дым благоуханий,
– У Творца-Владыки
Вечное забвенье
Всех земных страданий.
Навеки приворожила меня колдовская «Лунная колыбельная» Сологуба с ее словесно-ритмико-инструментальным изображением расходящихся по воде кругов, с ее убаюкивающей однострунностью, оттеняемой переборами внутренних рифм, с шепотной» усыпляющей звукописью последних ее строк:
Я не знаю много песен, знаю песенку одну,
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.
Колыбельку я рукою осторожною качну,
Песенку спою младенцу, отходящему ко сну.
Тихий ангел встрепенется, улыбнется, погрозится шалуну,
И шалун ему ответит: – Ты не бойся, ты не дуйся, я засну.
Ангел сядет к изголовью, улыбаясь шалуну,
Сказки тихие расскажет отходящему ко сну.
Он про звездочки расскажет, он расскажет про луну,
Про цветы в раю высоком, про небесную весну.
Промолчит про тех, кто плачет, кто томится в полону,
Кто закопан, зачарован, кто влюбился в тишину.
Кто томится, не ложится, долго смотрит на луну,
Тихо сидя у окошка, долго смотрит в вышину, —
Тот поникнет, и не крикнет, и не пикнет, и поникнет в глубину,
И на речке с легким плеском, круг за кругом пробежит волна в волну,
Я не знаю много песен, знаю песенку одну,
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.
Я на ротик роз раскрытых росы тихие стряхну,
Глазки-светики-цветочки песней тихою сомкну.
Вглядываясь в родную даль и ширь, я повторял строки из сологубовских «Гимнов Родине»:
Милее нет на свете края,
О Родина моя!
………………………………….
…русское сердце тоскует
Вдали от родимой земли»
«Конечно, у Сологуба видны декадентские наросты, – думалось мне, – но сердцевина у него здоровая. Трухлявому декаденту так бы не написать».
И, наконец, сухим стуком комьев земли о крышку гроба отдалось у меня в ушах стихотворение Сологуба, которое было напечатано в 18-м году, в еще не прихлопнутой большевиками газете «Утро России». Конечно, оно не вошло ни в один из послереволюционных сологубовских сборников. Мне запомнилось его начало:
Пляшет пляску нестройную
Над гробовою доской
И поет над Россией покойною:
«Со святыми упокой…»
Когда я был в пятом классе, Георгий Авксентьевич принес нам «Белую стаю» Ахматовой. Меня тогда же изумило уменье поэтессы просто разговаривать с читателем, просто о чем-то ему рассказывать, но так, что этот непринужденный рассказ, этот свободный разговор не теряет музыкальной прелести стиха. Наиболее сильное впечатление произвели на меня два ее стихотворения, в которых звучит мотив материнства:
«Где, высокая, твой цыганенок,
Тот, что плакал под черным платком,
Где твой маленький первый ребенок,
Что ты знаешь, что помнишь о нем?»
«Доля матери – светлая пытка,
Я достойна ее не была.
В светлый рай растворилась калитка,
Магдалина сыночка взяла.
Каждый день мой – веселый, хороший,
Заблудилась я в длинной весне,
Только руки тоскуют по ноше,
Только плач его слышу во сне.
Станет сердце тревожным и томным,
И не помню тогда ничего.
Все брожу я по комнатам темным,
Все ищу колыбельку его».
И второе:
Буду тихо на погосте
Под доской дубовой спать,
Будешь, милый, к маме в гости
В воскресенье прибегать —
Через речку и по горке.
Так что взрослым не догнать,
Издалека, мальчик зоркий,
Будешь крест мой узнавать.
Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припоминать:
Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать.
Это стихотворение по-особенному меня волновало. Моя мать была совсем не такой, как в стихотворения Ахматовой: она хоть и редко, но бранила меня, часто ласкала и водила причащать. Но вше почему-то до боли отчетливо представлялось, что и я скоро буду бегать – так, что взрослым не догнать, – на могилу моей матери по извилистой тропинке, ведущей на могилы моего отца и няни. И еще потому, наверно, именно эти два стихотворения Ахматовой так полюбились мне, что их сначала прочитал вслух Георгий Авксентьевич, а читал он стихи хорошо.
Георгий Авксентьевич обладал приятного тембра баритоном, слух же у него оставлял желать лучшего. Но Вертинского он мне напевал верно.
Я ни тогда, ни после не улавливал в песнях Вертинского пошлости. Мне и в дореволюционных его песнях слышалась в детстве, как слышится и теперь, боль душевно ранимого человека, впоследствии слившаяся с тоской по родине. Вертинский пел о мечтах и надеждах, застывающих на ледяном ветру, о жестокой насмешливости судьбы, о горечи непонятых и неразделенных чувств, о разбитых жизнях, о девушке, «кокаином распятой в мокрых бульварах Москвы», о любимой женщине, покончившей с собой, о смерти, как о спасительном забвении «всех земных страданий», И детская душа моя отзывалась на музыку Вертинского, надтреенутость которой выражала его душевный надлом, музыку, родившуюся в том же обреченном, еще до осенних ветров облетавшем мире, что и поэзия Сологуба, Брюсова, ранней Ахматовой, и похожую то на шелест листопада, то на придушенные рыдания:
Ваши пальцы пахнут ладаном
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.
И когда Весенней Вестницей
Вы пойдете в синий край,
Сам Господь во белой лестнице
Отведет вас в светлый Рай.
Тихо шепчет дьякон седенький,
За поклоном бьет поклон
И метет бородкой реденькой
Вековую пыль с икон.
Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.
В пыльный маленький город, где Вы жили ребенком,
Из Парижа весной Вам пришел туалет.
В этом платье печальном Вы казались «Орленком» —
Бледным, маленьким герцогом сказочных лет.
В пыльном маленьком городе, где балов не бывало,
Даже не было просто приличных карет,
Годы шли, Ваше платье увяло,
Ваше дивное платье «Maison Lavalette».
Но случайно сбылися мечты сумасшедшие
Платье было надето, фиалки цвели,
И какие-то люди, за Вами пришедшие,
В катафалке по городу Вас повезли.
На слепых лошадях колыхались плюмажики,
Старый попик усердно кадилом махал,
– Так весной в бутафорском, смешном экипажике
Вы поехали к Господу Богу на бал.
Много лет спустя я рад был узнать, что Вертинского, как создателя особого песенного жанра, в котором ему и как автору, и как композитору, и как исполнителю не было равных, высоко ценил Шаляпин.
Итак, дверь, ведущую в мир русской предреволюционной поэзии, отворил мне естественник»
Любитель и знаток поэзии, Георгий Авксентьевич был поэтом в педагогике. Оттого, вероятно, я, не испытывавший тяготения к точным наукам, увлекся химией и естествознанием.
Химия рисовалась мне сказкой-былью, и она цвела, эта сказка, и она звучала.
– Ацидум ни́трикум фу́манс! – гремел весь наш класс, и Георгий Авксентьевич улыбкой поощрял эту нашу хоровую декламацию, как поощрял он ее и на уроках кристаллографии (в мое время программа средней школы включала в себя не только ботанику и зоологию, но и кристаллографию, минералогию и геологию);
– Окта́эдр! Ромбический додека́эдр!
Химия проникала и в наш речевой обиход, вплеталась в житейскую прозу. Если у кого-нибудь из учеников обувь весной или осенью просила каши, он говорил: «Сапоги мои – того: пропускают Н2О». И даже бранились мы, прибегая к химическим эвфемизмам: «Ангидрит твою перекись марганца!»
Рассказ Георгия Авксентьевича о геологической праистории нашего края оборачивался пейзажной поэмой, точной в каждой своей подробности. Исчезал Перемышль, исчезали деревни на том берегу Оки, исчезали луга и озера, между отвесными берегами пустынно, раздольно несла свои воды река… Мы ходили с Георгием Авксентьевичем на ботанические экскурсии и пополняли школьный гербарий. Вылавливали из озер жуков-плавунцов. Жуки поселялись на подоконниках нашего класса в стеклянных банках. Мы каждый день меняли им воду, кормили их и вели дневник, куда заносили события жучиной жизни.
Держал себя с нами Георгий Авксентьевич не как строгий ментор, а как взыскательный старший товарищ. Но мы не забывались. Он над нами подтрунивал. Но мы не обижались. Он редко сердился на тупиц – он умел свое раздражение растворить в шутке…
Сын перемышльского сапожника Слонковский, дурошлеп, невесть какими судьбами перескочивший в пятый класс, отвечает на заданный ему вопрос, как происходит опыление у таких-то растений:
– Ета… утета… он летить…
Продолжительное молчание.
– Дальше, сэр! – невозмутимо обращается к незадачливому ботанику Георгий Авксентьевич.
Болезнь не вытравила из Георгия Авксентьевича жизнерадостности. Время от времени на него находила хандра. Он и в мрачном расположении духа приходил вечерами к нам… На людях и смерть красна… Мы его не трогали, не пытались разговорить, занимались своими делами. Он молча курил, молча пил чай, потом уходил. С годами приступы тоски сошли на нет. Георгий Авксентьевич словно свыкся со своей бедой. Да и продолжались эти приступы тоски недолго. Вот опять перед нами прежний Горочка, словоохотливый умница и забавник, мастер на прозвища.
В Бога Георгий Авксентьевич верил, но временами в нем поднимался иван-карамазовекий бунт, еще жарче разгоравшийся, когда он думал о своей недоле. В частных беседах он нет-нет да и ругнет попов. Но он был интеллигентом чистой воды, и у него вызывали негодование все виды насилия, в частности – насилие над религией. Играя Сатина, он так произносил его слова, относящиеся к Татарину: «Он – молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить… Это его дело! Человек – свободен…», что имевшие уши догадывались без труда, к кому обращен негодующий монолог артиста. Перед войной Георгий Авксентьевич все твердил, что за обезглавленные и поруганные храмы русским людям не миновать возмездия. Теорию Дарвина он излагал нам подробно и внятно, но без сочувственных комментариев и не скрывая от нас расхождений с Дарвином Уоллеса, признававшего вмешательство высшей силы в жизнь на Земле.
Георгия Авксентьевича заставляли выступать с докладами под Пасху. Он делал строго научные доклады, заканчивал их не позднее половины двенадцатого и шел к нам христосоваться и разговляться. В этих докладах не было ни единого слова «против Бога» и «против попов», и все-таки они его тяготили, и он ругал их устроителей непечатными словами.
В первые годы нашего знакомства из слов Георгия Авксентьевича явствовало, что он – ярый противник самодержавия. Но гнет «Совдепии» грубел и наглел, и Георгий Авксентьевич затосковал по ушедшей России.
Я часто от него слышал:
– Ах, какая тогда (то есть до революции) была свобода, Любимов! (Он шутки ради называл меня по фамилии и в домашней обстановке.) Ты себе представить не можешь, какая была тогда свобода по сравнению с тем, что теперь! Оценили мы ее, когда не только крестьян, а и нас всех закрепостили.
Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.
Если бы Георгий Авксентьевич читал «Окаянные дни» Бунина, он, конечно, привел бы и эти всеохватывающие в своей сжатости, сдержанные в своем страстном отчаянии строки: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье!»
В разговоре с тетей Сашей Георгий Авксентьевич дал своеобразное толкование марксистско-ленинской диалектики:
– Вы отказываетесь понять, Александра Михайловна, почему мы одно время носились с купцами, величали их «красным купечеством», а теперь сгибаем в бараний рог? Странный вы человек, Александра Михайловна! Да ведь это же и есть диалектика! Сегодня я у вас в гостях мирно пью чай, вы меня угощаете вареньем разных сортов, а завтра я приду и напакощу на ваш обеденный стол. И когда вы устремите на меня вопросительный взгляд, я вам отвечу: «Ничего не поделаешь, Александра Михайловна! Диалектика!..»
В 30-х годах с учителей начали драть десять шкур. От них требовали все больше и больше общественной работы, понукали их, подстегивали кнутом, но овсом не кормили. Георгий Авксентьевич мрачно острил:
– Скоро нас вместо Васи Грибова (перемышльского золотаря) заставят бочки вывозить. И что вы думаете? Ведь повезем! Да еще и на бочки влезем, если прикажут, а если пообещают прибавить сахару по карточкам, так еще и «Интернационал», сидя на бочках, в благодарность затянем. Это будет художественно… Помните анекдот? К Ленину пришел корреспондент иностранной газеты и сказал: «Вы в короткий срок сумели добиться от граждан беспрекословного повиновения. Почему же вы не потребовали от них, чтобы они поползли перед вами?» А Ленин ему: «Боюсь, что поползут»… Тихий ужас…
Современную литературу Георгий Авксентьевич почти не читал. Советских писателей презирал за мелкотравчатость и подхалимство. Восхищался лишь Сергеевым-Ценским и Есениным. Нравились ему и некоторые рассказы Пильняка, пьеса Катаева «Квадратура круга», пьеса Карташева «Наша молодость» по повести Виктора Кина «По ту сторону» (обе пьесы он видел в Художественном театре). На «Дни Турбиных» он, как ни рвался, так и не попал.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
12
– Ах, я видела, я видела, —
Говорит мне ласточка,
– Ах, я видела, я видела! —
– Что же ты видела, птичка?
– Я видела, как дети
Бегают по полям,
Я видела, как все зеленеет,
Я видела, как все цветет (франц.)
13
Я спрашиваю мышь:
– Где твой дом? (нем.)
14
В «Очерках по истории русской культуры» П. Н. Милюкова (Современные записки. Париж, 1930. Т. 2. С. 269) я прочел подстрочное примечание: «Епископ Иерофей Афонин, открыто разорвавший с Сергием и увлекший за собою епархию, был <…> арестован агентами ГПУ и при сопротивлении крестьян деревни, где был захвачен, застрелен ими (недалеко от гор. Никольска Великоустюжского округа)». Уж не они ли это?.. Тот Иерофей, которого я помню, стойкий тихоновец, смотревший на всех, отколовшихся от патриарха Тихона и подчинившихся «обновленческому» Синоду, как на христопродавцев, вполне мог порвать и с патриаршьего места блюстителем (будущим патриархом) Сергием за его покорство мирской власти. Уж не он ли это – Иерофей, епископ Велико» устюжский, викарий Вологодский, расстрелянный в 1928 году?..
15
Переосмысленная цитата из ектеньи: «Еще молимся за всю братию и за вся христианы».
16
«Кто скачет так поздно…» (нем.) – начало баллады Гёте «Лесной царь».
17
«Дух языка» (франц.).
18
Левашкевича были беженцы из Западной Белоруссии.
19
См. статью Н. С. Гумилева «Жизнь стиха, III» (вошла в его книгу «Письма о русской поэзии». Пг., 1922).