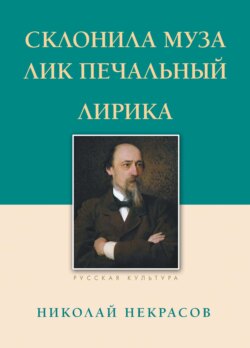Читать книгу Склонила Муза лик печальный - Николай Некрасов - Страница 4
1846
ОглавлениеПеред дождем
Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой
Набегает холодок.
Полумрак на всё ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.
Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перед закрыт;
И «пошел!» – привстав с нагайкой,
Ямщику жандарм кричит…
Огородник
Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,
Не лежал я во рву в непроглядную ночь,—
Я свой век загубил за девицу-красу,
За девицу-красу, за дворянскую дочь.
Я в немецком саду работал по весне,
Вот однажды сгребаю сучки да пою,
Глядь, хозяйская дочка стоит в стороне,
Смотрит в оба да слушает песню мою.
По торговым селам, по большим городам
Я недаром живал, огородник лихой,
Раскрасавиц девиц насмотрелся я там,
А такой не видал, да и нету другой.
Черноброва, статна, словно сахар бела!..
Стало жутко, я песни своей не допел.
А она – ничего, постояла, прошла,
Оглянулась: за ней как шальной я глядел.
Я слыхал на селе от своих молодиц,
Что и сам я пригож, не уродом рожден,—
Словно сокол гляжу, круглолиц, белолиц,
У меня ль, молодца, кудри – чесаный лен…
Разыгралась душа на часок, на другой…
Да как глянул я вдруг на хоромы ее —
Посвистал и махнул молодецкой рукой,
Да скорей за мужицкое дело свое!
А частенько она приходила с тех пор
Погулять, посмотреть на работу мою
И смеялась со мной и вела разговор:
Отчего приуныл? что давно не пою?
Я кудрями тряхну, ничего не скажу,
Только буйную голову свешу на грудь…
«Дай-ка яблоньку я за тебя посажу,
Ты устал, – чай, пора уж тебе отдохнуть».
– Ну, пожалуй, изволь, госпожа, поучись,
Пособи мужику, поработай часок.—
Да как заступ брала у меня, смеючись,
Увидала на правой руке перстенек…
Очи стали темней непогодного дня,
На губах, на щеках разыгралася кровь.
– Что с тобой, госпожа? Отчего на меня
Неприветно глядишь, хмуришь черную бровь?
«От кого у тебя перстенек золотой?»
– Скоро старость придет, коли будешь всё знать.
«Дай-ка я погляжу, несговорный какой!» —
И за палец меня белой рученькой хвать!
Потемнело в глазах, душу кинуло в дрожь,
Я давал – не давал золотой перстенек…
Я вдруг вспомнил опять, что и сам я пригож,
Да не знаю уж как – в щеку девицу чмок!..
Много с ней скоротал невозвратных ночей
Огородник лихой… В ясны очи глядел,
Расплетал, заплетал русу косыньку ей,
Цаловал-миловал, песни волжские пел.
Мигом лето прошло, ночи стали свежей,
А под утро мороз под ногами хрустит.
Вот однажды, как я крался в горенку к ней,
Кто-то цап за плечо: «Держи вора!» – кричит.
Со стыдом молодца на допрос привели,
Я стоял да молчал, говорить не хотел…
И красу с головы острой бритвой снесли,
И железный убор на ногах зазвенел.
Постегали плетьми, и уводят дружка
От родной стороны и от лапушки прочь
На печаль и страду!.. Знать, любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь!
«Я за то глубоко презираю себя…»
Я за то глубоко презираю себя,
Что живу – день за днем бесполезно губя;
Что я, силы своей не пытав ни на чем,
Осудил сам себя беспощадным судом
И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб! —
Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб;
Что, доживши кой-как до тридцатой весны,
Не скопил я себе хоть богатой казны,
Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,
Да и умник подчас позавидовать мог!
Я за то глубоко презираю себя,
Что потратил свой век, никого не любя,
Что любить я хочу… что люблю я весь мир,
А брожу дикарем – бесприютен и сир,
И что злоба во мне и сильна и дика,
А хватаясь за нож – замирает рука!
Тройка
Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Всё лицо твое вспыхнуло вдруг.
И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.
На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь;
Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается легкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.
Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.
Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна и легка…
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.
Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.
От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.
И в лице твоем, полном движенья,
Полном жизни, – появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.
И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.
Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!
Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки,—
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой…
Родина
И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно растленной,
Так рано отлетел покой благословенный,
И неребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег…
Воспоминания дней юности – известных
Под громким именем роскошных и чудесных,—
Наполнив грудь мою и злобой и хандрой,
Во всей своей красе проходят предо мной…
Вот темный, темный сад… Чей лик в аллее дальной
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил… о! знаю, знаю я!..
Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде —
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы…
Но знаю: не была душа твоя бесстрастна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
И всё, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шепот твой губителю простил!..
И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила…
Но, матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.
Вот серый, старый дом… Теперь он пуст и глух:
Ни женщин, ни собак, ни гаеров, ни слуг,—
А встарь?.. Но помню я: здесь что-то всех давило,
Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло.
Я к няне убегал… Ах, няня! сколько раз
Я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час;
При имени ее впадая в умиленье,
Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?..
Ее бессмысленной и вредной доброты
На память мне пришли немногие черты,
И грудь моя полна враждой и злостью новой…
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но всё, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым,—
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..
И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада,—
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий,
И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил…
«В неведомой глуши, в деревне полудикой…»
(Подражание Лермонтову)
В неведомой глуши, в деревне полудикой
Я рос средь буйных дикарей,
И мне дала судьба, по милости великой,
В руководители псарей.
Вокруг меня кипел разврат волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубые черты.
И прежде, чем понять рассудком неразвитым,
Ребенок, мог я что-нибудь,
Проник уже порок дыханьем ядовитым
В мою младенческую грудь.
Застигнутый врасплох, стремительно и шумно
Я в мутный ринулся поток
И молодость мою постыдно и безумно
В разврате безобразном сжег…
Шли годы. Оторвав привычные объятья
От негодующих друзей,
Напрасно посылал я поздние проклятья
Безумству юности моей.
Не вспыхнули в груди растраченные силы —
Мой ропот их не пробудил;
Пустынной тишиной и холодом могилы
Сменился юношеский пыл,
И в новый путь, с хандрой, болезненно развитой,
Пошел без цели я тогда
И думал, что душе, довременно убитой,
Уж не воскреснуть никогда.
Но я тебя узнал… Для жизни и волнений
В груди проснулось сердце вновь:
Влиянье ранних бурь и мрачных впечатлений
С души изгладила любовь…
Во мне опять мечты, надежды и желанья…
И пусть меня не любишь ты,
Но мне избыток слез и жгучего страданья
Отрадней мертвой пустоты…
«Так, служба! Сам ты в той войне…»
– Так, служба! сам ты в той войне
Дрался – тебе и книги в руки,
Да дай сказать словцо и мне:
Мы сами делывали штуки.
Как затесался к нам француз
Да увидал, что проку мало,
Пришел он, помнишь ты, в конфуз
И на попятный тотчас драло.
Поймали мы одну семью,
Отца да мать с тремя щенками.
Тотчас ухлопали мусью,
Не из фузеи – кулаками!
Жена давай вопить, стонать,
Рвет волоса, – глядим да тужим!
Жаль стало: топорищем хвать —
И протянулась рядом с мужем!
Глядь: дети! Нет на них лица:
Ломают руки, воют, скачут,
Лепечут – не поймешь словца —
И в голос, бедненькие, плачут.
Слеза прошибла нас, ей-ей!
Как быть? Мы долго толковали,
Пришибли бедных поскорей
Да вместе всех и закопали…
Так вот что, служба! верь же мне:
Мы не сидели сложа руки,
И хоть не бились на войне,
А сами делывали штуки!