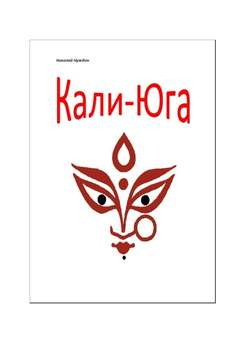Читать книгу Кали-Юга. Повесть-эссе - Николай Нуждин - Страница 2
ОглавлениеКали-Юга.
(Записки эпохи Вырождения)
23 января 5193 г.
Осталось 426807 лет.
Добрая Кали-Юга бесплатно лечит убогих органиков электрошоком.
«Самогонки».
Где мы? Да, где мы потерялись или остались? Где тот пламень, что сжигал сердца в золу и нервы превращал в труху, всего лишь каких-то десять-пятнадцать лет назад? Где то залихватское чувство безграничного могущества, которое позволяло не обращать внимания ни на разбитые губы, ни на мороз, ни на жару, ни на снег с градом. Это чувство повелевало тобой, когда ты в ночь, в буран шел постоять под окошком своей любимой до тех пор, пока в нём не погаснет ярко-жёлтый электрический свет.
Да, постарели, обрюзгли или же наоборот, стали взрослее, мудрее, степеннее. На улице метёт, но выходить никуда не хочется, даже за булкой белого хлеба, которого очень хочется красавице-жене. Она сидит рядом. О чём-то бормочет телевизор. И тепло, и уютно. Кот, насмотревшись в окно на погодные катаклизмы, свернулся в «собаку» и смотрит сны про тучные стада деревенских мышей.
Пёс тоже спит, тихонько гавкая во сне и дёргая всеми лапами. Он тоже смотрит сны, но только про зайцев, перепёлок и прочую живность, пасущуюся на полях вечной охоты. Когда-нибудь мы будем охотиться там вместе, если, конечно, туда вообще пускают людей.
А жизнь несётся час за часом как скорый «Москва – Воркута», лязгая сцепками и покрикивая утробным могучим рёвом на полустанках. И несётся он неведомо куда, но предположительно в тупик, из которого нет выхода. Многим кажется, что поезд летит в пропасть, где рельсы словно перекушены и вывернуты под немыслимыми углами. Тогда состав срывается с невероятных градусов, рвётся как тонкая нитка, искрит колёсами, из топки взметается пламя. Котёл взрывается, состав падает в глотку пропасти. Всё. Конец.
И не ходить уже в сабельные атаки. Не бросаться грудью на амбразуру ДЗОТа, не сидеть у костра под гитару, не взмывать в небо на краснозвёздном самолёте.
Ты ведь помнишь, как всё было.
Тогда было не так страшно. Пусть танковые колонны и рассекали стрелы столичных проспектов. Пусть БТРы и давили зевак. Страшна была эпоха.
…у каждой эпохи свои кошмары. Античность ужасалась природных катаклизмов, приписываемых играм богов; необъятного Космоса, пугавшего своей неизмеримостью.
Просвещённый Рим страшился непредсказуемых опасностей, таившихся в лесах, пустынях, в горах и в глубинах «Mare Nostrum». В общем там, где ещё не прошлись римские манипулы, и где рядовой гражданин оставался один на один с неизвестностью. Всё же, что было исчислено, взвешено, разделено и, признано годным к употреблению, становилось скучным и обыденным, – будь то боевые слоны Ганнибала или воинственные африканские женщины.
С проникновением в умы христианства сменилась и эпоха, кошмары стали новыми, доселе невиданными и неслыханными. Всё Средневековье прошло под знамёнами пришествия Антихриста и Конца Света (О! Да здравствует Средневековье! Ты с нами!). Страшный суд ждал за каждым углом и каждую минуту. Глобальная турецкая напасть олицетворяла собой заговор Сатаны, его воинственные полчища и погибель всего крестного мира. Янычарами пугали ребятишек и католических величеств.
Страх смерти был не просто страхом смерти от войны, голода или мора. Это страх адского пламени, погибель в лапах Сатаны. Такая вот экзистенциальная проблема. И костры запылали…
С Ренессансом появляется крайний индивидуализм и наружу вырывается разрушительная сила страсти и жестокости. Смена эпох заставляет испытывать боязнь нового и неожиданного. Но более всего эпоха боялась одиночества. Одиночества своих страстей и насилия своего эгоизма. Человек начинает страшиться самого себя, а вместе с ним его начинает страшиться эпоха.
Колесо провернулось. Костры Священной Конгрегации инквизиции были потушены паровыми помпами, а электрический свет разогнал привидений. Мир стал мельчать. За океан уже можно было добраться за несколько дней. «Гардиан», «Таймс» и «ВЂдомости» рассказывали, зевающему от скуки читателю, о событиях в Африке, произошедших буквально вчера.
Кошмары Нового времени росли вместе с наукой и экономикой. Социальные проблемы вызывают гнетущие страхи за своё будущее и будущее своих детей, а иногда уже и за настоящее. Медицина улучшается. С ней же улучшаются и болезни. Жизнь становится призрачно хрупкой. На этой волне кошмар непонятного «изма» захватывает планету. А за ним «измы» начинают множится и разбухать как на дрожжах. Коммунизм, фашизм, нацизм. Опять полыхают костры. Сначала из книг, потом из их авторов, кто остался. Всё снова предвещает конец света. Но не успело человечество как следует испугаться, как тринадцатикилотонный «Малыш» и двадцатикилотонный «Толстяк» ввергли биомассу в состояние перманентной и непрерывной истерии. Кошмар атомной бомбы стал самоубийственным в самом буквальном смысле этого слова.
Есть кошмары и у нашей дорогой Кали-Юги. Скорее даже не так. Сама Кали-Юга стала кошмаром. Радиоактивность, химическое загрязнение, грязная вода, не менее грязный воздух, нехватка не менее грязного воздуха, озоновая дыра, успехи генной инженерии, вырубка амазонских лесов, перенаселение, астероиды, кометы, голод… Ну и на этом фоне мелочи вроде экономических кризисов и взрывов химических заводов, не говоря уж о массовых отравлениях продуктами питания – кажутся сущими пустяками. Жду возрождения старой традиции отмечать все неприятности кострами, сначала из книг, потом из людей. И как бы я не пытался уверить себя, что этого больше не случится, что мы уже повзрослели, цивилизовались, стали культурнее; неприятный маленький чёртик так и шепчет – не надейся, они запылают.
Есть ли в таком случае у меня или у тебя завтрашний день? Или уже пора обозреть всю свою жизнь единым взглядом? Если успею. До конца Кали-Юги.
3 октября 5174 г.
Осталось 426826 лет.
Танки шли. Ещё один кошмар. Шли ровной колонной. Потом рассыпались трёхрядной ступенькой и открыли огонь. Пара вертолётов шуршала в небе, облетая здание. Залп! Попадание. Будто кино, на экране шли последние новости. В столице опять стреляли. Может по радио что-то хорошее, доброе. Ну хотя бы «Лебединое озеро». О! Благословенное Радио! Да будешь пребывать ты во веки веков! Радио меня всегда спасало. От шизофрении, от паранойи, от меланхолии и суицидальных склонностей. Как приятно в темноте глубокой ночи крутить ручку приёмника и слушать, слушать, слушать…
Вот в эфире растекаются грустные тягучие арабские напевы. Рядом, надрываясь кричит грубый гортанный голос. Задыхается, сбивается и начинает снова кричать в микрофон. Фоном к его выступлению служит рёв двигателей, канонада, взрывы, кашляющий треск автоматных очередей, легко узнаваемый на слух. АКМ-74. Самое революционное в мире оружие.
Крутим верньер дальше. Там нежное женское контральто, на незнакомом языке проникновенно шепчущее о любви… или о сводке с Токийской биржи. Нет, хотелось бы, чтобы на таком языке говорили только о любви.
Ещё дальше по шкале – славянские песни; филиппинский фестиваль народной музыки; многократно усиленный транслятором приказ на английском бомбить указанные цели; вздохи «O! Girls! Girls-s-s-s-s!»; аритмия африканских барабанов, и ещё, ещё, ещё. Так можно провести вечность, вслушиваясь в электромагнитное дыхание планеты.
Иногда натыкаешься на странные разговоры, состоящие из обмена буквами и цифрами. Пара минут и связь прекращается. Это радиолюбители. Единственная каста, которой радио не нужно как средство достижения каких-то целей. Оно просто есть и они этому рады. Иногда слышишь сигналы о помощи на незнакомых языках, иногда всплески радости, и всем им неизменно сочувствуешь и хочешь быть непременно там, с ними, и в беде, и в радости. Но чаша сия миновала.
Остается радио и ночные бдения. После которых – блокноты и тетради, заполненные записями, когда корявыми и пьяновалящимися в стороны, когда ровными, почти каллиграфическими. Всё зависит от фаз Луны, пятен на Солнце и ветров, дующих с мельницы богов.
…«Вы видели когда-нибудь те зелёные автобусы, которые раз в неделю отправляются в дорогу с вокзала вашего города. Может быть эти автобусы и совсем другого цвета. Но чаще всего зелёного, тёмно-зелёного. Цвета соснового леса или затянутого ряской пруда. Все они объединены одной фанатичной целью – добраться в Наш город. Он не отмечен на картах (не спешите тасовать колоду), на дорогах не бывает ГАИ.
А если вы не знаете, что ждёт вас впереди, а вы этого точно не знаете, то покупайте билет на тот самый зелёный автобус и не бойтесь быть единственным пассажиром, потому что…»
– Иди обедать, – донеслось с кухни.
– Иду.
Это моя бывшая жена. Вернее сейчас она уже бывшая, а когда я писал про Наш город она была ещё настоящей женой.
«Письменный стол, компьютер, ручка, карандаши, блокноты, бумага, мусор в пепельнице, потухшая сигарета в пальцах – это я». Вернее та модель «меня», которая действует здесь и сейчас. Но вот я встану из-за стола, выброшу окурок и стану совсем другим. Ну, может, не совсем, но другим. Чтобы та женщина на кухне снова не смотрела на меня наполненными испугом глазами. Именно тогда я начал писать стихи, а стихи и любовь к женщинам две вещи абсолютно несовместные.
Осторожно, не дыша, я достаю с полки, из-за книг початую бутылку аперитива и делаю большой глоток. Не успел. Даже острота реакции не спасла, хотя и не подвела. В дверях, опираясь о косяк, стояла она. Никто ничего не сказал. Она развернулась и, опустив голову, ушла.
«Теперь будет плакать» – догадался я, ставя бутылку на место. В прихожей зазвонил телефон. Из кухни уже раздавались всхлипывания. Я вздохнул. Теперь, последние пять лет это повторялось постоянно: она плакала, я вздыхал… и шёл снимать трубку. День начинался отвратительно.
Звонили из редакции и просили доработать рассказ, который я отправил им ещё две недели назад. Рассказ конечно был не очень, я и сам это прекрасно понимал, но деньги за него бы пригодились семейному бюджету. «Да, конечно. Да, я сделаю. Да, изменю. Да, именно так, как вы хотите. Конечно. Сегодня же займусь». Пока я выслушивал их довольно глупые претензии к моральному облику моих героев, жена включила телевизор. Опять новости. Какие-то нерадостные нынче новости.
– Сделай погромче!
«… в назначенное время не вышла на связь. Предположительно лодка находится на дне, на глубине полторы тысячи метров. Ведутся широкомасштабные поиски. В них участвуют силы Северного флота и зарубежные спасательные группы из Норвегии и Великобритании. А теперь – новости культуры».
– Саш, можно уже убавить? Орёт больно.
– Да, можно.
В трубке всё ещё жил нудный и тусклый голос редактора, после которого курить хотелось неимоверно, как после водки. Благо сигареты рядом. «Максим». Нет, ну назовут же. Я закурил. В квартире. Жена опять будет ругаться. И плакать. Да, конечно, я пил, много пил. Курил по паре пачек в день. Носки менял раз в неделю. Ночами сидел на кухне и строчил свои стишки и ваял прозу. Но разве это причина для постоянной ругани, стычек, сцен ревности, необоснованных кстати. Все деньги я приносил домой. Все без исключения. Мало конечно, но этого хватало. Да и рассказы мои уже более охотно стали брать в печать. Тоже копейка гонораров. Ну не член Союза писателей. Не тысячами долларов гонорары. Зато признан, узнаваем, читаем, востребован. Что нужно ей??? Ведь и любовь была. Романтические свидания, продолжавшиеся до четырёх утра и заканчивавшиеся, как правило, поцелуем в загаженном подъезде на четвёртом этаже. Поцелуй обычно продолжался полчаса. Эх, волны моей памяти. Не целовались мы уже где-то полгода. И ещё дольше не спали вместе. Как всё прошло – никто и не заметил. Остался только штамп в паспорте. Конечно, она права, она хочет большего, – семью, детей, квартиру, машину. Так почему же этого не хочется мне? А мне чего хочется? Выковыривать ночами из своей головы насекомоподобные мысли и расчерчивать ими белые листы своего будущего? Что за будущее может быть у человека, которому ничего не надо? Какое-то тухлое, мутное и загадочное будущее вырисовывается. Где-то лет через пятнадцать-двадцать меня можно будет встретить в коллекции местного бомжатника. Это в лучшем случае. В худшем я загнусь гораздо раньше от водки, сигарет и баб. Бабы меня точно доконают. Любить их вредно, а не любить не могу. Отсюда и водка. Ну не только отсюда. Она ещё и здорово помогает составлять буквы в слова и предложения. Соавторство. Печальное, ибо неразрывное и бесконечное. Ещё печальнее тем парням на глубине в полтора километра в своём железном гробике. Скорее всего они уже не выберутся, а у нас есть шанс начать другую жизнь. Например, развестись. Но это может подождать. А пока может быть начать вот так – «Сначала, когда турбины заглохнут и тридцатитонные винты перестанут бесполезно перемалывать воду, будет тишина».
Сентябрь 51хх г.
Осталось четыреста с лишком тысяч лет.
…я никогда не любил сигнал домофона, который напоминает визг испуганной женщины. Но это был единственный звук, выводивший меня из оцепенения.
В квартире был бордель. Не буквально. Еда, выпивка, журналы, презервативы, женские трусики и прочие компоненты белья, подушки, одеяла валялись по всему дому не исключая книжные шкафы и холодильник. В ванной описывала циркуляцию средних размеров щука.
Так какая эта уже сигарета? Девятнадцатая или двадцать девятая? Да и хрен с ней. Может быть всё не так уж плохо, если не ещё хуже. Конечно, выбор есть. Можно открыть дверь и увидеть там ещё одного распространителя, пытающегося с нудной игривостью всучить Новую Эксклюзивную Программируемую Двадцатичетырёхскоростную Хлеборезку, сильно смахивающую на золингеровский кухонный нож китайского происхождения, стоящий пару десятков денег на воскресном рынке; или дельцов из Объединённой Методистской Церкви Евразии; или соседа, вымогающего любые банкноты и монеты на «опохмелиться»; или Марго, которая опять будет пытаться наставить на путь истинный бывшего (да и настоящего – без кавычек) любовника. И ведь будет.
Или… не открывать. Тогда торгаши тихо слиняют; рядовые солдаты Церкви оставят под дверной ручкой шепелявый буклетик «Кто правит миром?» или «Господь ведёт нас за собой»; Марго… а что Марго? Потрезвонит ещё малость и сунет в почтовый ящик записку с обещанием поджечь квартиру, если я в следующий раз не открою. Но домофон продолжал пронзительно выматывающее визжать. Где-то в закоулках черепа шевельнулось любопытство. Пришлось в который раз пересилить себя и подойти к двери. Люди, стоявшие на пороге не были торгашами, не были одеты в фиолетовые рясы и среди них не было Марго.
Тот, что пониже ростом, в тёмно-сером, в тон блеклым глазам, костюме, произнёс на чистейшем английском:
– Мы к вам, майор
– Во-первых, я не майор. – Я выплюнул сигарету прямо под ноги этому замухрышке. – А, во-вторых, пошёл в жопу.
Мелко-серый человечек никак не отреагировал на эту детскую выходку. Он просто сказал:
– Были бы, если бы остались заниматься своим делом. Во-вторых, сам пошёл в жопу.
– Хм, пигмей с гонором.
Блекло-серые глаза смотрели в упор с таким видом, с каким дети в музее обычно разглядывают скелеты динозавров. С тем же бесподобным восхищением и бесстрашием. Я вытащил из-за пояса ТТ, незаконно купленный на одном из интернет-аукционов, и приставил коротышке ко лбу. Блекло-серые глаза боялись, на лбу и щеках выступил пот.
– Заходите в дом и не верьте тому, что про меня наболтали. Я не маньяк.
– Да? У меня создалось иное впечатление. – пробурчал коротышка и безропотно переступил порог. Второй остался караулить лифт, медленно ползающий между этажами.
Я захлопнул дверь и постарался не думать. Вообще ни о чём. Ни о ком. Такое «недуманье» теперь занимало большую часть моей жизни. Серый человек брезгливо скинул с дивана какие-то шмотки. Ладно хоть не на пол. Сел. Осмотрелся. Сложил свои ручки и, уставившись на меня, сказал именно то, что я меньше всего хотел от него слышать:
– Меня зовут Ма Саньсяо. Я служу в Министерстве Государственной Безопасности Китайской Народной Республики, Седьмое бюро. Мы хотим, чтобы вы написали книгу.
– Вот так просто. Написать. И больше ничего.
– Мы хотим, чтобы вы написали книгу. Роман, повесть, рассказ, эссе. Неважно. Важно, что вы это напишете.
– Может тему подскажете?
– Кали-Юга.
– … Отчего так?
– Просто нужно, чтобы вы так сделали.
– Кому нужно? Мне? Или тебе?
– Это нужно Матери всех существ, Богине Кали.
– Не понял. Это что? Очередная невменяемая секта? Хотя для сектантов вы слишком хорошо выглядите. Что курим? Или что вообще употребляем? Конопля так не торкает.
– Когда-нибудь вы поймёте, что и почему… а пока – читайте.
Коротышка выложил из-под полы пиджака на стол толстенькую тетрадь с пожелтевшими страницами и, резко поднявшись, прошёл мимо в коридор.
– Эй!…
Но ни в коридоре, ни за беззвучно закрывшейся дверью никого не было… Та тетрадь до сих пор лежит на моём столе. Ещё более потрёпанная и пожелтевшая. Я перелистывал её ночами, раз за разом, страница за страницей, слово за словом. Годами. И Кали пришла. И начала свой долгий рассказ об эпохе, почему-то названной её именем. «Органики как всегда всё перепутали. Вы всегда всё путаете».
Эпоха. Красивое, ёмкое и безумно большое слово. Эпоха Кали ещё больше, ещё длиннее, ещё бесконечнее, ещё безысходнее, ещё безнадёжнее.
Так я сел за тетрадь, взял карандаш и начал… через десять лет после того разговора. И уже не в той квартире, и даже не в том городе, да и уже не в той стране.
А главное – тетрадь. У меня была точно такая же. Да они у всех были точно такие же. С коричневой дермантиновой обложкой, с блеклыми листами, разлинованными размытыми синими линиями в клеточку. Появилась она у меня ещё в школе. В том нежном возрасте, когда количество вопросов превышает количество ответов на них. Да и сами вопросы задаются так, что ответа на них может и не быть. Сначала список вопросов рос в геометрической прогрессии. Каждый вопрос нумеровался, ему присваивалась категория сложности и важность ответа на него для всего сущего. Позже начали появляться ответы. Тихие, робкие фразы. Часто просто цитаты, которые так или иначе подходили под ответ. Афоризмы. И потихоньку тетрадь стала заполняться, теперь она уже постоянно лежала в портфеле и ждала, когда её вытащат на свет божий. А вытаскивалась она часто. Она прошла со мной все тяжёлые школьные годы, когда ей часто грозила участь быть порванной в любой момент; затем она перекочевала в дипломат первокурсника и, совсем неожиданно, вдруг отправилась в вещмешок рядового срочной службы. Даже там было время для ответов. Вернее именно там и было время, жестокое коварное, не признающее никаких отговорок и отсрочек. Сакраментальное «сейчас или никогда» становилось обыденным и каждодневным. Там-то тетрадь и пропала. То ли была затоптана в грязь при передислокации, то ли умыкнул кто, сейчас уже не важно. Да собственно и тогда это было уже не важно, потому как ответы уже не нужно было записывать. Нужно было всего лишь правильно ставить вопросы, и ответы приходили сами, чистые и кристально ясные, как кусочек льда в нежных тёплых руках любимой.
А Кали-Юга осталась строчками на бледно-жёлтых листках бумаги. Вот сейчас она заглядывает через плечо и ухмыляется. «Всё пишешь. Ну пиши, пиши. А я тут побуду немного. Осталось всего каких-то 426807 ваших лет.»
Так и становятся писателями, наверное. Так и я стал писателем, наверное. Хотя писатель, это слишком громко. Нет, совсем не денежная необходимость. Инженером я зарабатывал бы куда как больше. И не жажда славы и популярности. Популярность преходяща, а слава к писателям приходит, как правило, после смерти. Скорее уж тогда в политики нужно было идти. Самоутверждение может быть? Нет. Самоутверждаться я бросил лет в двадцать пять, когда сознание уже сформировалось и потребность видеть себя таким, каким хочется окружающим резко пропала. Карьера перестала интересовать гораздо раньше. Так что же? Мне всегда хотелось понять, почему именно возникновение на бумаге слов, предложений, рассказов и романов вызывает во мне такой трепет. Почти мистическое ощущение какой-то особой рациональности. Как инженеры и проектировщики часами корпят над построением выверенных линий многоэтажек или ажурных паутин подвесных мостов, рассчитывая, подсчитывая и пересчитывая все возможные конструктивные особенности, так и писатели корпят над построением фразы, характером героя или описанием стакана с водой в руке главной героини. «Он был обыденно гранёным, этот стакан из старой квартиры на Пречистенке, где когда-то в стародавние, ещё монархические времена обитала её бабушка. Наступление эры исторического материализма и ознаменовалось появлением этого стакана в той самой квартире. Он пронёс ощущения сотен рук, а сейчас блистал искрами в лучах утреннего солнца, как бы говоря нам, что эпоха исторического материализма ещё не прошла, и что сияние его граней будет практически вечным, пока существует средство для мытья посуды. Даже мелкие неровности стекла и оптические искажения не портили этого лучистого впечатления. Он сиял своим величием и неповторимостью. После чего был насухо вытерт и убран на верхнюю полку кухонного шкафа, туда где обычно хранилась редко употребляемая посуда». А это – «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла…» И я выхожу вместе с прокуратором в колоннаду.
Почему Кали-Юга? Не потому что какой-то засекреченный китайский полковник предложил мне переработать чью-то рукопись. Переделывать вообще занятие неблагодарное и бессмысленное. Хотя… Тетрадь в коричневой покоробленной обложке так и осталась лежать на столе. Где же она побывала? Явно перенесла пару всемирных потопов и засух. Закаменевшие разводы чего-то непонятного. Выцвевший корешок. Желто-серые страницы едва не ломаются под пальцами. И тогда я вспомнил. Вспомнил всё так ясно, отчётливо, во всех тех подробностях, которые почему-то называют мельчайшими. И со всеми теми чувствами и эмоциями, как будто это происходит сейчас, сиюмоментно. Со мной. Только постаревшим и начавшим понимать, что это было. Как именно это было. Как именно тогда светило солнце. По-летнему так светило. Уже припекало…
И память начала швырять меня из одного времени в другое яркими вспышками воспоминаний. И засосало под ложечкой, и сердце стало биться по-сумашедшему быстро и нервно, и дыхание спёрло, и ком в горле встал. Как тогда, где-то в самом начале Кали-Юги.
…Где-то в самом начале Кали-Юги
«Это хорошо, что осталась банка тушёнки. По крайней мере, будет, что съесть на ужин. А завтра придётся искать ещё что-нибудь. На продовольственный пункт идти не хотелось. «Ничего, займу у Поганца пару талонов или…». Я ощупал карманы потрёпанной старой куртки и вытащил помятую и отсыревшую пачку сигарет. «… перехвачу хавчик на табак». Теперь аккуратно достать сигареты, разделить их на две части. Сырых оказалось больше. Завёрнутые в сопельник они отправились обратно в карман. Остальные – в пачку. Одну сигарету я с наслаждением сунул в зубы и закурил. «Спички тоже кончаются», – отметилось с сожалением. Да и хрен с ними. Всего в этом мире всё равно не получишь.
Я задрал голову и зачарованно смотрел на небо, пуская в него сизые кольца табачного дыма. Оно было как всегда грязное и ржавое. «Часов пять вечера». И заладилась же такая погода в мае. Но ничего. Скоро всё изменится и небо станет цвета дымчатого стекла, и кончится дождь, и в гости придут Якут, Поганец и Алекс, и приведут девчонок, и может придёт Танька и будет музыка пустых бутылок…
Перезвон пустых бутылок
Напоминает мне о том,
Что жизнь прошла,
Она уныла,
В младые годы мне постыла.
Остался лишь в груди огнём
Сплошной, похмельный, затяжной
Психоделический синдром.
Но это только будет. Чёрт бы побрал эту распроклятущую жизнь. Я потянулся и поднялся с хрустящих осколков бетона, на которые сел так незаметно для себя. Пора домой. Это пройти пару кварталов и не попасться. Последнее труднее.
Я шлёпал по лужам, разгоняя круги от дождевых капель. Шёл и вспоминал. На душе опять стало погано. Вот и родимый дом – тёмная от дождя кирпичная пятиэтажка рядом с парком. Раньше здесь было красиво. Воскресные прогулки с родителями, согретые ванильным пломбиром и разбавленные газированной водой с сиропом».
Именно таким был этот мир. Неустроенным, безалаберным и настолько близким, что даже сейчас, в годы разумной зрелости, он кажется тебе самым лучшим из возможных миров. Тогда выбор слов и складывание из них предложений были не более чем весёлой ночной игрой. И вся жизнь казалась игрой: бросание кубика, ходы, чёт-нечет, е2-е4, дубль, флэш…
Игра. А что было пред тем как тридцатитонные винты перестали бесполезно перемалывать воду?
Лоснящийся чёрным маслом корпус субмарины был окружён сплошным мерцающим ореолом. Ореолом святости. О, святая субмарина! Аллилуйя! Молитесь люди, ибо грядёт ночь:
Мать наша,
Иже еси в толще морской.
Да святится имя твоё,
Да пребудет царствие Твоё.
Аминь.
Молитесь люди и может быть она проплывёт мимо. Молитесь рыбаки, чтобы она не попала в ваши сети. Молитесь купцы, чтобы ей не захотелось отведать ваших мускатных орехов. Молитесь, люди, чтобы вас миновала её святость, ибо это святость особая, мучительная и острая как удар кинжала. И в час вечерний и полуночный сотни глоток исторгают на одном дыхании «Аминь».
Аминь. Отделившись от Пятой эскадры подводная лодка скользнула через узкое горлышко Гибралтара в синеву Атлантического океана. Её тут же засекли НАТОвские станции слежения. Субмарина постепенно уходила в глубину, сливаясь с окружающей чернотой. Там, наверху, осталось солнце, лёгкий бриз с Гибралтарской скалы, сливки и тунисские апельсины, обнажённые тела на пляжах Ривьеры, Марсель, Тулон, пирамиды, Сахара, разбитый землетрясением Лиссабон, знойная Корсика, томная заснувшая Сицилия, – всё это осталось где-то там за горизонтом времени, в мире живых.
В мире живых осталось и то, что все называют ежедневностью.
12 августа 5181 г.
Осталось 426819 лет.
«Сначала, когда турбины заглохнут и тридцатитонные винты перестанут бесполезно перемалывать воду, будет тишина. Такая тишина, что будет слышно, как у твоего соседа, стоящего рядом, кровь шуршит по венам. Это будет всего лишь началом. Потом появятся короткие гулкие звуки. Миллионы тонн воды тихо и осторожно прощупывают корпус лодки, проверяют качество металла и сварных соединений. Там, где тонко, там и… но не сразу. Пока субмарина, словно дохлый кит, плавно и резво проваливается в глубину, звуки учащаются. Теперь это уже скрипы и стоны. Титановый сплав чувствует свою близкую гибель и пытается сопротивляться. Но недолго и безрезультатно. Сталь сминается как пластилин в тонких нежных ребячьих пальчиках. Вот в этот момент становится страшно. Страшно до того, что весь отсек сжимается в точку где-то на затылке и пульсирует в такт скрипящему металлу. Через мгновенье носовая часть корпуса легко трескается и лопается узором фантастического цветка. Металл корёжится так, словно мифический кракен пытается проникнуть внутрь лодки, разорвав корпус.