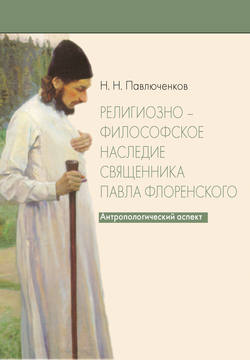Читать книгу Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект - Николай Павлюченков - Страница 5
Глава 1. Духовный путь о. Павла Флоренского (общий обзор в контексте его учения о человеке)
«Мистический» и «духовный» опыт
ОглавлениеВ рамках нашей темы важно прежде всего обратить внимание на то, как о. Павел раскрывает в «Воспоминаниях» основные черты своего отношения к природе и человеку из рассказа о семье, в которой он родился и вырос.
Семью, в которой он вырос, о. Павел называет «уединенным островом», где происходит сознательная изоляция себя как от своего прошлого (от своих предков), так и от настоящего, от окружающей общественной среды. И отец – Александр Иванович Флоренский (1850–1908), и мать – Ольга (в армяно-григорианском крещении – Саломия) Павловна Сапарова (1859–1951) «выпали» из своих родов, разорвали все связи со своими предками, желая жить на стороне и самостоятельно. «Была такая ужасная полоса Русской истории, – пишет по этому поводу о. Павел (запись 1916 г.), – и сколько душ искалечено ею, сколько чистых сердец сделались несчастными и беспризорными»[52]. Говоря о поколении 1870-х гг., он замечает (запись 1917 г.): «Они тогда знать не хотели ничего, кроме себя, потому-то не признавали трансцендентного. Из себя хотели выпятить, выставить Бога, и святыню, и все. Все хотели не принять как дар Божий, а создать… Отцов они, семидесятники, не признавали… Сами они хотели быть отцами. Но они не умели и не желали быть сынами»[53].
Александр Иванович лишился матери в год своего рождения, а отца – спустя 16 лет. Но даже эти годы ему не удалось пожить у семейного очага, поскольку начальная учеба проходила далеко от родного дома – в Тифлисской классической гимназии. Впоследствии он окончил Московский институт инженеров путей сообщения и строил мосты и дороги для вновь проектируемых железнодорожных путей в самых разных частях страны. Ольга Павловна также в ранней молодости с помощью социалистов тайком уехала из дома в Петербург, где познакомилась с Александром Ивановичем и вышла за него замуж в 1880 г.
Флоренский отмечает, что отец и мать лишь формально принадлежали к своим вероисповеданиям (соответственно к православному и армяно-григорианскому) и вели исключительно светский образ жизни. При этом религия отсутствовала в доме «не по причине оплошности, а силою сознательно поставленной стены…». «Никогда, – пишет Флоренский, – нам не говорили, что Бога нет или что религия – суеверие… как не говорили и обратное»[54]. По поводу часто звучавшей в доме фразы «люди верят по-своему» он замечает: «Хорошо мне запомнилась эта форма «верят» вместо веруют, ничуть не случайная, ибо веруют – значит духовно знают некоторую объективную реальность, а верят – значит имеют некоторое субъективное состояние уверенности, может быть насквозь иллюзорное»[55].
Флоренский с самого раннего детства имел, по его убеждению, «бесспорно подлинный» опыт ощущения иного мира и имел в этом смысле духовное знание, признаваемое в семье невозможным. «Иной мир, – пишет он, – в моем глубочайшем самоощущении всегда соприкасался со мною как подлинная и не внушающая ни малейшего сомнения действительность»[56]. Чувство невидимой реальности вызывало чередование детских восторгов и «неведомых ужасов», происходящих от «губительных духов природы»[57]. И он также «чувствовал, что есть целая область жизни, значительная, таинственная, что есть особые действия, охраняющие от страхов». Втайне он «влекся к ней, но не знал ее и не смел о ней спрашивать»[58]. Таким было восприятие маленьким Павлом религии и Церкви, куда его до семи лет никогда не водили и даже не учили, как нужно читать молитвы и креститься. При этом «бессознательно было сделано все, чтобы вызвать… именно чувство стыдливости, неприличности религии»[59].
«Отрешенность» и своеобразный «внецерковный и внерелигиозный аскетизм» сформировали в семье образ жизни, который о. Павел готов охарактеризовать как «тонкую струю духовной прелести»: «Людей мы не особенно долюбливали и старались держаться в стороне»[60]. Но это не распространялось на внутрисемейные отношения, где царила атмосфера любви и заботы друг о друге. О. Павел пишет, как кажется, предельно искренно, без тени осуждения кого-либо и просто излагает факты, стараясь из своих переживаний раскрыть самого себя. И он говорит, что, несмотря на всю любовь и заботу, чувствовал себя в семье одиноким. Любовь в семье была какой-то не-личной, не пронизанной теплотой глубоко душевного общения и понимания.
Более всего сыновнюю привязанность он испытывал не к родителям, а к тете Юле – Юлии Ивановне Флоренской (ум. 1894), родной сестре отца. Она более всего занималась с маленьким Павлом и дарила ему то, что он не мог получить со стороны матери. Сам о. Павел оценивает разницу в отношениях с матерью и тетей Юлей весьма примечательно, употребляя понятия «не-личной» и «личной» любви. Из людей только тетя Юля была с особой теплотой любима маленьким Павлом, любима «личной» любовью[61].
Именно с тетей Юлей (в связи с приближающимся поступлением в гимназию) Павел разучил первые молитвы и именно с ней впервые (в 7 лет) пришел на православную церковную службу в Батуми и причастился Св. Христовых Тайн. Но религия и Церковь и после этого оставались закрытыми для него в соответствии с общей духовной обстановкой в семье. Тетя Юля не могла ничего принципиально изменить и так и осталась, хотя особым и ярким, но всего лишь проблеском глубоко личных взаимоотношений, которые, как знал уже Павел, могут быть между людьми, но которых он был лишен в семье. Она умерла, когда Павлу было 12 лет, и не успела как-либо повлиять на его особое восприятие религии как запретной, таинственной области, где происходят лишь «особые действия, охраняющие от страхов».
Говоря о религиозности отца, Флоренский еще раз и особо отмечает необходимость «учитывать ужасное время русской истории – царствование императора Александра II, в котором он провел всю молодость, и ужасную среду, окружавшую его в дни юности и всю последующую жизнь»[62]. Характер того времени и той среды о. Павел знал в том числе и из доставшихся ему многочисленных писем свт. Игнатия Брянчанинова[63], в которых представлена картина почти всеобщего обмирщения так называемых высших, образованных слоев общества: «…общее стремление всех исключительно к одному вещественному, будто бы оно было вечно, – забвение вечного как бы несуществующего»[64], «повсеместное охлаждение к религии, фанатический атеизм…»[65] Непосредственно о времени, на которое пришлись детство и молодость Александра Ивановича (1860-е гг.), свт. Игнатий писал так: «Ныне соблазны до бесконечности умножились, увлечение ими сделалось почти всеобщее, а сопротивления нигде не видно; по этой причине современная юность меньше подвержена осуждению и заслуживает большее сожаление и снисхождение»[66].
Александр Иванович не был грубым материалистом и атеистом[67], но все существующие конкретные формы религии считал весьма примитивными, призванными лишь поддерживать в людях «человечность». Эти «искусственные поддержки», по его мнению, были не нужны человеку развитому и образованному, который может и должен понести «человечность» в ее непосредственном виде. Признавая за христианством некоторую духовную высоту, Александр Иванович вместе с тем чуждался его «претензии» на абсолютность и исключительность. Как более «здравые» он выделял мусульманство и «китаизм» (т. е., очевидно, наиболее распространенную в Китае религию Конфуция). В последнем случае ему импонировала удовлетворенность китайцев «малым и настоящим» и нежелание искать «абсолютную истину»[68].
Выделяя подобные моменты в духовном облике своего отца и списывая их на общий дух времени (1870-е гг.), Флоренский по ходу воспоминаний явно прослеживает и отмечает определенные области мировоззрения, в которых отец вольно или невольно оказал на него влияние. Например, убеждение в том, что «истина недоступна», было, очевидно, воспринято им от отца. Но в поздние гимназические годы к этому добавилось твердое убеждение иного свойства: «невозможно жить без истины». «Эти два равносильных убеждения, – пишет о. Павел, – раздирали душу и ввергали в душевную агонию… Я задыхался от неимения истины… Истина и смысл жизни были для меня… тождественны»[69]. Теме поиска и обретения Абсолютной Истины Флоренский посвятил свою кандидатскую диссертацию, защищенную в МДА (1908), переросшую затем в магистерскую работу (1912) и далее – в «Столп и утверждение Истины» (1914). Абсолютна Истина открылась в духовном опыте Флоренского как единосущие Пресвятой Троицы, и с этим открытием было связано все его дальнейшее твердое стояние в Православной Церкви.
Однако при всем том свое понимание роли и места православия среди других религий о. Павел, как ни странно, фактически возводит к убеждениям Александра Ивановича. Они заключались в том, что «собственно, нет религий, а есть одна Религия. Религия весьма меняет в человечестве свой вид, и весьма неодинакова ценность ее различных обликов. Но основные силы, ее складывающие, сходны»[70]. В такой позиции просматривается, если можно так сказать, фундаментальная идея о невозможности существования ложных религий[71]. Среди религий есть не ложные, а такие, в которых истина раскрыта неполностью; и если Александр Иванович принципиально отказывался искать в религиях наиболее полное явление Абсолютной Истины, считая все верования искусственными и примитивными, то о. Павел, найдя это явление в православной церковности, встал далее на путь собирания крупиц истины со всех остальных религий (а особенно – из связанных с ними «мистических учений»[72]) в единую общую сокровищницу. Это может создавать впечатление справедливости обвинений Флоренского в том, что для него св. Отцы и некоторые языческие мистики имеют равный авторитет. Однако при более близком знакомстве можно видеть, что о. Павел в своих философско-богословских работах не сопоставлял авторитеты, а тех и других оценивал с определенной «третьей» позиции. И позиция эта у него называлась «древность» или «древнейшее, общечеловеческое мировоззрение», наиболее близкое, по его убеждению, к познанию Истины.
Косвенным образом причиной такой идеализации Флоренским глубокой древности, по-видимому, также явилось влияние отца. Для Флоренского древнее сознание – «непосредственное, дорефлективное»[73], характеризующееся представлением о живом, реальном единстве явлений, – противоположно современному «научному» образу мышления. Теперь, утверждал он, видят лишь сходство там, где в древности видели реальные связи бытия[74], реальные элементы бытия теперь заменены понятиями – философскими или научными.
Способность мыслить «не отвлеченными схемами, не значками… не отвлеченными понятиями» о. Павел разглядел у Гете и считал его идеалом исследователя, проникающего в реальность и видящего то, что незримо для других[75]. «Ставя памятник Гете, – говорил Флоренский в одной из лекций, – человечество тем самым скидывает с пьедестала отвлеченное мировоззрение нового времени»[76]. И можно думать, что именно Гете своим «до конца конкретным» мышлением изначально пробудил еще у маленького Павла[77] живой интерес к тому, что он считал сознанием древнего человека. Ведь дело в том, что Иоганном Гете был увлечен Александр Иванович, для которого, по горько-ироничному выражению о. Павла, гетевский «Фауст» заменял Евангелие[78]. Очевидно, что увлечение отца передалось в данном случае к сыну и дало на новой почве вполне определенные новые плоды.
То же самое можно сказать и о другом предмете почитания Александра Ивановича – о книге французского историка Фюстеля де Куланжа «Античный город» (1864; русский перевод – 1867 и 1895), которая (как опять с горькой иронией отмечает Флоренский) была для него «номоканоном». На этот счет о. Павел уже прямо говорит, что отец заставлял его читать «Античный город» в годы учебы в средних классах гимназии. Эту книгу о. Павел называет прекрасной, поскольку она доказывает, что древняя религия вся сводилась к почитанию предков, и «люди имели значение в глазах древности лишь как жрецы восходящей линии своего рода… Глаза античного человека были всецело обращены назад, в прошлое»[79]. И можно только гадать, почему Александр Иванович, сам всецело обращенный в будущее и видящий смысл жизни лишь в семье и детях, особо выделял данный исторический труд. В нашем случае важно, как под невольным влиянием отца его воспринял о. Павел, а именно как обличение (а может быть, и некоторое скрытое самообличение со стороны Александра Ивановича) всей «мистической» неправды отрыва человека от своих предков, «выпадения» из своего рода и забвения своего прошлого.
Для понимания исходных антропологических интуиций о. Павла Флоренского особенно важны те моменты, которые он посчитал нужным отметить в своих детских восприятиях матери. Ольга Павловна, по его словам, была «замкнутая, гордо-застенчивая в проявлении чувств» и занималась более другими, младшими детьми, чем старшим в семье Павлом[80]. С годами ласки и поцелуи со стороны Павла мать встречала все холоднее и смущеннее, из-за чего он чувствовал, что таким проявлением личной любви нарушает какие-то установленные границы. «В ней, – пишет о. Павел, – я не воспринимал лица; она вся окружала наше бытие, всюду чувствовалась и была как-то невидима». Перед матерью чувствовался «священный трепет и молчание, прохлада и робость», не страх, а что-то такое, что нельзя выразить в слове. Такое не-личное отношение Флоренский противопоставляет своей «глубоко-личной» любви к тете Юле, которая «не подавляла своей отрешенностью от мелочей жизни… с ней можно было жить. Матери же надо было поклоняться»[81], хотя она этого вовсе не требовала.
И вот после таких указаний о своей не-личной любви к матери, о невосприятии в ней ее личности, об отсутствии к ней сыновней привязанности Флоренский пишет: «В матери я любил Природу или в Природе – Мать, Naturam naturantem Спинозы», т. е. «Природу творящую» (в отличие от «природы творимой» – natura naturata). «Я знал, что мать очень любит меня; в то же время у меня было всегда чувство таинственного величия ее. И мне казалось, что она же может встать во весь рост и, не заметив меня, – раздавить. Я не боялся этого и не протестовал бы против этого (курсив мой. – Н. П.)»[82].
О. Павел прямо дает понять, что таким же было и его «мистическое» ощущение Природы: «Признание закона над собою определяло мое самочувствие с раннейшего детства». Но закон этот ощущался как исходящий не от высшей свободной воли, а от «высшей неизбежности». Это «Разум мира», но «безличный, неутомимый и не теплый»; «подчинение этому пантеистическому провидению открылось мне как долг». Это «неизбежное» не соответствует человеческим желаниям и вкусам, но при этом «оно не только внешне, но и внутренне необходимо»[83].
Здесь, с одной стороны, заметно указание на определенную неполноту религиозного мировосприятия, поскольку Павел в детстве не знал Бога. Но, с другой стороны, Флоренский, по указанным выше причинам, полностью доверял своим детским впечатлениям и ощущениям. Это была принципиальная позиция, заключающаяся в том, что детские восприятия наиболее подлинные[84], наиболее онтологичные, безошибочно мистические[85]. То, что, по мнению о. Павла, было пережито им в раннем детстве, легло в основу окончательно сформировавшегося мировоззрения, и, можно сказать, что не опытом взрослой жизни проверялись расставленные в детстве ориентиры, а, наоборот, подлинность позднейшего мистического опыта определялась по полученным в детстве критериям. Поэтому, несмотря на позднейшие поправки в области соотношения «монотеизма» и «пантеизма», Флоренский сохранил, по его мнению, одну из своих глубочайших детских интуиций, определяющих всю его «мистичность» и, как можно видеть, отчасти формирующих его позицию в вопросах антропологии: человек находится во власти безликой и по-человечески «нетеплой» силы, наличие которой ему необходимо и внешне, и внутренне. Эта сила не считается с его вкусами и желаниями не потому, что они греховны и направлены лишь на удовлетворение страстей, а потому, что ей в принципе чуждо «человеческое». Она «любит» человека, удовлетворяет потребности его бытия, но в случае непостижимой для него необходимости может «раздавить» его, даже не заметив. Человек больше чем просто игрушка в ее руках, но меньше той величины, с которой она могла бы считаться[86]. И, судя по всему, рассказывая о начальном (и самом главном) этапе формирования своего мировоззрения, о. Павел целенаправленно отмечает наличие у него именно такой преобладающей религиозно-мистической интуиции, когда вместо личных отношений с Богом (или – позже – наряду с такими отношениями) у человека складывается таинственное, влекущее, приводящее в «священный трепет», но холодное и, по сути, «мрачное» ощущение высшей основы мироздания.
«Бытие в основе своей таинственно, – пишет о. Павел, – и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом… Корням жизни, может быть, самому главному, приличествует подземный мрак». Есть стремление его познать, но это нужно делать «не нагло рассматривая пристальным взглядом», а осторожно и благоговейно «подглядывая»[87]. Всяческие пещеры, подземелья, погребы и темные чердаки, ямы, канавы, туннели и длинные коридоры Флоренский называет для себя в детстве «вожделенными». «За всеми ими я узнавал силы первичного мрака (курсив мой. – Н. П.), в котором родилось все существующее, и мне хотелось проникнуть туда и навеки поселиться там»[88]. Впечатляюще выглядит сочетание «творческих сил» и тайны, угрозы, даже «ядовитости», которые Флоренский созерцает в прозрачной и «насыщенно-зеленой» морской воде у пристани[89].
«Природа творящая», как нечто безличное и сверхчеловеческое (если иметь в виду эмпирического человека), пугает новичка, еще не умеющего ориентироваться в ее мрачных подземельях; она грозит уничтожить своей естественной реакцией всякого, кто дерзнет нагло вскрывать ее тайны. И только отдельным избранным позволяет она прикоснуться к своей сокровенной сути. «Природа, как верил я и ощущал, – пишет о. Павел, – скрывает себя от людей; но я – любимец ее, и мне себя она хочет показать в своей подлинной сути, впрочем, так, чтобы не стать явной пред другими». Бывали доступные лишь одному Павлу знамения, «когда сокровенная сущность приподымала завесу своей тайны и бросала оттуда лукавый взгляд… лукаво-веселый, говорящий, что мы-то с природой знаем, что другие не знают и знать не должны». Завеса приподнималась лишь на мгновенье, поскольку человек не может выдержать «длительно этого прямого созерцания лица Природы». Но здесь и мгновенья достаточно, чтобы ощутить абсолютную уверенность в подлинности этой встречи. Свою несомненную объективность этот «взгляд» Природы свидетельствует и своим сверхчеловеческим свойством: он, говорит Флоренский, «меня знает еще глубже и видит еще определеннее, чем я его, а главное – меня всецело любит»[90].
Очень показательно, что с этим же «взглядом» о. Павел сопоставляет внезапно открывшуюся ему перемену в глазах его двухмесячного сына Василия (1911 г.; о. Павлу 29 лет): «Это был взгляд сверх-сознательный, ибо Васиными глазами смотрело на меня не его маленькое, несформировавшееся сознание, а какое-то высшее сознание, большее меня, и его самого, и всех нас, из неведомых глубин бытия. А потом все прошло, и предо мною снова были глаза двухмесячного ребенка (курсив мой. – Н. П.)»[91].
Таким образом, согласно этому несомненно подлинному для о. Павла опыту, в «неведомых глубинах бытия» пребывает нечто, «какое-то высшее сознание», которое по крайней мере на порядок выше человека. И взор Флоренского, все самые главные его устремления с детства были направлены не к человеку, а, как он был убежден, глубже, к высшей реальности «Природы творящей». Там «подземный мрак», «иной мир, полный таинственной жути», но «влекущий и волнующий ум»[92]. При этом лишь особые избранники способны ощутить, что скрытая во «мраке», но «усмотренная глубина бытия» прекрасна, «как прекрасно все подлинное»[93]. Природа любит, но не так, как хотелось бы маленькому и несовершенному человеческому сознанию, не теплой и снисходящей к каждой конкретной личности любовью.
Любой исследователь наследия о. Павла Флоренского без труда заметит, насколько важным было для него понятие антиномии. Кратко об этом можно сказать так: если в процессе какого-либо исследования мы не пришли к противоречию, то, значит, мы находимся очень далеко от истины. В определенном смысле о. Павел и сам представлял собой живую антиномию, о чем свидетельствовали его современники и он сам[94]. В данном случае у него обнаруживается особая «антиномия» природы: безликость и обладание «сверхсознанием», любовь и готовность ради высшей цели переступить через интересы любимого, ничего ему не объясняя. Это творческая сила, способная разрушать[95], красота, обитающая в мрачных подземельях. Самое существенное заключается в том, что все это стоит над человеком, онтологически первичнее и важнее эмпирического человека.
В самом эмпирическом человеке тоже можно обрести то, что больше этого человека, и это те же самые «корни бытия», которые можно созерцать и во всей природе. Притом в природе больше открытости, тогда как в человеке сокровенная сущность спрятана за толстой «корой», возводимой своеволием. Вот пример ощущения о. Павла, которое можно понять во всей его онтологической глубине, если вспомнить, что в ранних концепциях Флоренского сокровенная сущность твари выражает себя любовью (запись 1923 г.): «Люди и тогда, и после казались мне самостоятельными и свободными, так что каждый любит или не любит по своему желанию… Совсем другое дело – цветы. Они любят меня, потому что не могут не любить, для любви и вырастают (курсив мой. – Н. П.)»[96]. Цветы, так же как и другие объекты и явления в природе – море, воздух, ветер, облака, скалы, минералы и т. д., – не властны сами скрыть в себе онтологическую глубину, своевольно оградить ее от мистического созерцания. В этом отношении таковы же птицы, а вот животные, млекопитающие – уже слишком близки к человеку, уже своевольны и довольно самостоятельны. О. Павел пишет, что, в отличие от любви ко всему прочему в природе, к животным он был равнодушен, а человека попросту «не любил»: «Пусть это кажется уродством, пусть в этом будут усматривать отсутствие нравственного чувства, но это было так: без злой воли, всей силой существа я не любил человека как такового и был влюблен в природу (курсив мой. – Н. П.)»[97].
Конечно, совершенно напрасными представляются попытки действительно усмотреть в таком признании о. Павла «уродство» и «отсутствие нравственного чувства»[98]. Речь здесь идет не о христианской любви к ближнему, а об отношении к человеку как к определенному объекту исследования в Природе. Этот объект для о. Павла оказывается – интуитивно, как ему кажется, с детства – довольно непривлекательным в «мистической» области, поскольку в человеке проявление «сокровенной сущности» особо ослаблено действиями его несовершенной свободной воли. «Всю жизнь… – пишет он, – я искал того явления… где проницаемость плоти мира наибольшая, где тоньше кожа вещей и где яснее просвечивает чрез нее духовное естество»[99]. И в человеке в этом смысле он находит гораздо меньше «прозрачности», чем в море, скалах, цветах[100].
Но это, конечно, менее всего означает для Флоренского отказ вообще от какого-либо интереса к человеку. Это лишь выдает одну его очень важную антропологическую интуицию: свободная воля и связанное с ней самосознание человека принимаются у него как некоторый фактор, затемняющий явление в этом мире иной, высшей реальности. Употребляя образы, встречающиеся в трудах о. Павла, можно сказать, что человек в этом мире по причине своей «самостоятельности» более всего «непрозрачен» для мира иного и, следовательно, стать «прозрачным» – это, по большому счету, все, что от него требуется. Так должно быть исходя из вышеуказанных предпосылок учения о человеке у о. Павла, и это положение, как мы должны будем увидеть далее, действительно играет очень важную роль в его антропологии. Как греховное своеволие человека, так и все «теплое», «личное», «человеческое» должно не только очиститься, но и отступить на второй план, давая чрез себя дорогу в этот мир более высоким реальностям Бытия.
И порой кажется, что где-то «между строк» в своих «Воспоминаниях» о. Павел испытывает тягу к «человечности», но повинуется своему гораздо более привлекательному и сильному интересу к реальностям, открывшимся ему как сверхчеловеческие (опять же если иметь в виду эмпирического человека). Он пишет, что в детстве, «в сущности, может быть, никого не любил, т. е. любил, но любил Одну. Этой единственной возлюбленной была Природа (курсив мой. – Н. П.)»[101]. И при этом: «Я… пронизанный любовью и нежной заботой о себе, оказываюсь предельно одиноким; только тетя Юля… протягивает мне нитку к Человеку (курсив мой. – Н. П.)»[102]. Из людей только она была с особой теплотой любима маленьким Павлом, любима «личной» любовью[103]; но, признает о. Павел, и она не сама по себе, а «за ее отношение к природе»[104].
По вполне понятным причинам воспоминания (как описывающие еще далекий от религии период детства и ранней юности) не дают почти никакого представления о том опыте о. Павла, который в данном случае, в отличие от условно обозначенного как «мистический» (т. е. как опыт таинственного взаимоотношения человека и Природы), может быть условно назван «духовным» (как опыт таинственных взаимоотношений человека с Богом). Эту сторону личности о. Павла раскрывают другие источники, главным образом – немногие отдельные места из его частной переписки, которая не предназначалась для печати. Только что открыв для себя религию, Флоренский перед самым окончанием Университета пишет матери (март 1904 г.): «Никогда я не был еще так бодр, жизнерадостен, полон надежд и планов на будущее, как сейчас… Сейчас ближайшая задача – не моя, конечно, а задача времени – создать религиозную науку и научную Религию»[105]. На первом курсе Академии он исповедует, что самое твердое доказательство и самую крепкую уверенность дает «непосредственное переживание», и в этой связи пишет (январь 1905 г.): «Я не могу не думать и не хочу не работать над тем, что самое достоверное – над грядущим воскресением»[106]. Глубоким внутренним переживанием грядущего воскресения дышит пасхальная проповедь Флоренского-студента, сказанная в храме МДА за литургией светлого вторника 1905 г.: «Открылся Господь и временное приобщил к вечности, сам спустившись в помутневшую нашу телесность… В потоке мятущихся событий нашлось средоточие, открылась точка опоры: Христос воскрес». И он обращается к красоте весенней природы, провозглашая, что Христовым воскресением эта красота перестала быть тщетною, «ибо тварь избавлена от истления». Уже «делается великая тайна освобождения. За покровом тленной шелухи возрастает зерно жизни, обновляются тайно недра твари, очищается сердце земли»[107]. Это живое чувство совершающегося постепенно в видимой природе вечного обновления, источник которого – Христос.
Из дневниковых записей весны 1905 г. отчасти видно, как Флоренский воспринял Христа. Христос, пишет он, не делал насилия ни над кем, проявляя «полное уважение к личности». Христос всегда как бы говорил: «Ты – вполне свободен. Ты можешь остаться на своем, и Я вовсе не перестану любить тебя. Только помни: если ты почувствуешь острый приступ неудовлетворенности, то… попробуй прийти ко Мне; помни, что у тебя всегда есть плечо, на которое ты сможешь опереться»[108]. И, отвечая на такое «уважение» к человеческой свободе, человек, по мысли Флоренского, должен поставить Бога «на первый план» в своей жизни[109], забыть о своих собственных интересах и всего себя отдать реализации того процесса, который Бог осуществляет в мире.
По истечении первых лет церковной жизни, переживая полосу искушений («беспричинная тоска») и замечая в себе (от «занятия наукой») развитие тщеславия и гордыни, Флоренский предпринимает сомнительный с аскетической точки зрения, но очень показательный шаг: он позволяет себе пьянствовать. А. Ельчанинов записывает тогда (1909 г.) его слова: «Конечно, я мог бы удержаться от этого, но я знаю, что тогда будет еще хуже; а потом – видно, иначе никак себя не смиришь…»[110] «Есть грехи безусловные, – считает он, – гордость, злоба, но пьянство и т. д. – относительно этого еще большой вопрос». «Почему Христос так любил общество блудниц, мытарей; ведь нужно представить, что это были настоящие блудницы… а Христос все же предпочитал их обществу фарисеев… Христос был с грешными не только потому, что они больше нуждались, а потому, что ему приятнее было с ними, он любил их за их простоту, смирение». И именно в этот период Флоренский замечает особую «действенность» своей молитвы. «Такое впечатление, – говорит он, – как будто Бог идет мне навстречу, чтобы посмотреть, до чего же я наконец дойду; у меня иногда странное чувство, нелепое с богословской точки зрения, может быть потому, что я не могу его как следует выразить: мне бывает жалко Бога – за то, что ты у него уродился таким скверным»[111].
Все это свидетельствует прежде всего об установившихся личных отношениях с Богом, несмотря на то что именно начиная с этого периода (1909–1910 гг.; см. далее) в философско-богословских размышлениях Флоренский постепенно преодолевает свое неофитское очарование христианским персонализмом, пересматривает решение проблемы о соотношении личности и рода и уже не уделяет вопросу о Личности Божией особого внимания. Действенность своей молитвы о. Павел ощущает и впоследствии, по окончании периода духовных испытаний. Он ощущает реальность Божественного промысла в своей жизни, и этот промысел отнюдь не представляется ему каким-то безличным (или «сверхличным») законом, который неспособен (или не считает нужным) снисходить к каждому конкретному человеку[112]. В этом отношении его детские ощущения Природы, описанные в «Воспоминаниях» 1920-х гг. и подтверждения пережитого ранее «мистического» опыта «Хаоса», данные в письмах из Соловецкого лагеря, вступают в противоречие с тем духовным опытом, которым о. Павел поделился с В. А. Кожевниковым в письме от 15 марта 1912 г. «Бог – не идея, пишет он здесь, – прирожденная или трансцендентальная или какая угодно, а Живой Дух и Отец наш, и Он ведет нас; даже когда уклоняемся мы «на пути свои», и тогда не оставляет Он нас и, допустив идти по-своему, все же направляет в лучшую сторону… Это я знаю по опыту, это я ощущаю всем существом своим, ибо, как бы ни был я скверен, а ощущения Присутствия Божия я никогда не терял и оно-то и есть ens realissimum (лат. «реальнейшая сущность»; курсив мой. – Н. П.)»[113].
Открыто и прикровенно своим молитвенным опытом о. Павел делится с детьми в «Завещании», написанном в основном в период с 1917 по 1921 г. Опыт его живого духовного общения с Богом, Божией Матерью и святыми – свт. Николаем, прп. Сергием и прп. Серафимом – проявляется в его призывах к детям молиться и постоянно пребывать пред Богом[114]. «Этим, – пишет он, – я говорю все, что я имею сказать. Остальное – либо подробности, либо второстепенное»[115]. И когда он советует детям (против греха зависти) добывать все своим трудом и испрашивать у Бога все, что особенно хочется иметь, этим, как представляется, он указывает один из пройденных им самим путей, по которым религиозную веру можно сделать наиболее живой и опытной.
В записи апреля 1919 г. о. Павел завещает детям также молиться «к друзьям и покровителям нашего дома», помощь и присутствие которых он ощутил в тяжелейшее время общественных нестроений. Это его духовные наставники: иеромонах Исидор († 1908), еп. Антонин († 1908) и (почти неизвестный для современного исследователя) архим. Пимен[116]. И о себе, в записи 1917 г., на случай своей смерти, он пишет: «Я всегда буду с вами душой, а если Господь позволит – буду часто приходить к вам и смотреть на вас»[117]. Такие записи фиксируют на этот раз не столько противоречие духовного опыта о. Павла его же опыту «мистическому», сколько их взаимное дополнение друг друга: с одной стороны, над человеком довлеет некая безликая сила природы; он находится во власти сверхчеловеческого рока, действий которого принципиально не понимает, но с другой стороны, он стоит пред Богом, Который может направлять течение событий по воле молящегося к Нему человека. И также: с одной стороны (как мы видели выше и увидим еще далее), собственно «человеческая», эмпирическая личность, с точки зрения Флоренского, должна служить лишь «каналом», по которому в этот мир проникают более высокие реальности Бытия; а с другой стороны, очищенная эмпирическая личность и сама по себе может иметь значение, она может быть каким-то образом причастна высшим бытийным планам и оттуда оказывать свое влияние на планы низшие. Но наряду со всем этим обращает на себя внимание тот факт, что о. Павел в «Завещании» не просит детей молиться за отца после его смерти. Он заповедует им, если будет возможно, принять Св. Тайны в самый день его похорон и часто причащаться в последующие дни[118]. Как представляется, здесь также нашел свое отражение личный опыт о. Павла: ощущение действенности таинства Св. Причастия прежде всего на «мистические глубины» человеческого существа, в которых особо тесно связаны члены одного рода. Эта действенность никак не увязана с сознательной молитвой, и можно подумать, что она в ней даже вообще не нуждается. Как увидим далее, этот опыт лежит в основе некоторых важных утверждений, сделанных в лекциях о. Павла по «Философии культа», и этот опыт уже вполне однозначно отводит эмпирическому сознанию человека весьма невысокое место в иерархии Бытия.
В дальнейшем исследовании мы не будем заниматься решением сложной задачи по выявлению «соотношения» духовного и «мистического» опыта о. Павла в тех или иных его религиозно-философских работах. Но сразу можно отметить, что «мистический» опыт отразился в них гораздо более, и потому, думается, глубоко правы те авторы, которые свою критику трудов о. Павла не спешат превращать в критику его самого. Так, например, осмотрительно поступил в своей ранней работе С. Хоружий, сделав следующий вывод: «Христианство у Флоренского, подчеркнем, не для Флоренского, а именно в творчестве Флоренского, в его текстах, – было и осталось лишь «христианством без Христа»[119]. С этим выводом можно спорить, но главное здесь – стремление избежать ошибки, к сожалению весьма распространенной у тех, кто, изучая Флоренского, подчас видит сознательное «еретичество» в самом факте отсутствия в его наследии «стандартных» и наличия «нестандартных» тем для размышлений.
52
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 26.
53
Там же. С. 323.
54
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 117.
55
Там же. С. 126.
56
Там же. С. 217.
57
Там же. С. 151–152.
58
Там же. С. 145.
59
Там же. С. 126.
60
Там же. С. 25.
61
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 38.
62
Там же. С. 128.
63
Большое количество писем свт. Игнатия прислала М. А. Новоселову племянница святителя А. Н. Купреянова. М. Новоселов пересылал их о. Павлу Флоренскому для публикации в «Богословском вестнике» (1914). Кроме того, А. Купреянова вступила в переписку и с самим о. Павлом. В 1995 г. Центр изучения, охраны и реставрации наследия священника П. Флоренского издал собрание писем свт. Игнатия, хранящихся в архиве о. Павла.
64
Собрание писем свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского и Черноморского. С. 407.
65
Там же. С. 680.
66
Там же. С. 105.
67
По предположению о. Павла, грубому материализму у Александра Ивановича не дали развиться его юношеские наблюдения за Еленой Блаватской, известной впоследствии основательницей Всемирного теософского общества (Нью-Йорк, 1875). Она была родной сестрой директора гимназии, где учился Александр Иванович, и часто демонстрировала перед гимназистами свои «мистические» способности. Своими юношескими впечатлениями от Блаватской Александр Иванович делился с детьми. (См.: Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 304–305).
68
Там же. С. 121.
69
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 243–244.
70
Там же. С. 119.
71
Ср. у В. Соловьева – «ложная религия» есть contradictio in adjecto – «противоречие в определении» (Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве // Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 37). В одной из своих самых поздних работ – «Словаре символов» – о. Павел писал, что «…самые глубокие рвы между религиями не могут настолько разобщить их, чтобы окончательно распалось их коренное единство» (Павел Флоренский, свящ. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 537).
72
Ср. замечание о. Павла в «Столпе» по поводу «идеальной личности человека»: «Говорить об этой «искорке» божественной здесь невозможно, потому что для этого потребовалось бы сделать обзор чуть ли не всех мистических учений» (Флоренский П. А. Т. 1 (1): Столп и утверждение Истины. С. 329).
73
Павел Флоренский, свящ. Священное переименование. М.: Храм св. мч. Татианы, 2006. С. 77.
74
Там же. С. 50.
75
Павел Флоренский, свящ. Сочинения: В 4 т. Т. 4: Письма с Дальнего Востока и Соловков. М., 1998. С. 159.
76
Павел Флоренский, свящ. Из богословского наследия // Богословские труды. Сб. 17. М., 1977. С. 199.
77
О. Павел отмечает, что Гете у него был в руках почти с того самого момента, как он научился читать. Уже учась в Московском университете, он писал матери в Тифлис (февраль 1903 г.): «Я перечитываю в 3-й или в 4-й раз «Разговоры Гете», собранные Эккерманом, и каждое слово Гете вызывает восхищение… Хочется чуть не всю книгу переписать в мою тетрадь для будущих сочинений» (цит. по: Отец Павел Флоренский о воспитании / Сост. – ред. А. П. Фурсов. М.: Школьная пресса, 2004. С. 163).
78
См.: Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 323. Ср. в другом месте «Воспоминаний»: для отца «евангелием» был гетевский «Фауст», а «библией» – Шекспир (Там же. С. 69, 117).
79
Там же. С. 119–120.
80
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 36.
81
Там же. С. 37–38.
82
Там же. С. 38.
83
Там же. С. 40.
84
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 74–75.
85
Там же. С. 87.
86
Ср. – в письме дочери Ольге из Соловецкого лагеря по поводу ощущения «Мирового Хаоса» Ф. Тютчевым (февраль 1935 г.): «И когда Хаос не считается с понятиями человеческими, то не потому, что он нарушает их «на зло», что он борется с ними… а потому, что он их, так сказать, не замечает» (Павел Флоренский, свящ. Сочинения: В 4 т. Т. 4: Письма с Дальнего Востока и Соловков. С. 181–182). В данном случае о. Павел был согласен с Тютчевым.
87
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 66.
88
Там же. С. 46–47.
89
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 66.
90
Там же. С. 88.
91
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 88.
92
Там же. С. 43.
93
Там же. С. 61.
94
См., например, мнение Флоренского о своей «антиномичности» в письме В. В. Розанову в 1909 г. (Там же. С. 276–278).
95
Ср. в письме из Соловецкого лагеря (февраль 1935 г.): «Человечество… есть одно, хотя и важнейшее детище хаоса». Хаос порождает и уничтожает индивидуальное бытие. Для индивида уничтожение есть страдание и зло, но это нельзя понимать как зло в масштабе природы. Это – именно «ни добро, ни зло, а благо, ибо таков закон жизни» (Павел Флоренский, свящ. Сочинения: В 4 т. Т. 4: Письма с Дальнего Востока и Соловков. С. 181–182).
96
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 112.
97
Там же. С. 70–71.
98
Такие попытки имеются. См. у Н. К. Гаврюшина (Гаврюшин Н. К. Русское богословие: Очерки и портреты. Н. Новгород: Просвет. центр «Глагол», 2005. С. 254).
99
«Особенное»: Из воспоминаний П. А. Флоренского. М.: Московский рабочий, 1990. С. 13.
100
В «Воспоминаниях» о. Павел пишет: «Цветочное царство в целом – любил до самозабвения…» (Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 113). См. также в письме из лагеря (ноябрь 1935 г.): «С детства я страстно любил растения, разговаривал с ними и жил как с самыми близкими друзьями» (Павел Флоренский, свящ. Все думы – о вас: Письма семье из лагерей и тюрем 1933–1937 гг. СПб., 2004. С. 154). Ср. в воспоминаниях свящ. А. Ельчанинова «Из встреч с Флоренским (1909–1910)»: «Павел любил растения с детства с какой-то усиленной нежностью, жалостью и пониманием. Он говорит, что любит их за кротость, за их непосредственную близость с землей» (Александр Ельчанинов, свящ. Из встреч с П. А. Флоренским // Флоренский: Pro et contra. Изд. 2-е. СПб.: РХГИ, 2001. С. 41). Сын о. Павла – Кирилл Павлович Флоренский – свидетельствовал об отце: «Он очень любил цветы. Через всю свою жизнь он пронес любовь к цветам. И в Загорске, и в Посаде у нас он занимался цветами, сам сажал, но он не любил рвать цветы… Он выкапывал цветы, сажал их дома, а в саду сажал лесные цветы. И к каждому цветку он относился в течение всей своей жизни как к живому существу…» (Выступление К. П. Флоренского в Абрамцевском музее на вечере, посвященном 100-летию П. А. Флоренского, 22 февраля 1982 г. / Публикация игум. Андроника (Трубачева)) // Энтелехия. 2000. № 2. С. 110).
101
Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 63.
102
Там же. С. 68.
103
Там же. С. 38.
104
Там же. С. 62–63.
105
Цит. по: Бонецкая Н. К. Форум флоренсковедов // Вопросы философии. 2001. № 7. С. 155–156.
106
Цит. по: Отец Павел Флоренский о воспитании. С. 170–171.
107
Флоренский П. Начальник жизни. Слово, сказанное в храме МДА в 1905 г. за литургией второго дня светлой недели. С. Посад: Типография Св. – Тр. Сергиевой Лавры, 1907. С. 5–6.
108
Цит. по: Павел Флоренский и символисты. С. 356.
109
Ср. письмо к матери, январь 1906 г. (Отец Павел Флоренский о воспитании. С. 173–174).
110
Александр Ельчанинов, свящ. Из встреч с П. А. Флоренским. С. 36.
111
Там же. С. 39–40.
112
Ср. общий оккультно-теософский «опыт», засвидетельствованный в реакции Е. И. Рерих на утверждение о том, что «Христос пострадал за нас». «Вы ошибаетесь, – сказала она, – Христос пострадал не за вас, а из-за вас», имея в виду, по словам исследователя ее жизни и творчества, «малопривлекательный тип сентиментальных фанатиков, полагающих, что Высшие силы готовы бесконечно возиться с их маленькой эгоистической личностью (курсив мой. – Н. П.)» (Ключников С. Ю. Провозвестница эпохи огня. Сибирское отделение издательства «Детская литература», 1991. С. 133).
113
Переписка П. А. Флоренского и В. А. Кожевникова // Вопросы философии. 1991. № 6. С. 99.
114
См.: Павел Флоренский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. С. 23, 26, 28.
115
Там же. С. 23.
116
См.: Павел Флоренский, свящ. Все думы – о вас. С. 26–27.
117
Павел Флоренский, свящ. Все думы – о вас. С. 23.
118
См.: Там же.
119
Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. Томск: Водолей, 1999. С. 93.