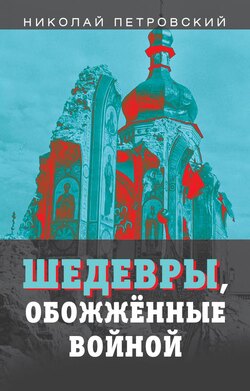Читать книгу Шедевры, обожжённые войной - Николай Петровский - Страница 3
Часть I
Историко-художественные ценности в жерновах войны
Глава 1
Что ценнее – Реймский собор или церковь Спаса на Нередице?
ОглавлениеКазалось бы, о событиях военного времени мы знаем почти все. Но и через семь десятилетий после Победы поток времени порой выносит на «берег» документы, о существовании которых даже специалисты успели забыть или не знали вовсе. Именно такой оказалась недавняя находка в Архиве внешней политики Российской Федерации, где были выявлены весьма важные документы 1941 года, хранившиеся в режиме строгой секретности. Они связаны с попытками нейтральной Швеции выступить в роли посредника между СССР и фашистской Германией по некоторым гуманитарным проблемам.
Дело было так. 14 июля 1941 года посланник Швеции в Москве В.Ассарсон вручил заместителю наркома иностранных дел С.А.Лозовскому меморандум, в котором Стокгольм просил сообщить, признает ли Советский Союз обязательной для себя в войне с Германией Гаагскую конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны.
Ответ последовал через три дня. Лозовский вручил г-ну Ассарсону памятную записку, в которой было сказано: «Советское правительство признает для себя обязательной Гаагскую конвенцию от 18 октября 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны. Однако советское правительство считает необходимым подчеркнуть, что в войне с напавшей на СССР фашистской Германией Советский Союз имеет дело с таким врагом, который систематически грубо нарушает все международные договоры и конвенции. Это обстоятельство ставит советское правительство перед необходимостью соблюдать указанную выше Гаагскую конвенцию в отношении фашистской Германии лишь постольку, поскольку эта конвенция будет соблюдаться самой Германией».
Меньше чем через месяц, 8 августа 1941 года, Народный комиссариат иностранных дел СССР вновь вернулся к этой теме – направил в посольство Швеции в Москве вербальную ноту (письменное сообщение, делаемое в третьем лице и без подписи, что приравнивает его к устному заявлению). В ней повторно напоминалось, что Москва будет соблюдать в войне с фашистской Германией Гаагскую конвенцию, но только на паритетных условиях. Копии ноты были направлены во многие посольства и миссии, аккредитованные в Москве, включая посольства США, Великобритании, Японии и Китая.
Документов, содержащих сведения о реакции главарей Третьего рейха на названные документы, в фондах не обнаружено. Однако по некоторым косвенным данным установлено, что Берлин даже не принял к рассмотрению аналогичное обращение шведского правительства. Тем самым он отказался от соблюдения Гаагской конвенции и не мог рассчитывать на ее выполнение со стороны СССР.
Напомню, что Гаагская конференция 1907 года, в работе которой приняли участие 44 государства, была созвана по инициативе Николая II. Помимо России, в ней участвовали Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, скандинавские страны, Япония, государства Южной и Центральной Америки. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны сыграла немаловажную роль в международно-правовой регламентации ее ведения и стала первым международным соглашением, запрещающим преднамеренное разрушение памятников культуры и их конфискацию во время военных действий.
Это полезно знать потому, что несоблюдение Гаагской конвенции стало самым расхожим обвинением в адрес реституционной политики России. Особенно наглядно это проявилось в меморандуме, поступившем в 1994 году в наше министерство культуры из посольства ФРГ, в котором изложена германская точка зрения на проблему перемещенных культурных ценностей. Сразу вслед за этим, в 1995 году, руководитель управления прессы и информации МИД ФРГ Хаген Ламсдорф опубликовал в книге «Zu Kunst und Kunstpolitik» статью «Возвращение немецких культурных ценностей – пробный камень германо-российских отношений».
Немецкий дипломат категорически отрицает законность вывоза в СССР в 1945–1946 годах германских культурных ценностей в качестве компенсаторной реституции. И ссылается при этом на статьи 46 и 56 Гаагской конвенции, в которых сказано: «Произведения искусства и науки и посвященные искусству и науке учреждения на оккупированных территориях охраняются от изъятия независимо от того, находятся ли они в частной или государственной собственности».
Однако по-немецки дотошный Ламсдорф почему-то не замечает второго абзаца 56-й статьи: «Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных учреждений, исторических памятников, произведений художественных и научных воспрещается и должны подлежать преследованию». Вот несколько фактов, иллюстрирующих, в каких масштабах осуществлялись подобные действия на территории России. От рук фашистских оккупантов пострадало 173 музея, были обращены в руины тысячи библиотек, архивов, школ. Стерты с лица земли православные храмы и святыни Пскова и Новгорода. Преднамеренно были уничтожены такие выдающиеся историко-культурные памятники как Успенский собор Киево-Печерской лавры (XII в.) и Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря. А число утраченных движимых объектов культуры вообще не поддается никакому учету.
Не секрет, что ФРГ не признает российский закон о перемещенных культурных ценностях, считая, что в нем не соблюден приоритет международного права и полностью игнорируется Гаагская конвенция. Согласиться можно лишь с последним: в нашем федеральном законе, как ни странно, действительно нет ни единого упоминания о Гаагской конвенции. Возможно, российские законодатели считают, что ее в определенной степени подменяет Декларация союзных и соединенных государств, подписанная в Лондоне 5 января 1943 года странами антигитлеровской коалиции. В ней фашистская Германия и ее сателлиты предупреждались о незаконности приобретения похищенных культурных ценностей.
Но самое удивительное и конфузное – да извинят меня российские парламентарии! – заключается в том, что этот документ в российском законе почему-то именуется «Декларацией Объединенных Наций от 5 января 1943 года». А ведь ООН была создана лишь в октябре 1945 года! Ляп, дающий неограниченные возможности оппонентам демонстрировать свое чувство юмора по поводу «этих странных русских».
Не исключаю, что желание «забыть» о Гаагской конвенции было продиктовано стремлением не акцентировать внимания на «невыгодном» для России юридическом документе. Но мы успели убедиться, что это заблуждение.
А теперь еще немного истории. Проблема возмещения потерь в сфере отечественной культуры возникла уже в начальный период Великой Отечественной войны. 2 ноября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников (ЧГК). Одним из направлений ее деятельности являлось определение ущерба, нанесенного культуре. Советская номенклатура в комиссии была представлена Н.М.Шверником (председатель) и главным партидеологом А.А.Ждановым. Остальные места достались видным ученым, художникам, архитекторам, писателям. «Дежурного героя» – в то время он был обязательным – представляла знаменитая летчица Валентина Гризодубова, а церковь, опору в которой с началом войны искал Кремль, – митрополит Киевский и Галицкий Николай.
Для оценки разграбленного и уничтоженного фашистами культурного достояния ЧГК создала собственное экспертное подразделение – Бюро экспертизы, которое возглавил академик И.Э.Грабарь. Он же был главным разработчиком концепции так называемой компенсаторной реституции.
Огромный массив документов Чрезвычайной комиссии, а это главным образом стенограммы заседаний за 1943–1944 годы, хранится в Государственном архиве Российской Федерации. С этими материалами, откровенно говоря, никто еще серьезно не работал. А между тем пожелтевшие страницы с текстами, которые неровным шрифтом набивали усталые машинистки, сохранили непередаваемый дух военного времени. Знакомясь с ними, нельзя не заметить, что у членов комиссии тогда еще не было ясности в том, как разобраться в гигантских масштабах разграбленных и уничтоженных оккупантами богатств, а главное, как, хотя бы примерно, оценить стоимость потерь. Самые большие трудности возникли при разработке методики оценки разрушенных памятников архитектуры.
В качестве примера наиболее часто фигурировала уничтоженная немецкой артиллерией Спасо-Преображенская церковь на Нередице, один из самых замечательных памятников средневековой архитектуры и живописи XII века. Игорь Грабарь говорил, что взамен нее можно было бы «взять да привезти какой-то Реймский собор». Или, с учетом заведомой нереализуемости этой идеи, предлагал искать эквивалент в «Сикстинской мадонне». Стоимость Спасо-Преображенской церкви тогда представлялась ему сопоставимой со стоимостью «1 °Cикстинских мадонн».
Конечно, сегодня эти утверждения выглядят диковато, если не сказать – цинично. Но вспомним, в какое время работала комиссия. По стране, громыхая, катился тяжелой каток гитлеровской военной машины, оставляя за собой руины и дым пожарищ. Илья Эренбург в те дни писал: «Я призываю к ненависти!». Константин Симонов в раскаленных гневом стихах заклинал солдат истреблять фашистов: «Сколько раз ты увидишь его, столько раз и убей!». А Михаил Шолохов сборник своих военных очерков назвал «Наука ненависти». И это было точным отражением настроений, которыми жила страна, подвергшаяся самой жестокой агрессии в мировой истории.
Для разрядки замечу, что среди экспертов порой возникали и курьезные – с сегодняшней точки зрения – споры. Так, оценивая урон, причиненный мемориальным зданиям в Ленинграде, известный питерский архитектор Николай Белихов поставил в один ряд дома, в которых жили Некрасов и Ленин. «Должна быть разница между ними», – строго поправил академик Грабарь. «Где больше и где меньше?» – попросил уточнить Белихов, человек, видимо, смелый. «Конечно, для Ленина больше», – последовал ответ.
Заходила речь и о поразительном мужестве, которое проявляли советские люди, пытаясь защитить художественные сокровища народа. Об одном из таких случаев рассказал Грабарь. Фашисты вывозили из Пятигорска ценности, переправленные туда из Ростовского музея, но, по его словам, «благодаря фанатичной преданности трех музейных работников, которые жили под угрозой расстрела, часть ящиков была спасена и спрятана. Как их отблагодарить? Это настоящие герои, как на фронте. Они спасли Левитана, Репина…».
По инициативе Алексея Толстого был поднят вопрос об издании альбомов с изображением погибших памятников. Были намечены два издания – альбом для заграницы, содержащий 100–150 снимков большого размера «того, что было, и того, что осталось после разрушений», и скромное издание для советского читателя: «небольшие фотографийки, которые дают фактический материал».
В молодые годы Игорь Грабарь подолгу жил в Германии и хорошо знал сокровища немецких музеев. На одном из заседаний экспертного совета, рассматривая проблему возмещения наших потерь в сфере культуры, он говорил: «Мне казалось бы, что мы никоим образом не должны покушаться на такие экспонаты германских музеев, которые являются национальными памятниками самой Германии. Нам… важно получить то, что они успели собрать со всего света».
До взятия Берлина было еще далеко, только-только отгремел Сталинград, а Грабарь был убежден, что из Берлинского музея Пергамон в Советский Союз в порядке компенсации будет вывезен Пергамский алтарь – знаменитый античный рельеф, запечатлевший битву греческих богов и гигантов. «Пергамский алтарь, – говорил он, – мы непременно вывезем, но вот незадача – что они (союзники. – Прим. Н.П.) зачтут за него?»
Академик Грабарь и доктор искусствоведения В.Н.Лазарев 29 сентября 1943 года обратились с письмом к Сталину, в котором указывали, что возмещение за ущерб, причиненный художественным ценностям СССР, должно быть получено в виде экспонатов, собранных в богатейших германских музеях. Подготовленный ими список эквивалентов включал 1745 первоклассных предметов искусства на общую сумму более 70,6 миллиона американских долларов.
Оставив в стороне все другие аспекты, нельзя не поразиться тому, что в 1943 году, когда впереди было еще полвойны, Грабарь и его коллеги по Комиссии нисколько не сомневались, что СССР как стране-победительнице будут в законном порядке переданы «Сикстинская мадонна», резные алтари Нюрнберга, тот же Пергамский алтарь. И ведь все эти и многие другие шедевры в самом деле были вывезены в Москву и Ленинград!
Правда, спустя десять лет 90 процентов перемещенных из Германии в СССР культурных ценностей были возвращены «братской ГДР». Но это тема отдельного разговора…
Никаких ссылок на Гаагскую конвенцию в материалах ЧГК я не нашел. Да стоит ли удивляться? В то время на повестке дня стояли совсем другие вопросы. Надо было организовывать поиски похищенных историко-культурных ценностей и хотя бы частично компенсировать немецкими музейными экспонатами тот колоссальный ущерб, который был причинен культурному достоянию нашей страны.
Оценить его, как мы уже знаем, чрезвычайно трудно. Вопрос о том, что ценнее, – Реймский собор или церковь Спаса на Нередице – попросту лишен смысла. У каждого народа своя шкала национальных ценностей. Но ясно одно: при любой системе подсчета военные потери нашей страны, в том числе в области памятников культуры, ни с чем несравнимы и остаются невосполненными.