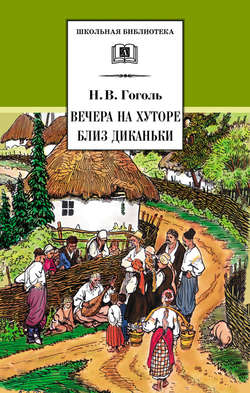Читать книгу Вечера на хуторе близ Диканьки - Николай Гоголь, Николай Васильевич Гоголь, Nikolai Vasilievich Gogol - Страница 2
…И по ту, и по эту сторону Диканьки
ОглавлениеДо настоящего времени книга повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832) не утратила той свежести, какую почувствовали в ней ее первые читатели. Сам Гоголь в 1831 году, посылая матери экземпляр книги, писал: «Она понравилась здесь всем, начиная от Государыни…» А. С. Пушкин сообщал тогда же А. Ф. Воейкову: «Сейчас прочел „Вечера близ Диканьки“. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность!»
«Старайтесь лучше видеть во мне христианина и человека, чем литератора», – писал Гоголь. Это пожелание автора отнюдь не случайная обмолвка. С самого первого художественного цикла Гоголь вступает в литературу не только как веселый, оригинальный рассказчик, но и как глубокий, связанный с православной отечественной традицией мыслитель.
В 1831 году мать Гоголя, Мария Ивановна, получив от сына первую часть «Вечеров…», писала близкой родственнице О. Д. Трощинской: «Николай мой все стремится быть полезным для родного края, и я несколько понимаю его цель; в сей книге он коснулся ее…» Позднее, в 1847 году, поэт и критик Ап. Григорьев, говоря о лиризме «Вечеров…» в связи с позднейшим творчеством писателя, проницательно заметил: «…в то же самое время и здесь… выступает ярко особенное свойство таланта нашего поэта – свойство очертить всю пошлость пошлого человека и выставить на вид все мелочи, так что они у него ярко бросаются в глаза… Ни один писатель… не одарен таким полным, гармоническим сочувствием с природою… и… ни один писатель не обдает вашей души такою тяжелою грустью, как Гоголь, когда он… обливается… негодованием над утраченным образом Божиим в человеке…» (курсив наш. – И. В.).
Не только собственно «реалистическая», бытовая сторона повестей «Вечеров…», но даже и сама их «фантастика», при всей кажущейся произвольности, подчинена у Гоголя глубокому внутреннему смыслу. По словам протопресвитера Василия Зеньковского (в одной из его ранних работ), «Гоголь гораздо более, чем Достоевский, ощущал своеобразную полуреальность фантастики, близость чистой фантастики к скрытой сущности вещей. Уже в „Вечерах на хуторе близ Диканьки“ это чувствуется очень сильно». Добавим, что ранние повести Гоголя помогают, в частности, понять и то, почему писатель так и не связал себя, по обыкновению, семейными узами, но оставался до конца своих дней «монахом в миру».
Сорочинская ярмарка
«Сорочинская ярмарка» – первая (в композиции) повесть цикла, в которой вполне раскрылся талант Гоголя не только как занимательного рассказчика, но и как верного бытописателя. Материал для создания повести Гоголь черпал из своих детских и юношеских воспоминаний. Четыре раза в год ярмарки проводились в Васильевке – родовом имении Гоголей, при этом скотная ярмарка, по словам самого писателя, была крупнейшей в губернии.
Неудивительно, что за шуточным повествованием встают в «Сорочинской ярмарке» темы весьма серьезные, почерпнутые из самой жизни. Подчеркнем чрезвычайно существенный для всей повести «морально-экономический» подтекст, осмысление которого мы находим и в зрелом творчестве писателя. Так, весь итог ярмарки в отношении к главному герою, Солопию Черевику, заключается, как изображает Гоголь, в том, что на деньги, вырученные от продажи пшеницы, Хивря бежит закупать себе всяких «плахт и дерюг». Соответственно этому строится и зачин «Сорочинской ярмарки», где вслед за ремесленником-гончаром, везущим на ярмарку ярко расписанные миски и горшки, – привлекающие, как сказано в черновой редакции повести, «завистливые взгляды поклонников роскоши», – появляется тут же воз Солопия Черевика с мешками пшеницы и с сидящей на возу щеголихой Хиврей.
Созвучен трате Хиврей денег на щегольские наряды и другой «итог» ярмарки – женитьба казака Грицька на Параске, брак, как показывает писатель, чреватый воцарением новой щеголихи. Изображаемое в повести всеобщее веселье по поводу состоявшейся свадьбы вызывает у самого автора скорее грустные, чем веселые чувства: «И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему!»
«Громкое хлопанье по рукам и распиванье магарыча… дадут знать вам, что сделка или покупка совершены», – как бы подсказывает рассказчик в черновой редакции повести мысль о том, что заключение брака между его героями отнюдь не принадлежит к сфере «возвышенной» жизни, но, напротив, относится к весьма обыденной и «низменной» ее области – столь же «низменной», как и заключение прозаической торговой сделки: «Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу!»
«Мачеха, – рассуждает далее в повести Параска, – делает все, что ей ни вздумается; [разве и я не женщина] разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет. <…> Дай примерить очипок, хоть мачехин, как-то он мне придется!» – спешит она – еще до замужества – освоиться на «царстве». Нетерпение Параски Гоголь подчеркивает, имея в виду прямо противоположное поведение невесты в традиционном украинском свадебном обряде, описание которого он внес в 1829 году в свою «Книгу всякой всячины, или Подручную Энциклопедию»: «…женщины… с пеньем расплетают ей косу и подают очипок, который она бросает, и за третьим уже разом надевают ей на голову и выпроваживают ее к мужу».
Роднит юную Параску с мачехой и страсть к нарядам и украшениям. «Так и дергала» ее, замечает рассказчик в черновой редакции повести, «непонятная сила под ятки к крамаркам, где развешаны были самые яркие ленты, перстни, серьги, монисты».
Объединяющим же оба женских образа щеголих «Сорочинской ярмарки», «ведьмы» Хиври и юной Параски, является в повести изображение роскошной и «своенравной» «реки-красавицы» (над которой задумывается, проезжая мост, «славная дивчина» Параска), что «с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет».
С другой стороны, как дает понять рассказчик, и Параске не очень-то повезло с ее женихом – таким же, как она, щеголем, да к тому же изрядным любителем «пенной». «Достоинства» в этом отношении будущего супруга Параски хорошо поясняет эпиграф к третьей главе «Сорочинской ярмарки», взятый Гоголем из «Энеиды» Котляревского: «Сивуху так, мов <как> брагу, хлище!» – «на свiти трохи <мало> есть таких».
Обращаясь к Параске, ее отец простодушно восклицает: «Какого я жениха тебе достал! Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!..» Очевидно, Параске предстоит испытать с таким «суженым» много горя.
Одним из основополагающих мотивов «Вечеров на хуторе близ Диканьки» является тема отпадения человека от данного ему Божественного откровения – тема преступления христианских заповедей ради пустых, продиктованных тщеславием и гордостью светских приличий или же тема нарушения заповедей ради греховных удовольствий. Непосредственным проявлением этой темы можно назвать часто изображаемое Гоголем в его «сказках» несоблюдение героями церковных постов. На эту черту героев Гоголь указывает почти во всех повестях цикла: в «Вечере накануне Ивана Купала», «Пропавшей грамоте», «Ночи перед Рождеством», «Иване Федоровиче Шпоньке…». Особым образом этот мотив преломляется в «Майской ночи» и в «Страшной мести».
Соответствующее упоминание о посте есть и в «Сорочинской ярмарке». Слова автора о том, что действие его рассказа начинается в «один из дней жаркого августа», и диалог героев о только что прошедшем посте указывают здесь на Успенский пост (продолжающийся с 1 по 14 августа ст. ст.). Как и в других повестях, главной здесь является мысль о его преступном нарушении. «…Батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре… – сообщает «любезнейшей» Хавронье Никифоровне пришедший к ней в гости попович. – Но воистину сладостные приношения… единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна!» Смысл поста, заключающийся в сугубом воздержании от греха, совершенно утрачен для поповича Афанасия Ивановича (пост для которого всего лишь время приношений).
Важен для понимания замысла повести эпиграф к ее кульминационной, восьмой главе, как бы прообразующий возмездие, настигающее героев за грехи:
…Пiджав хвiст, мов собака,
Мов Каїн, затрусивсь увесь;
Iз носа потекла табака.
Котляревский. Энеида
(Поджав хвост, как собака, как Каин, затрясся весь; из носа потек табак; укр.) Так в «Энеиде» Котляревского описывается состояние главного героя, Энея, когда тот, забыв о своем назначении и погрузившись в разгульное пьянство, получает от Зевеса порядочный нагоняй. По своему содержанию («Ужас оковал всех находившихся в хате») эта глава «Сорочинской ярмарки» представляет собой как бы будущую немую сцену комедии Гоголя «Ревизор», в которой, по замыслу автора, сам Бог наказывает обремененных грехами чиновников, попуская им испытать при известии о грядущей ревизии разные «степени боязни и страха» – «вследствие великости наделанных каждым грехов».
В замысле «немой сцены» «Сорочинской ярмарки» как «сцене» возмездия отразилось, с одной стороны, отрицательное отношение Гоголя к «детским предрассудкам» и суевериям, с другой – это особый взгляд на народные верования Гоголя-историка. Богатство народной мифологии как бы свидетельствует о богатстве породившей ее веры – веры в невидимый мир. «…Жажда бессмертия уже кипит и в неразвившемся человеке», – замечал он в статье «О движении народов в конце V века» (1835). По размышлению Гоголя, даже исполненные языческих суеверий старинные народные сказки обладают живительной силой, ибо несут в себе и породившую их веру в загробный мир – следовательно, и ждущее каждого человека воздаяние. Смешанный с суевериями страх перед потусторонними силами играет, таким образом, в жизни героев «Сорочинской ярмарки» – сластолюбивого поповича, Хиври, Черевика – весьма немаловажную роль, хотя бы в «таинственные часы сумерек».
Вечер накануне Ивана Купала
В «Вечере накануне Ивана Купала» Гоголь также, несмотря на сказочный сюжет, ставит проблемы весьма серьезные. Повесть исполнена как верных черт быта, так и проницательных наблюдений в обрисовке характеров героев. Глубокой психологической правдой отличается описание состояния главного героя повести после совершенного преступления: «…будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада… Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять. <…> И все думает об одном, все силится припомнить… и… не может вспомнить. <…> И после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука…» Впоследствии Ф. М. Достоевский в «Преступлении и наказании» почти буквально повторил это описание психологического состояния преступника после совершенного убийства.
Сам Гоголь в первоначальной, журнальной, редакции повести объяснял «забывчивость» своего героя прельщением доставшимся богатством: «…Каким образом достал он клад… никак не мог понять. – Да и до того ли, когда перед глазами такая несметная куча денег?» Эта черта героя была еще более подчеркнута рассказчиком в эпизоде встречи Петруся со своим искусителем в шинке, где тот пообещал «выручить» его из беды: «Часто видел он Бисаврюка[2], но тщательно избегал с ним всякой встречи… а теперь был готов обнять дьявола, как родного брата…» «…Деньги в карманах, так и лукавый станет ангелом», – пояснял рассказчик в черновой редакции «Сорочинской ярмарки».
Такого же рода психологической верностью отличается в повести рассказ о попытках героя овладеть кладом: «Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже…» В 1832 году Гоголь, собирая материалы для задуманной им комедии, записал следующее «старое правило», содержание которого во многом поясняет сюжет «Вечера накануне Ивана Купала»: «…Уже хочет достигнуть, схватить рукою, как вдруг помешательство и отдаление желанного предмета на огромное расстояние. Как игра внакидку и вообще азартная игра». Это «правило» было положено тогда же Гоголем в основу незавершенной комедии «Владимир 3-й степени». По воспоминаниям современника о ее содержании, «герой комедии добивается получить Владимирский крест, и судьба несколько раз безжалостно обманывает его чиновничье честолюбие: уже, кажется, все сделано, вот-вот повесят Владимирский крест, а тут, как нарочно, что-нибудь да помешает. Последняя неудача сводит героя комедии с ума». Преступление героя «Вечера накануне Ивана Купала» Гоголь тоже изображает как прямое сумасшествие. «Как безумный, ухватился он за нож…» – замечает он о своем решившемся на преступление герое.
Рассказчик проявляет пристальный интерес к тому участию, какое принимает в судьбах его героев нечистая сила – «обстояние бесовское» или, говоря словами Гоголя, «твердое признание незримых сил», окружающих человека повсюду.
«Вечер накануне Ивана Купала» был написан Гоголем ранее других повестей цикла. Можно, кажется, вполне определенно судить, почему именно день Ивана Купалы – день празднования рождества Иоанна Предтечи (24 июня ст. ст.) – Гоголь избрал для своего произведения. Позднее в свою записную книжку он внес заметку о народном праздновании Ивана Купалы, позволяющую догадываться о характере интереса Гоголя к изображенному им миру: «Ко времени Купала приходят в зрелость все лекарственные травы и коренья, а потому и собираются… Гаданья, собиранья трав в сии дни, когда природа совокупляет все свои силы и тайны, вдыхает предчувствие мира духовного…»
Именно это «предчувствие мира духовного» пронизывает так или иначе замыслы всех повестей «Вечеров…». «Трезвитесь, бодрствуйте, – говорит апостол Петр в своем Первом послании, – потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить…» (гл. 5, ст. 8). Эта заповедь является как бы ключевой для замысла целого сборника. Но тут же необходима оговорка. Не следует очень-то доверять гоголевским рассказчикам, когда они простодушно повествуют вам о досадных, подчас просто комических «пакостях» нечистого – существа, согласно их рассказам, весьма недалекого и ограниченного. Герои Гоголя, постоянно толкующие о кознях лукавого, рассказывающие друг другу истории о его проделках, на деле почти всегда недооценивают своего противника. И напротив, подверженность вполне реальным, уже не сказочным и не фантастическим, искушениям лукавого гоголевские рассказчики в «простоте» своей считают подчас делом вполне «обыкновенным» и даже безгрешным, не имеющим ничего общего со злыми духами. Между тем эти-то воздействия темных сил и представляют собой, по Гоголю, действительную «брань» добра и зла за души людей. «Брань» куда более серьезную и опасную, чем благополучные путешествия героев народных легенд и анекдотов в «пекло» и обратно.
Как и другие повести цикла, «Вечер накануне Ивана Купала» посвящен изображению «невидимой брани» темных сил за душу человека. Примечательно, что грехопадение главного героя начинается, согласно замыслу Гоголя, вовсе не с момента его появления в шинке (и встречи здесь Петруся с «дьяволом в человеческом образе» Басаврюком). Падение его готовится исподволь, задолго до этого события.
Свое преступление стремящийся к обогащению герой «Вечера накануне Ивана Купала» совершает в пост. День рождества Иоанна Предтечи (Ивана Купалы) всегда приходится на Петров пост (начинающийся в период между 17 мая и 20 июня ст. ст. и оканчивающийся 28 июня ст. ст.). Это отпадение героя, Петра Безродного, от церковных обычаев подчеркивается в повести и самой «неблаговременностью» его отчаянного прихода в сельский шинок. Петрусь появляется здесь, по замечанию рассказчика, «в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене».
С другой стороны, яркие обольстительные наряды красавицы Пидо́рки: шитый золотом кунтуш, красные сафьяновые сапоги на высоких железных подковах, разноцветные парчовые ленты, – все это прямо служит к тому, что, прельщенный обаянием своей возлюбленной, Петрусь решается ради нее сначала «идти в Крым и Туречину, навоевать золота», а затем прямо поднимает руку на жизнь другого человека, брата Пидорки.
С пребыванием в селе «бесовского человека» Басаврюка связывает Гоголь происхождение женских обольстительных украшений: «Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист – девать некуда!» Этому смысловому зачину повести соответствует и ее финал – покаяние Пидорки: «Куда ушла она, никто не мог сказать. <…> Но приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки, по всем приметам, узнали Пидорку… что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались, на него глядя». Поступок Пидорки, принесшей в монастырь драгоценный дар, прямо соответствует одному из событий Священной истории, когда на построение богослужебной скинии каждый из народа принес Моисею потребные материалы и украшения: «И принесоша мужие от жен своих… печати, и усерязи, и перстни, и пленицы[3], и мониста… в дар Господу» (Вторая книга Моисея. Исх., гл. 35, ст. 22, 24).
Гоголь высоко ценил красоту и дорожил ею. Греховное и недостойное ее употребление он считал «святотатственным».
В выписке Гоголя «Одежда и обычаи русских. (Из Олеария)» читаем: «Женщины в России обыкновенно росту среднего, стройны и хороши лицом, но в городах все до одной белятся и румянятся так грубо, как будто бы они были вымазаны мукою и натерли себе щеки краскою. Они также чернят брови и ресницы. Жена боярина Ивана Борисовича Черкасского, необыкновенно прекрасная лицом, не соглашалась в начале замужества своего белиться и румяниться; другие боярские жены обвиняли ее гласно в пренебрежении обычаев, и она принуждена была согласиться. Так как обычай сей сделался повсеместным, то каждый жених вменяет себе в обязанность перед свадьбой, между прочими подарками, доставить невесте своей ящичек с белилами и румянами».
Последняя выписка чрезвычайно характерна для Гоголя и много дает для понимания его ранних произведений. Она отражает постоянный интерес писателя к незаметному, «обыкновенному» греху – такому, совершение которого в обществе подчас не только не порицается, но даже поощряется, превращается в «нестыдный обычай» и обязанность – в «закон». Борьбу с этими общепринятыми «законами света» Гоголь начал с самых ранних произведений.
В атмосфере господства мирских «законов» и обычаев человек начинает оцениваться почти исключительно с точки зрения исполнения им «тонких обычаев света», а не с нравственной или духовной стороны. При этом «законы света» и питающая их гордость царят не только в «высоком» аристократическом кругу, но и в душах самых простых людей. Как показывает Гоголь, с точки зрения «общепринятых» пустых или прямо греховных обычаев начинают оцениваться гоголевскими героями не только качества людей, живущих в миру (собственно мирян), но даже лица духовного звания.
Так, например, в предисловии к первой части «Вечеров…» «издатель» этой книги, сельский пасичник Рудый[4] Панько[5], хвалит рассказчика нескольких своих повестей, местного дьячка Фому Григорьевича: «И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. <…> Вот, например, знаете ли вы дьяка[6] диканьской церкви, Фому Григорьевича?» Далее выясняется, что в пример Рудый Панько ставит Фому Григорьевича вовсе не потому, что он дьяк, то есть духовное лицо, но, напротив, как раз за то, что тот отличается от людей его звания блестящими светскими «достоинствами» – тем, что он «никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках» (халата из пестряди[7] – грубой домашней ткани), а ходил «в балахоне» из тонкого дорогого сукна – «цвету застуженного картофельного киселя»[8], «за которое платил… в Полтаве чуть не по шести рублей аршин»; тем, что чистил сапоги не дегтем, а «самым лучшим смальцем, какого… с радостью иной мужик положил бы себе в кашу»; тем также, что, вытирая нос, пользовался платком, который, по обыкновению, аккуратно складывал «в двенадцатую долю и прятал в пазуху».
Но можно заметить, что именно Фоме Григорьевичу принадлежат в «Вечерах…» реплики, обличающие в нем, по воле автора, изрядного суевера – что конечно же несовместимо с его духовным званием, но вполне объяснимо в нем как ревностном исполнителе мирских «законов», – заключающих в себе, помимо «законов света», такую же «законодательную» власть суеверных преданий. Суеверные реплики дьяка Фомы Григорьевича призваны, по замыслу автора, явить читателю истинную цену светских «достоинств» героя.
Эту черту сельского дьячка Гоголь и подчеркивает в «Вечере накануне Ивана Купала», рассказывая о суеверии жены Петруся Пидорки, над которой, как «простодушно» замечает тут Фома Григорьевич, «раз кто-то уже сжалился» и для исцеления мужа «посоветовал идти к колдунье» (по церковным правилам, обращающиеся к колдунам лишаются, по степени вины, участия в таинствах на несколько лет и отлучаются от церкви). Обращениям Пидорки в «Вечере накануне Ивана Купала» к знахарям и колдунье подчеркнуто противопоставлено автором упоминание в начале повести о бывшей в селе церкви Святого великомученика и целителя Пантелеимона, к которому, очевидно, и следовало прибегнуть за настоящей помощью.
Майская ночь, или Утопленница
Реальные черты быта родной Васильевки отразились у Гоголя и в повести «Майская ночь». Наиболее явственно эти бытовые реалии сказались здесь в размышлениях героев об одном из новейших изобретений цивилизации – применении паровой силы. «Ну, сват, вспомнил время! – говорит в повести один из героев, сельский винокур. – Тогда от Кременчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь… Слышал ли ты, что повыдумали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а как-то чертовским паром».
Хотя «критика» здесь винокуром «прогрессивного» немецкого винокурения конечно же лукава (сам он говорит о пьянице Каленике: «Это полезный человек; побольше такого народу – и винница наша славно бы пошла…»), однако в ней достаточно очевидно проглядывает отношение самого Гоголя к использованию этого изобретения – «курению паром». В 1824-м или в начале 1825 года отцу Гоголя, Василию Афанасьевичу, было сделано предложение об устройстве паровой винокурни – подобная имелась уже по соседству, в имении его богатого родственника Д. П. Трощинского (эта винокурня представляла собой, по сути, один из первых в Малороссии винокуренных заводов). Еще ранее, в 1819 году, сам Василий Афанасьевич писал Трощинскому, что на «производство винокурения парами» он и другие («мы с простыми умами») смотрят «как на некое чудо». Вероятно, отношение Василия Афанасьевича к этому проекту было отрицательным. Ибо по сравнению с соседскими имениями васильевская винокурня всегда была чрезвычайно малопроизводительна, так что горелку даже докупали у соседей. Винокурение на Украине составляло одну из существенных статей дохода. Уже после смерти мужа мать Гоголя, стесненная в материальных средствах, приобретает оборудование для парового винокурения, позднее, в 1833 году, она пытается завести в своем имении – под началом какого-то «шарлатана, австрийского подданного» – кожевенную и сапожную фабрики, не довольствуясь той кустарной выделкой кожи, которая была при Василии Афанасьевиче. Примечателен в этом свете стихотворный «девиз» отца Гоголя:
Одной природой наслаждаюсь,
Ничьим богатством не прельщаюсь,
Доволен я моей судьбой,
И вот девиз любимый мой.
Вероятно, Мария Ивановна имела основания незадолго до смерти мужа жаловаться ему в письме на недостаток средств: «…Все говорят и думают, что мы богаты, а от скупости не хотим ничего иметь, и не знают нашей, иногда крайней нужды…»
Воспоминанием родных мест отзывается в повести и описание майского гулянья парубков и их ряженья. Вообще говоря, тема ряженья – одна из «сквозных» для повестей «Вечеров…». Помимо «Майской ночи», эта тема затрагивается в «Сорочинской ярмарке» («сатана в костюме ужасной свиньи»), в «Вечере накануне Ивана Купала» (свадебное ряженье). Поэтому необходимо хотя бы отчасти затронуть вопрос об отношении Гоголя к «карнавальному» народному веселью в целом.
В публикации «Московского вестника» за 1827 год говорится: «Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется… Карнавал тем только отличается от Масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства».
Позднее в своих письмах из Италии Гоголь не раз сравнивал римский карнавал с русской Масленицей, однако ни римскую карнавальную жизнь, ни русское масленичное или святочное гулянье Гоголь ни в ранних, ни в поздних своих произведениях отнюдь не идеализировал.
Такое именно отношение и характеризует изображение святочной гульбы парубков в «Майской ночи». Действие этой повести происходит, судя по времени года (май), в так называемые Троицкие святки – на «зеленой», или «русальной», неделе, начинающейся с праздника Святой Троицы.
Все события «Майской ночи» – прежде всего гульба веселящихся парубков – разворачиваются, как указывает автор, определенно в недозволенное, с точки зрения благочестивых обычаев, время, а именно ночью, «когда благочестивые люди уже спят» (так сообщает об этом рассказчик). «Нет, хлопцы… не хочу! – увещевает разгулявшихся парубков Левко. – Что за разгулье такое! Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать!»
Еще несколькими репликами героев Гоголь подсказывает и какого рода «вдохновение» охватывает гуляющих ночью «вволю» парубков. «Плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе», восклицает: «„Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься – чудится, будто поминаешь давние годы“. <…>…Толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками…» «Бесник, ночной повеса», – отметил позднее Гоголь в своем «объяснительном словаре» русского языка. «Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам!» – сообщают в «Майской ночи» голове Евтуху Макогоненку сельские десятские.
Обратившись к другим повестям «Вечеров…», можно обозначить и «крайние точки» в гоголевской оценке «гулянья» – от невольного увлечения юношеским весельем (при сохранении, однако же, трезвой дистанции) до очевидного осуждения гульбы-беснования.
«Трудно рассказать, – замечает рассказчик «Ночи перед Рождеством», – как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. <…> Парубки шалили и бесились вволю». «И стал черт такой гуляка, – как бы продолжает рассказчик «Сорочинской ярмарки», – какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке!..»
Отсюда недалеко уже и до гульбы «дьявола в человеческом образе» Басаврюка, описанной в журнальной редакции 1830 года «Вечера накануне Ивана Купала»: «…днем он был почти невидимка… Ночью же только и дела, что пьяная шайка Бисаврюка… ни в чем не уступавшая своему предводителю, с адским визгом и криком рыскала по оврагам или по улицам соседнего села…»
Гулянье парубков «Майской ночи» занимает как бы срединное положение в этой широкой градации. Но, согласно размышлениям Гоголя, даже и самое невинное карнавальное веселье представляет собой в конечном счете если не прямо греховное, то, во всяком случае, пустое, бездумное времяпрепровожденье. В 1840 году, в черновой редакции восьмой главы первого тома «Мертвых душ», Гоголь замечал по поводу такого праздничного гулянья, что молодежь, скрывшаяся под масками, «раз в год хочет безотчетно завеселиться, закружиться и потеряться в беспричинном веселье, избегая и страшась всякого вопроса, а… маски на их лицах… как будто смотрят каким-то восклицательным знаком и вопрошают: к чему это, на что это?».
Другая важная тема, поднимаемая в «Майской ночи», – тщеславие обыкновенного, «маленького» человека. Сюжет повести во многом строится на борьбе неудовлетворенных честолюбий героев: с одной стороны – тщеславного сельского головы, с другой – не менее честолюбивых парубков. «Кто бы из парубков не захотел быть головою!» – восклицает о них рассказчик.
«…Они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровня, – рассуждает в повести голова Евтух Макогоненко, удостоенный однажды «высокой чести» сидеть во время проезда Екатерины II в Крым на козлах с царицыным кучером. – Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой козак!»
В свою очередь, сын сельского головы Левко, решившийся «побесить хорошенько» вместе с парубками голову, который приходится ему родным отцом, восклицает: «Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные козаки!» «Я сам себе голова», – вторит парубкам шатающийся по улицам села пьяный гуляка Каленик.
Честолюбие парубка Левко еще более обнаруживается в его рассказе о панночке-утопленнице – в частности, в том, как он объясняет причины ее самоубийства: «Сотникова жена… умерла; задумал сотник жениться на другой. „Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?“ – <…> „Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!“ <…> На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои». «Парубок, найди мне мою мачеху! – жалуется Левко сама утопленница-панночка. – …Мне не было от нее покою на белом свете. Она мучала меня, заставляла работать, как простую мужичку». Это как бы само собой разумеющееся для гордой панночки признание себя недостойной презренной участи «простой мужички» отражается в повести и в тех дорогих украшениях, которыми тешат себя девы-утопленницы: «…Золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях…» Напомним, что и «гарантией» сохранения «панского», «господского» положения дочери при новой жене было именно обещание сотника продолжать дарить дочери яркие серьги и монисты – как бы знаки и свидетельства этого достоинства. Примечательно в этом свете и упоминание рассказчика при описании невесты парубка Левко, «гордой дивчины» Ганны (испытывающей какие-то особые чувства при рассказе о судьбе панночки-утопленницы), о ее украшениях – на шее ее «блистало красное коралловое монисто».
Пропавшая грамота
Мотив бесшабашной гульбы, воплощенный в «Майской ночи», Гоголь развивает далее в «Пропавшей грамоте». Действие этой повести начинается с описания уже знакомого нам разгульного веселья сельской ярмарки. «…Так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка-парубок с покрасневшим, как снегирь, носом…»
Объяснение, почему нос парубка напоминал свеклу или снегиря, можно найти у Гоголя в черновом наброске к повести «Нос»: «…Нос был полноват, с едва заметными тонкими и самыми нежными жилками, потому что коллежский асессор любил после обеда выпить рюмку хорошего вина». И в реплике Плюшкина из шестой главы первого тома «Мертвых душ»: «Вот возле меня живет капитан… С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается». Есть такая подсказка и в самих «Вечерах…» – в упоминании о пьянице-бабе с «фиолетовым носом» в «Ночи перед Рождеством».
Не успел дед пройти далее «двадцати шагов, – продолжает рассказчик «Пропавшей грамоты», – навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно!» «Слово за слово, и завелась меж ними дружба, гульня и попойка (с утра до вечера)…» (черновая редакция). «Попойка завелась, как на свадьбе перед постом Великим» (окончательная редакция). Несмотря на это недвусмысленное замечание, не оставляющее будто бы сомнения в том, что действие повести происходит не во время поста, – разгульная попойка героев все-таки совершается в пост, как это явствует из самого содержания «Пропавшей грамоты». По словам рассказчика, герой отправляется в «пекло» (именно сюда приводит деда его пьяная «гульня») в ту ночь, «в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих», то есть, согласно еще одной выписке Гоголя в «Книге всякой всячины…», опять-таки в ночь на Ивана Купалу, приходящуюся, как уже отмечалось, на Петров пост: «Ивановская ночь есть та, в которую сеймы ведьм собираются на Лысой горе в Киеве; туда улетают они через комiн... либо на помеле, либо на вилках (ухвате)…» (выписка «Малороссия. Отдельные замечания»).
«…Видно, дьявольская сволочь не держит постов», – замечает позднее в «Пропавшей грамоте» сам герой, оказавшись в эту ночь за адским застольем и легко разрешая себе скоромное. Здесь автор показывает и то, кому на пользу это легкомысленное пренебрежение постом. «Ну, это еще не совсем худо, – подумал дед, завидевши на столе свинину, колбасы… <…>…Придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку… захватил ею самый увесистый кусок… и – глядь, и отправил в чужой рот…Слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол». Нечто подобное совершает и Петрусь в «Вечере накануне Ивана Купала», выполняя волю Басаврюка и как бы своими руками выкармливая окружающую его нечисть: «Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи… <…> Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь…» «…А как клады не даются нечистым рукам, – простодушно поясняет кладоискательские намерения нечистого рассказчик, – так вот он и приманивает к себе молодцов».
Ночь перед Рождеством
Праздничная атмосфера «Ночи перед Рождеством» тоже имеет под собой вполне реальную жизненную основу; она, в свою очередь, воссоздана Гоголем по воспоминаниям родных мест. Именно здесь, под кровом родительского дома будущего писателя, праздник Рождества Христова встречался с такой теплотой, что навсегда оставил в его душе светлое чувство. Одна из сестер Гоголя вспоминала: «Вообще нас не баловали, и одним из самых больших удовольствий бывала очень скромная елка накануне Рождества, но мы бывали в восторге от всего…» Из других рассказов сестер писателя известно, что в молодости, в период обучения в Нежинской гимназии, Гоголь принимал участие и в святочном ряженье. Вероятно, на Святки, в святые дни от Рождества до Крещенья, ходил Гоголь и с колядовщиками – во всяком случае, хорошо знал рождественские колядки и в конце жизни записал по памяти несколько таких стихов (опубликованных впоследствии известным собирателем народной поэзии Петром Бессоновым).
Как и в других повестях «Вечеров…», в «Ночи перед Рождеством» Гоголь также изображает «невидимую брань» диавола за душу человека. Напомнить о незримом присутствии рядом с беспечными героями невидимого мира призвана самая первая «фантастическая» сцена повести – описание полетов ведьмы Солохи и «проворного франта с хвостом» в ясном ночном небе Диканьки. «…Наша брань не против крови и плоти, – говорит апостол Павел в Послании к Ефесянам, – но… против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» – против «князя, господствующего в воздухе» (гл. 6, ст. 12; гл. 2, ст. 2). Целые сонмища этих «поднебесных» духов видит далее кузнец Вакула во время полета на бесе в Петербург.
И в этой повести «брань» беса с главным героем отнюдь не заключается в тех мелких пакостях, на которых сосредоточивает внимание рассказчик, когда заводит об этом речь. В свою очередь, содержанием повести также не является одно лишь праздничное веселье, как это может показаться на первый взгляд. Подобно тому как в «Вечере накануне Ивана Купала», где герой, охваченный любовной страстью, готов на убийство и совершает его, герой «Ночи перед Рождеством», влюбленный кузнец Вакула, доведенный до отчаяния капризами красавицы Оксаны, тоже недалек от совершения смертного греха – он решается на самоубийство и бежит топиться «в пролубе»: «…Пропадай, душа!..» По дороге ему, однако, приходит мысль: «…пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»
Герой, таким образом, дважды проявляет пагубное малодушие: сначала помышляет о самоубийстве, затем сознательно обращается к помощи нечистого. При этом Гоголь прямо указывает на «автора» тех мыслей, которые приходят отчаявшемуся Вакуле. Бес у Солохи тоже заявляет ей, что если она отвергнет его страсть, «то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло». Он-то, очевидно (сидя у Вакулы в мешке за плечами), и доводит героя до отчаянного состояния. «Нет, по́лно, – говорит себе Вакула, – пора перестать дурачиться». «Но в самое то время, – прибавляет рассказчик, – когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: „Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!“»
Но можно ли считать виной героя то, что неведомо для себя он становится предметом воздействия нечистой силы? Гоголь отвечает в повести и на этот вопрос.
Тут кстати вспомнить, что действие «Ночи перед Рождеством» – в том числе посещение Солохи ее «именитыми» ухажерами – тоже происходит в пост, причем в самый строгий, в Рождественский сочельник, когда православные, по обычаю, «до звезды» не едят. Греховным является, конечно, и намерение этих ухажеров отправиться ранее в гости к дьяку «на кутью», где кроме кутьи была и водка двух сортов, «и много всякого съестного». Подобные угощения также несовместимы со строгими установлениями Рождественского сочельника, носящего среди малороссиян название «голодной кутьи». («Вы, может быть, не знаете, что последний день перед Рождеством у нас называют голодной кутьей», – пояснял Гоголь в черновой редакции повести.) «Там теперь будет добрая попойка!» – восклицает, в предвкушении обильного угощения, казак Чуб, выходя из своей хаты.
О посте вспоминает и кузнец Вакула, оказавшись в рождественский вечер, в поисках нечистой силы, в хате Пузатого Пацюка: «…Ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле… стою тут и греха набираюсь!»
Можно, однако, заметить, что таких же благочестивых размышлений следовало придерживаться герою и ранее – не только перед тем, как он решился прибегнуть к помощи нечистого, но еще лучше – пред самым отправлением его в гости на «мед» к красавице Оксане.
Изображая похождения своих героев – «бесящихся» парубков, веселящихся девчат, попадающих в мешки ухажеров Солохи, «подъезжающего» к красавице кузнеца Вакулы, пьяниц кума Панаса и ткача Шапуваленка[9], – рассказчик «Ночи перед Рождеством», конечно, не без намерения замечает (в очевидном согласии с автором), что «все» другие «дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних» («имели столько благочестия, что решились остаться дома», – замечал рассказчик в черновой редакции). Правда, добавлял в то же время Гоголь в другом месте, одни только старухи «с степенными отцами оставались в избах».
В традиционном украинском деревянном трехчастном храме, который изображается в повести, женщины становились в дальней от алтаря части, которая называлась «бабинец». (По толкованию И. Войцеховича – одного из первых собирателей слов «малороссийского наречия» в XIX веке – «бабинец – притвор в церкви; место для женщин».) Слово это есть в гоголевском «Лексиконе малороссийском»: «Бабинец, паперть».
Вот как описывает Гоголь в «Ночи перед Рождеством» расположение поселян в церкви: «Впереди всех стояли дворяне и простые мужики», за ними «дворянки», а «пожилые женщины… крестились у самого входа». Девчата же, «у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов», старались, как подчеркивает Гоголь, вопреки этому порядку, «пробраться… ближе к иконостасу». Очевидно, это стремление наряженных девчат объясняется их желанием покрасоваться перед парубками. В соответствии с этим поведением девушек в церкви Гоголь и создает образ «хорошенькой кокетки» Оксаны: «…Парубки… поглядите на меня… у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! <…> Все это накупил мне отец мой… чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!»
То, что в «Ночи перед Рождеством» происходит в храме между молодежью, Гоголь показывает и среди взрослых. Вот, например, Солоха, которой следовало бы стоять в храме «у самого входа», «надевши яркую плахту» и «синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы», становится впереди всех – «прямо близ правого крылоса», так что дьяк «закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза».
Любопытное соответствие образу прельщенного гоголевского дьяка можно найти в поэме А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (1830), с которой Гоголь познакомился в рукописи летом 1831 года (дав ей при этом высокую оценку). В пушкинской поэме в роли гоголевских Солох и Оксан оказывается гордая петербургская дама (по предположению исследователей, эта дама – графиня Екатерина Александровна Стройновская – явилась также одним из прототипов Татьяны Лариной в «Евгении Онегине»):
…Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову – и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.
Туда, я помню, ездила всегда
Графиня… (звали как, не помню, право)
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! все гляжу направо,
Все на нее.
Одной из важнейших тем зрелого, «позднего» Гоголя является тема «просвещенного», «цивилизованного» Петербурга. Начало же обращения к этой теме восходит ко времени создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В «Ночи перед Рождеством» соблазнам «местным», диканьским, вполне соответствуют у Гоголя соблазны столичные, петербургские. «Царицыны черевики» являются при этом как бы объединяющим звеном сюжета повести. В Петербурге во времена Екатерины II ставилась даже опера с названием «Черевики». С другой стороны, в основу сюжета повести Гоголем была положена украинская народная песня «На рiченьчi та на дощечцi», сохранившаяся в гоголевском собрании русских и малороссийских песен:
Дивiтеся, чоловiченьки,
Якi в мене черевиченьки.
Се ж менi пан-отець покупив,
Щоб хороший молодець полюбив…
Само желание своенравной красавицы Оксаны иметь «те самые черевики, которые носит царица», обличает, по замыслу автора, ее изрядное тщеславие. Этим прямо объясняется ее пренебрежительное отношение к сельскому кузнецу Вакуле. «Ты? – сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. – Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу». «Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, – замечает чуть ранее о ней рассказчик, – то разогнала бы всех своих девок». (В черновой редакции эта мысль была выражена Гоголем с еще большей определенностью: «Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в атласном с длинным хвостом платье, то… переколотила бы и выгнала десятка три горнишных».) Следствием «аристократических» замашек Оксаны и становится поездка Вакулы на бесе в Петербург. Петербург (где Вакула видит множество «дам в атласных платьях с длинными хвостами») – подспудно чаемая (хотя, вероятно, не последняя) «инстанция» честолюбивых вожделений героини.
Дальнейшее развитие в «Ночи перед Рождеством» «петербургской темы» еще ближе подводит нас к пониманию проблематики позднейшего творчества Гоголя. В получении Вакулой роскошных «черевиков» (то есть башмаков на высоких каблуках) с «сахарных» ножек Екатерины II под непритязательным юмором кроется мысль о начавшемся в XVIII веке «соблазнении» русского народа высшими, более «просвещенными» сословиями. Восхищение героя неизвестно в каком «государстве на свете» сделанными «царицыными черевиками» стоит в одном ряду с его восторженной оценкой изготовленной «немецкими кузнецами» – «за самые дорогие цены» – медной ручкой дверей во дворце, а также вызывающей у Вакулы почти «поэтический» восторг роскошной дворцовой лестницей. «Что за лестница! – шептал про себя кузнец, – жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! <…> Боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!» Весьма примечательно и упоминание Гоголем в написанной позднее повести «Коляска» (1836) о модных «спальных башмачках» жены провинциального помещика Чертокуцкого, «которые супруг ее выписывал из Петербурга». Спустя еще несколько лет, в наброске к заключительной главе второго тома «Мертвых душ», Гоголь напишет о пагубных соблазнах новейшей «цивилизации»: «Страшным оскорбительным упреком и праведным гневом поразит нас негодующее потомство, что… играя, как игрушкой, святым словом просвещенья, правились швеями, парикмахерами, модами…»
Страшная месть
О повести «Страшная месть» В. Г. Белинский, откликаясь на выход в свет «Миргорода» (1835), писал: «„Страшная месть“ составляет теперь pendant[10] к „Тарасу Бульбе“, и обе эти картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя». Теме религиозной и национально-освободительной войны Гоголь посвятил также, задолго до создания «Страшной мести», не дошедшую до нас юношескую поэму «Россия под игом татар» (1825). Эта же тема затрагивалась Гоголем в «Ганце Кюхельгартене» (борьба православных греков против турецкого владычества). Но в «Страшной мести», как и в других повестях «Вечеров…», помимо «внешней брани» с врагами веры и отчизны, Гоголь изобразил и другую, «невидимую брань» – тоже против веры и отечества, разворачивающуюся в душах людей.
В черновой редакции повести имелось предисловие, которое само по себе весьма замечательно.
«Вы слышали ли историю про синего колдуна? Это случилось у нас за Днепром. Страшное дело! На тринадцатом году слышал я это от матери, и я не умею сказать вам, но мне все чудится, что с того времени спало с сердца моего немного веселья. Вы знаете то место, что повыше Киева верст на пятнадцать? Там и сосна уже есть. Днепр и в той стороне так же широк. Эх, река! Море, не река! Шумит и гремит и как будто знать никого не хочет. Как будто сквозь сон, как будто нехотя шевелит раздольную водяную равнину и обсыпается рябью. А прогуляется ли по нем в час утра или вечера ветер, как все в нем задрожит, засуетится: кажется, будто то народ толпою собирается к заутрене или вечерне. И весь дрожит и сверкает в искрах, как волчья шерсть среди ночи. Что ж, господа, когда мы съездим в Киев? Грешу я, право, пред Богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться святым местам. Когда-нибудь уже под старость совсем пора туда: мы с вами, Фома Григорьевич, затворимся в келью, и вы также, Тарас Иванович! Будем молиться и ходить по святым печерам. Какие прекрасные места там!»
Завершающий это предисловие мотив покаяния (с уходом в «святые печеры») является одним из ключевых для «Страшной мести». Он своеобразно связывается здесь Гоголем с одним из видов монашеской аскезы – спанья на голой земле. Так, покаянные обеты колдуна – «Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу… <…> Не постелю одежды, когда стану спать!..» – определенно перекликаются со словами о святом схимнике, которого убивает колдун: «Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый гроб, в котором ложился спать вместо постели». Этому соответствует еще одно место «Страшной мести»: «На лавках спит с женою пан Данило. <…> Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве». Некоторые переклички со «Страшной местью», связанные уже с осмыслением Гоголем проблем европейской цивилизации, обнаруживаются в повести «Рим» (1842). Они встречаются в описании «великолепного» парижского кафе – средоточия «цивилизованной» жизни римского князя: «Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофий из громадной чашки, нежась на эластическом, упругом диване…» Кофе – загадочная «черная вода» во фляжке колдуна «Страшной мести». Эта подробность приоткрывает нам и связь «Страшной мести» с ранней поэмой «Ганц Кюхельгартен». «Старик любил на воздухе пить кофий», – замечает в ней Гоголь о своем герое, сельском пасторе, в котором явно угадываются будущие черты покаявшегося колдуна («святого схимника»). Сам пастор говорит о себе:
Мне лютые дела не новость;
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя
За прежней жизни злую повесть…
На возможность покаяния для грешника и указывают обращенные к Катерине слова колдуна в «Страшной мести»: «Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым».
С мотивом покаяния тесно связаны в «Страшной мести» размышления о прощении Богом кающегося грешника. «Угрюм колдун… – замечает рассказчик в шестой главе. – Может быть, он уже и кается перед смертным часом…» Но тут же рассказчик добавляет: «…Только не такие грехи его, чтобы Бог простил ему». Однако сам колдун все-таки надеется на прощение. «Ты не знаешь еще, – говорит он Катерине, – как добр и милосерд Бог». В последнюю минуту колдун летит в Киев, «к святым местам»: «Дико закричал он и заплакал, как исступленный, и погнал коня прямо к Киеву». Но здесь его опять встречает «голос рассказчика» и своеобразное представление о святости. «Святой схимник», затворившийся уже много лет в своей пещере, отвечает на отчаянную мольбу колдуна: «Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе».
Вопреки этому суровому «голосу рассказчика» (но не автора), сам Гоголь всем содержанием повести говорит о необходимости прощения кающегося грешника. И эпизод с отказом святого схимника молиться о погибшей душе колдуна никак не может быть поставлен в ряд с действительным отношением христианских подвижников к падшему собрату. Скорее он напоминает фразу в пушкинском «Борисе Годунове», которую автор трагедии вложил в уста юродивого Николки, отвечающего на просьбу Бориса Годунова молиться за него: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит». Сам Пушкин по поводу этой «сочиненной» (не заимствованной им из источников) сцены в частном письме признавался: «…Никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (письмо к князю П. А. Вяземскому около 7 ноября 1825 года). Судя по статье Гоголя «Борис Годунов», написанной на выход в свет трагедии Пушкина, симпатии Гоголя были как раз на стороне обличаемого пушкинским юродивым царя: «Столько блага, столько пользы, столько счастия миру – и никто не понимал его…» Вероятно, в скрытую полемику с Пушкиным и вступил Гоголь в «Страшной мести», изобразив страшные, продолжающиеся из рода в род последствия однажды не прощенного грешнику греха, тяжесть которого обрекла несколько поколений потомков этого грешника на пребывание в гибельном, греховном состоянии. А потому и суд Бога в гоголевской повести за «страшную месть» непрощения греха ближнему весьма суров: «Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!»
Другой важной проблемой, рассматриваемой Гоголем в «Страшной мести», является тема «утонченной», эстетической «развитости» колдуна. Вообще говоря, из разнообразных мирских соблазнов – богатства, власти, красоты – последнему гоголевские герои часто оказываются подвержены в наибольшей степени.
В своих повестях Гоголь создал целый ряд «сияющих», словно пронизанных светом, живописных картин.
«Усталое солнце уходило от мира, спокойно проплыв свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился [как щеки прекрасной жертвы неумолимого недуга в торжественную минуту ее отлета на небо]. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. <…> „О чем загорюнился, Грицько?..“ – вскричал высокий загорелый цыган, ударив по плечу нашего парубка. <…> „А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?“» («Сорочинская ярмарка»).
Ослепительную власть красоты по силе ее впечатляющего воздействия Гоголь сравнивает порой с сияющим транспарантом. Вот, например, образ блестящего Петербурга в повести Гоголя «Невский проспект»: «О, не верьте этому Невскому проспекту! <…> Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! <…>…Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! [Он опасен необыкновенно, этот Невский проспект… но более всего тогда, когда… огни сделают его почти транспарантом… И… сам демон зажигает обольстительные лампы для того, чтобы все показать не в настоящем виде]».
А вот так изображает Гоголь визит юного кухмистера Ониська к красавице Катерине в повести «Страшный кабан»: «Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента… Сердце в нем вспрыгнуло… и белокурая красавица… встретила его, отворяя ворота».
Именно в последней повести Гоголь предпринял попытку изобразить благотворную – в отличие от губительной – власть красоты. Прекрасная Катерина побуждает пьяницу Ониська оставить ради нее разгульную жизнь, на что тот восклицает: «Все для тебя готов сделать».
Однако положительная оценка значения чувственной красоты для воспитания человека была лишь одной из сторон взглядов Гоголя. В статье «Скульптура, живопись и музыка» он замечал по поводу скульптуры: «Она родилась вместе с языческим, ясно образовавшимся миром, выразила его – и умерла вместе с ним. Напрасно хотели изобразить ею высокие явления христианства: она так же отделялась от него, как самая языческая вера. Никогда возвышенные, стремительные мысли не могли улечься на ее мраморной сладострастной наружности. Они поглощались в ней чувственностью». О себе Гоголь в 1847 году писал, что «венцом всех эстетических наслаждений» в нем «осталось свойство восхищаться красотой души человека», где бы он ее ни встретил («Авторская исповедь»). Так и в «Вечерах…» главной явилась тема не благотворной, но главным образом губительной власти чувственной, «скульптурной» красоты. В «Страшной мести» объяснение преступной страсти героя связано именно с его «эстетическими», «утонченными» переживаниями.
Как и в других повестях «Вечеров…», «невидимая брань» в «Страшной мести» тоже разворачивается не только в душе явного «злодея» – страшного колдуна, но и в душах вроде бы вполне «положительных» героев повести. Их незаметные негативные черты, в свою очередь, многое определяют в развитии ее сюжета. Здесь прежде всего Гоголь обращает внимание на причины, приводящие к саморазрушению казацкого единства. (По замечанию исследовательницы А. Я. Ефименко, размышления над обычаями духовного братства, побратимства, упоминаемыми в «Страшной мести», позднее легли в основу изображенного Гоголем запорожского братского союза в «Тарасе Бульбе».) Главной причиной разъединения Гоголь считает постепенно проникающую в ряды казачества страсть корыстолюбия.
«Эй, хлопец! – крикнул пан Данило. – Беги, малый, в погреб да принеси жидовского меду! <…> Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале? <…> Эх, козаки! что за лихой народ! все готов товарищу, а хмельное высушит сам». В черновой редакции «верному хлопцу» Стецько принадлежала со своей стороны реплика, которую он произносил после гибели пана Данила: «Я пойду, соберу наших. Ляхи уже услышали про наше горе и ворочаются назад. Сердце так <и> чует, что уже шумят они в подвале. Меды поотпечатаны, и вино хлещет из воронок».
Эти реплики героев «Страшной мести» прямо перекликаются с содержанием нескольких заметок Гоголя, сделанных незадолго до создания повести при чтении «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: «У князей бывало немало богатства в подвалах, кладовых и погребах: железо, медь, вино, мед, на гумнах множества хлеба. У Святослава Черниговского, брата Игоря, нашли 900 000 скирд… Меду в подвалах 500 берковцев и 80 корчаг вина[11]… В междоусобных бранях обыкновенно дружина и вожди прежде всего старались овладеть кладовыми и погребами…» Заметка эта, в свою очередь, связана с размышлениями Гоголя о причинах замедления и «остановки» тогдашнего «хода развития» Руси, которую писатель усматривал именно в корыстолюбии князей: «Уделами менялись и торговались, как воины своими оружьями… Часто иные князья, когда нравился им чужой удел, изгоняли с сильною дружиною князя… Здесь-то нужно искать причины остановки хода развития в России» (заметка «Внутреннее устройство»). Эти же размышления отразились позднее и в строках «Тараса Бульбы» о «враждующих и торгующих городами мелких князьях», а также в знаменитой речи Тараса о товариществе: «Знаю, подло завелось теперь в земле нашей: думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их… Паскудная милость польского магната… дороже для них всякого братства…»
Эти представления и лежат в основе образа пана Данила в «Страшной мести», который, с одной стороны, сетует, подобно Тарасу, на отсутствие «порядка» в Украйне («…Полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. <…> Шляхетство наше все переменило на польский обычай… продало душу, принявши унию»), с другой, как неоднократно подчеркивает автор, сам не лишен корыстолюбия. В последнем же случае Данило Бурульбаш, преступая ради мирских стяжаний узы духовного родства, прямо уподобляется у Гоголя Петру Безродному из «Вечера накануне Ивана Купала».
Атмосфера странного недоверия царит в хуторе пана Данила. «…Козакам что-то не верится», – замечает Катерина о самых приближенных к пану Данилу «отборных», «наивернейших молодцах». В черновой редакции эта мысль была повторена автором еще раз. «А вы, – сказал Данило, выходя на двор и отделяя из кучи собравшихся козаков надежнейших (курсив наш. – И. В.), – оставайтесь дома сторожить, чтоб не досталось нечистому племени опоганить наши хаты.
Ох, помню, помню я годы… – восклицает в повести пан Данила о «золотом» времени казачества. – <…>…Как резались мы тогда с турками! <…> Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменья шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! <…> Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меду!» Не случайно и само обращение здесь героя к жене Катерине, на дорогие наряды которой, как и на постоянное стремление пана Данила «добыть» золота (пожалуй, хоть и у «нечистого» колдуна: «…думаю, он не без золота и всякого добра»), то и дело по ходу повести обращает внимание рассказчик. В этом пан Данило опять-таки напоминает Петра Безродного из «Вечера накануне Ивана Купала», который ради возлюбленной задумал «пристать к какой-нибудь ватаге удалой – воевать Туречину или крымцев»: «…то и дела, что видит он кучи золота; драгоценные каменья ограбленных иноверцев беспрестанно чудились ему перед глазами» – и во сне размахивал он руками, «как будто поражая нечестивые толпы крымцев и ляхов» (журнальная редакция 1830 г.).
Очевидно, намекая на пристрастие героини к украшениям, а самого героя к хмельному («Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А? <…> Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью!»), Гоголь снова повторяет в «Страшной мести» темы, поднятые ранее в «Вечере накануне Ивана Купала» и «Сорочинской ярмарке» (образы Пидорки и Петруся; Грицька и Параски).
Иван Федорович Шпонька и его тетушка
О характере главного героя, изображенного Гоголем в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», можно сказать, воспользовавшись словами самого писателя из второй главы первого тома «Мертвых душ»: «Гораздо легче изображать характеры большого размера; там просто бросай краски со всей руки на полотно… но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою… эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты…»
Определенное основание видеть в гоголевском герое именно такой, «незначительного размера», характер дает само фамильное прозвище Ивана Федоровича, согласно «Лексикону малороссийскому» гоголевской «Книги всякой всячины…», «шпонька, запонка». Очевидно, в фамилии Ивана Федоровича Шпоньки, одно из любимых занятий которого было «чистить пуговицы» форменного мундира и который получил очередной чин спустя одиннадцать лет, подчеркивается явная незначительность фигуры героя. Об этом можно судить из соответствующих упоминаний в «Ревизоре»: «У нас есть один такой, что пятнадцать лет служит и получил только одну пряжку». В «Шинели»: «…выслужил он… пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу». (Пряжка – здесь: почетный знак, дававшийся за выслугу лет на гражданской службе.)
С другой стороны, пуговица, запонка в одежде гоголевских героев представляет собой (так же как женские украшения – мониста, серьги, перстни) весьма немаловажную деталь, своего рода знак отличия или «орден». В выписке Гоголя «Одежда и обычаи русских. (Из Олеария)» эта мысль выражена вполне определенно: «Богатые вышивают ворот около шеи и на переду, равно как и рукава внизу, на вершок в ширину, разноцветными шелками, иногда же золотом и жемчугом. В последнем случае выставляют они тот и другие из-под кафтана и к обеим сторонам ворота пришивают большие жемчужные, золотые или серебряные запонки». В другой гоголевской выписке «Об одежде и обычаях русских XVII века. (Из Мейерберга)» тоже сообщается: «Жены боярские ходили в широком опашне (иногда без рукавов) из алого сукна. Спереди донизу застегнуто золотыми или серебряными пуговицами, иногда величиной с грецкий орех…»
Очевидно, что и «незначительному» во многих отношениях Ивану Федоровичу, заботливо чистящему на досуге свои форменные пуговицы, вовсе не безразлично его скромное звание. (Отметим, например, что в чистке пуговиц он весьма напоминает «самого» вельможного Потемкина из «Ночи перед Рождеством»: «Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки».) Во всяком случае, тщеславие Ивана Федоровича его невысоким званием вполне удовлетворено, так как для его среды оно является вполне достаточным. (Для удовлетворения честолюбия сельского головы в «Майской ночи» – в его ближайшем, деревенском окружении – довольно и того, что однажды он сидел на козлах с царицыным кучером. Для понимания «социальной иерархии» гоголевских героев уместно отметить, что отставному поручику Шпоньке прямо соответствует в «Майской ночи» «отставной поручик» комиссар Козьма Деркач-Дришпановский, возможный приезд которого в село прямо напоминает голове Евтуху Макогоненку проезд царицы в Крым.)
«…Так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно… – пишет Ивану Федоровичу Шпоньке тетушка, – то в воинской службе тебе незачем более служить». («Чин ты уже имеешь хороший, – повторяет она ему при личном свидании. – Пора подумать и об детях!») «Насчет вашего мнения о моей службе, – отвечает ей Иван Федорович, – я совершенно согласен с вами и третьего дня подал в отставку».
Итак, после двух – за несколько лет – классов гадячского поветового училища («Было… ему без малого пятнадцать лет, когда перешел он во второй класс…»[12]), после получения – спустя одиннадцать лет – подпоручичьего чина, образование свое герой считает вполне завершенным. Подобно герою неоконченной повести Гоголя «Страшный кабан», «заштатному» семинаристу Ивану Осиповичу, отправляющемуся «на ваканции» (в домашние учителя или «в отставку»[13]) после многолетнего пребывания в начальных классах семинарии, Иван Федорович, тоже взяв отставку, едет в имение в некотором роде на «заслуженный» отдых.
В образе упомянутого гоголевского «семинариста», в основу которого легли, вероятно, детские впечатления Гоголя (первоначальное образование он получил дома, «от наемного семинариста»), есть еще несколько черт, роднящих его со Шпонькой. Сравнение этих двух образов помогает многое понять в замысле гоголевской повести.
«…Не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был… сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами…» – замечает о своем великовозрастном герое-семинаристе рассказчик повести «Страшный кабан». Схожими являются и изображаемые в обеих повестях «стоические» добродетели и затем «нечаянное» сватовство героев. «…Иван Осипович был настоящий стоик, – говорит автор «Страшного кабана», – и… не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода». «Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить, – восклицает Иван Федорович в ответ на намеки тетушки о женитьбе. – Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня…»
Подобно тому как бывший семинарист (а с приездом в село «грозный педагог») Иван Осипович отличается от его нового деревенского окружения главным образом светло-синим сюртуком с костяными пуговицами («с прибавкой» сюда еще нескольких мелких «дарований» – таких, как уменье «мотать мотки» и «прясть»), подобного же рода «духовный», образовательный «капитал» везет в свое имение и Иван Федорович Шпонька. Именно на это обращает внимание рассказчик, описывая путешествие героя на родину.
Тогда как на протяжении двух недель дороги его извозчик «шабашовал по субботам и, накрывшись своею попоной, молился весь день», Иван Федорович «в то время развязывал… чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько… снимал осторожно пушок с нового мундира… и снова все это укладывал наилучшим образом». «Книг он, – добавляет рассказчик, – вообще сказать, не любил читать; а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз».
Духовную мертвенность героя по отношению к своей вере Гоголь показывает и в равнодушии Шпоньки к соблюдению церковных постов: «Это было в пятницу. <…> Иван Федорович… заблаговременно запасся двумя вязками бубликов и колбасою и, спросивши рюмку водки… начал свой ужин…» Подъехавший, в свою очередь, на постоялый двор сосед Шпоньки, помещик Григорий Григорьевич Сторченко, с подобным же нечувствием к смыслу христианской пятницы начинает свой ужин курицей. Последнему герою так же, заметим, как Ивану Федоровичу, очень хорошо известно, в какой день он это делает («Ваш жид будет шабашовать, потому что завтра суббота…» – говорит он Шпоньке). Но и у Григория Григорьевича набожность извозчика отнюдь не вызывает размышлений о том, как он сам исповедует свою веру.
Как указывает далее Гоголь, место веры и простого здравого смысла занимает в душе обоих героев (как это чаще всего и бывает) суеверие. Вот как, например, Григорий Григорьевич рассказывает Шпоньке об исцелении его от внезапной болезни: «Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей». На это Иван Федорович согласно отвечает: «…Изволите говорить совершеннейшую-с правду. Иная точно бывает…»
Эти размышления о соотношении веры и суеверия непосредственно отразились позднее у Гоголя в десятой главе первого тома «Мертвых душ»: «Поди ты сладь с человеком! не верит в Бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет… Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками…» Гоголь объяснял здесь суеверие человека именно его духовной неразвитостью, неподготовленностью к искушению, заставляющей попавшего в критическую ситуацию обращаться к любому средству: «Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку…»
В «Иване Федоровиче Шпоньке…» Гоголь указывает и на то, что происхождение суеверий чаще всего связано с поверхностным – ориентированным лишь на внешнее «благонравие» – светским воспитанием, оставляющим человека внутренне не просвещенным и не развитым – таким же, как оставляли его в прежние времена детские предрассудки и суеверия.
Эту зависимость Шпоньки от новейших – не менее пустых и бесплодных, чем древние суеверия, – «тонких обычаев света» рассказчик подчеркивает в повести неоднократно. Судить о ней он предоставляет читателю, во-первых, по той заботливости, с которой Иван Федорович разглядывает – в невыгодном для него сравнении с занятием извозчика – сложенное в чемодане белье: «так ли вымыто, так ли сложено». Второй раз, когда Иван Федорович отправляется в гости к своему богатому соседу: «…Иван Федорович… немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. <…> Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватее его». Еще раз эта боязнь героя выглядеть «не хуже других» изображается в повести как его кошмарный сон. «„Какой прикажете материи? – говорит купец. – Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки“. <…> Иван Федорович… идет к портному. „Нет, – говорит жид, – это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука…“ В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович».
Гоголь подробно останавливается на сути воспитания, полученного Иваном Федоровичем. Он подчеркивает, что это поверхностное светское воспитание было заложено в герое в детстве его суровыми «педагогами», обращавшими главное внимание именно на «хорошее поведение», то есть умение «сидеть смирно на лавке». Вероятно, Иван Федорович, так же как впоследствии Павел Иванович Чичиков в «Мертвых душах» (будучи, в свою очередь, в классах городского училища), «вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение». Он был «преблагонравный и престарательный мальчик»; «тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя…» «Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик; и Иван Федорович… вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона» (ибо, поскольку должно, в соответствии с приличиями, наблюдать во всем порядок – в частности, иметь ножичек в исправности, то во избежание «непорядка» лучше не использовать его «острой стороны» по назначению).
Однако первое же искушение, выпавшее на долю Ивана Федоровича, – школьную «взятку» масленым блином – герой, «тогда еще просто Ванюша», несмотря на все свое «благонравие», не выдерживает. В этом, думается, заключается прямая подсказка о возможном продолжении повести: Иван Федорович, очевидно, не устоит и перед эстетическим «искушением» – вступлением в незаконный брак, ибо из рассказов тетушки (подстрекающей племянника к этой женитьбе) с большой вероятностью следует, что избранница героя приходится ему двоюродной сестрой. Теоретический «стоицизм» героя, не подкрепленный внутренним воспитанием, неизбежно должен потерпеть крушение.
Еще до знакомства с «барышнями» «стоический» герой Иван Федорович погружен в сферу эстетических переживаний. Эту мысль Гоголь подсказывает читателю, изображая картину пленительного заката, которую созерцает герой: «Единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц… степь краснеет, синеет и горит цветами… <…> Трудно рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он… стоял недвижимо на одном месте, следя глазами пропадавшую в небе чайку или считая копы нажатого хлеба, унизывавшие поле». В черновой редакции окончание этой фразы выглядело несколько иначе: «…стоял как вкопанный на одном месте, пока, подкравшись, ночь не обнимет всего неба и звезды то там, то там начнут светиться». Это описание прямо напоминает воплощенную позднее Гоголем в «Тарасе Бульбе» картину звездного неба, которую созерцает Андрий перед тем, как отправиться в осажденный город к прекрасной панночке, где он отречется от веры и отчизны. «Художническое» начало проявляется и при посещении Иваном Федоровичем имения своего соседа. В ответ на расспросы тетушки о кушаньях, которыми его там угощали, он неожиданно замечает: «Весьма красивые барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая!»
Очевидно, что, хотя случай с масленым блином, «сделавший влияние на всю… жизнь» героя, не прошел бесследно для Ивана Федоровича («с этих пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более»), страх наказания вовсе не сделал из него по-настоящему добродетельного человека. Он лишь на время парализовал его волю: герой «не имел никогда желания вступить в штатскую службу» потому только, что увидел «на опыте», как «не всегда удается хоронить концы». «Законы света», диктат «красивости», с одной стороны, и прямая угроза наказания, с другой, стали единственными «регуляторами» нравственной жизни героя – «светской совестью» Ивана Федоровича. Однако перед любовной страстью такого рода «совесть» оказывается бессильной.
Под стать Ивану Федоровичу и другие герои повести – как из армейского света, так и из домашнего окружения.
Можно было бы еще и еще продолжать перечисление этих мелких, почти незаметных (но отнюдь не маловажных!) «пошлых» черт гоголевских героев. Однако уже очевидно, что перед нами та самая «потрясающая тина мелочей», опутавших человеческую жизнь, те самые «холодные, раздробленные, повседневные характеры», которыми «кишит» наша «земная дорога», та самая тема «мертвой души» обыкновенного, «пошлого» человека, которой Гоголь посвятит позднее главное произведение своей жизни – поэму «Мертвые души».
Заколдованное место
Последней повестью сборника – «Заколдованное место» – Гоголь как бы подводит некий итог цикла и вносит в содержание других повестей «Вечеров…», изображающих участие в жизни человека нечистой силы («Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством» и др.), одну существенную «поправку». Отметим, что большинство героев ранних повестей Гоголя обнаруживают, с одной стороны, вроде бы похвальное бесстрашие перед нечистью, с другой – крайнюю беспечность к своей участи. Их бесстрашие порой оборачивается прямым безрассудством. По неведению или духовной лености эти «бесстрашные» герои являют часто отсутствие страха именно тогда, когда бы следовало со страхом вспомнить о наказании, грозящем им за легкомысленную беззаботность и неосмотрительность в «невидимой брани». Создавая образы этих героев, Гоголь во многом следовал простонародному отношению к нечистой силе, нашедшему отражение в фольклоре (как в русском, так и в мировом). В характере бесстрашного кузнеца Вакулы, легко одерживающего победу над нечистым, легко угадываются черты, роднящие его не столько со святым подвижником церкви, но, скорее, с солдатом-«москалем» из распространенного народного анекдота (запись которого сохранилась в бумагах Гоголя). Здесь повествуется о том, как бесы хитростью сами вынуждены были изгнать грешника «москаля» из «пекла» за то, что тот писал «по стинам хрести <то есть кресты> та монастыри». Сделали они это с помощью «хитрейшего» и «умнейшего» (по сути же, еще «смешнейшего») «хромого» беса (о котором Гоголь упоминает в «Ночи перед Рождеством»). Взяв барабан, хромой бес «ударил над пеклом зо́рю», и солдат, схватив амуницию, «выбежал» из пекла.
В «Заколдованном месте» Гоголь как раз и выразил свое сомнение в возможности столь легкой победы над нечистым. Всем содержанием повести писатель предупреждает о недопустимости самонадеянного, легкомысленного отношения к са́мой возможности соприкосновения с темными силами. «Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом, – начинает рассказчик. – Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу обморочит!»
Сюжет повести снова возвращает нас к поискам «заколдованного» клада. Здесь окончательно складывается реалистический образ одного из главных героев «Вечеров…» – деда дьячка Фомы Григорьевича, «истории» которого рассказчик передавал ранее в «Вечере накануне Ивана Купала» и «Пропавшей грамоте». В этом образе Гоголь продолжает свои размышления над темой «маленького» человека, который хотел бы быть «большим», хотя бы и с помощью нечистого.
Подобно Вакуле, отвешивающему «пренизкие» поклоны Пузатому Пацюку, дед из «Заколдованного места» (и «Пропавшей грамоты») тоже не прочь поподличать перед нечистью, показать ей свою «просвещенную» светскость. «Вот дед и отвесил им поклон мало не в пояс: „Помогай Бог вам, добрые люди!“» Об этой «образованности» героя рассказчик Фома Григорьевич – сам, как замечено, немалый знаток «света» – не без некоторой гордости сообщал в «Пропавшей грамоте»: «…дед живал в свете немало, знал уже, как подпускать турусы[14], и при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь…»
В «Заколдованном месте» появляются новые похвалы Фомы Григорьевича светским достоинствам его деда: «…разве так танцуют? Вот как танцуют!» – сказал он, приподнявшись на ноги… Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею». Едва ли не намеренно Гоголь словно сравнивает умение героя танцевать с его настоящим «призванием» в «Пропавшей грамоте» – быть гетьманским гонцом, которое герой исполняет в повести весьма нерадиво. От него его отвлекают собственное рассеяние и мелочные страсти – гульба и та самая «искусная» пляска на конотопской ярмарке, которые он начинает с поисков табака и огнива к своей трубке.
Простые чумаки – старые приятели деда в «Заколдованном месте» – тоже весьма пресерьезно соблюдают законы «большого света»: «Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот». Чем, естественно, «прихвастнуть» деду перед такими «просвещенными» чумаками, как не одной из необходимейших в свете «добродетелей» – умением танцевать «хоть бы и с гетьманшею». Неудача в этом «важном», с точки зрения светских знатоков, деле вполне естественно воспринимается героем (и рассказчиком) как прямой «стыд» и «страм»: «Только что дошел… до половины… не подымаются ноги, да и только! <…> Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова… не вытанцывается, да и полно! <…> „…Вот на старость наделал стыда какого!..“» Это же стремление блеснуть «в свете» перед товарищами заставляет деда забыть и все опасности, подстерегающие его в поисках клада. «Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах!» – восклицает герой в предвкушении богатства.
Не останавливает героя и то, что для овладения кладом ему надобно разрыть ту «могилку», в которой он якобы находится, – так же, как, например, Петр Безродный не останавливается перед убийством Ивася. Этот явный знак запрета к открытию клада «не прочитывается» дедом «Заколдованного места» вовсе не по неразумию.
Подчеркивая и наблюдательность героя, и его способность понимать приметы, рассказчик непосредственно перед обнаружением дедом запретного клада замечает: «Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. „Быть завтра большому ветру!“ – подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка». Эти строки и само поведение героя в указанном эпизоде прямо напоминают слова Спасителя, обращенные к фарисеям и народу: «…вечером вы говорите: „будет вёдро, потому что небо красно “; и поутру: „сегодня ненастье, потому что небо багрово“. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете?» (Евангелие от Матфея, гл. 16, ст. 2–3).
Именно в кладоискательском предприятии и ждет «просвещенного» светскими «добродетелями» деда настоящее посрамление – суд автора над героем, доверившимся нечисти ради обогащения. Суд этот совершается через многократное физическое и нравственное унижение героя перед нечистой силой – унижение, затрагивающее самое чувствительное для героя место – сознание его «высокого» светского достоинства.
Это посрамление деда как бы «начинается» Гоголем еще в «Пропавшей грамоте» и достигает своего апогея в «Заколдованном месте». Сначала деду приходится с трудом продираться через колючие кусты в «Пропавшей грамоте» – так что, несмотря на все его мужество и отвагу, «почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть» (в черновой редакции рассказчик добавлял: «…досаднее всего показалось деду, что смотреть дрянь какой кустик и тот, смотри, вытягивался ухватить его за чуб»).
Весьма унизительно для честолюбивого героя и питание его – мимо рта – в той же повести: «Взбеленился дед… „Что вы, Иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною?“ Потом деду приходится «смиряться» и до того, чтобы играть «с бабами в дурня» и терпеть в «пекле» насмешки всей нечисти: «Козаку сесть с бабами в дурня! <…> Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: „Дурень! дурень! дурень!“»
Унизительна для героя и как бы растянувшаяся на несколько лет «развязка» «Пропавшей грамоты» – повторяющееся из года в год скаканье-плясанье жены на лавке, досаждающее ему и за самым благочестивым занятием – чтением Библии: «…видно, уже в наказание, что не спохватился тотчас после того освятить хату, бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время [как только начнешь из Библии], делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только».
В «Заколдованном месте» всевозможные унижения перед нечистой силой искусного в «плясанье» деда становятся еще более чувствительными. Сначала «заплевал» ему «очи сатана» («Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть!» – поучает дед чихающую ему в лицо нечисть правилам «хорошего тона»), то пришлось ему, «скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя», задать «такого бегуна, как будто панский иноходец» (сапоги для деда, так же как перочинный ножик для Ивана Федоровича Шпоньки, нужны, очевидно, не столько для дела – на случай непогоды, сколько для соответствия приличиям «порядочного общества» – например, для искусной пляски).
Сугубое посрамление героя совершается в финале повести, когда на него выливают горячие помои: «Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а, право, смешно показалось, когда седая голова деда вся была окутана в помои и обвешана корками с арбузов и дыней. „Вишь, чертова баба! – сказал дед, утирая голову полою, – как опарила! как будто свинью перед Рождеством!“ <…> Что ж бы, вы думали, такое там <в котле> было? <…> золото? Вот то-то, что не золото: сор, дрязг… стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл».
Как бы подытоживая замысел «Вечеров…» с их суевериями и законами «большого света», еще более, чем древние суеверия, подменяющими собой христианские заповеди, Гоголь в заключительной статье «Светлое воскресенье» «Выбранных мест из переписки с друзьями» писал: «…не воспраздновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие… имя ему – гордость… Диавол… перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми… глупейшие законы дает миру… и мир… не смеет ослушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь… и которая теперь… стала распоряжаться в домах наших?.. Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья… <…> Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильней всяких коренных постановлений? <…> Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, – и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться?»
В этом движении от обличения старинных суеверных преданий и предрассудков к изображению современной губительной «обрядливости»[15] «законов света» и заключается смысл последующей эволюции Гоголя – от «Вечеров…» к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Ревизору» и «Мертвым душам».
И. ВИНОГРАДОВ
2
Бисаврюком, а не Басаврюком назывался герой в первоначальной, журнальной, редакции.
3
Печать – перстень с изображением, употреблявшийся вместо печати. Усерязь – серьги (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). Пленица – ожерелье (там же).
4
Рудый – рыжий (укр.).
5
Панько – «Пантилимін, Панько, Пантелій – Пантелеймон» (гоголевская «Книга всякой всячины…», раздел «Имена, даемые при крещении»).
6
Дьяк (дяк; укр.) – дьячок, церковный чтец. Должность «дяка», низшая среди церковных должностей, была на Украине выборной, эту должность мог занять по назначению прихода человек любого происхождения.
7
Пе́стрядь – грубая домашняя ткань из разноцветных ниток.
8
Цвет «балахона» Фомы Григорьевича – несомненная пародия на тогдашние причудливые названия модных материй: цвета поджаренного хлеба, лесных каштанов, нильской воды, влюбленной жабы, «наваринского пламени с дымом» и т. д. Такого рода названия часто встречались в журналах первой половины XIX века в описаниях европейских (парижских) мод.
9
Шапуваленко. – Фамилия образована от слова «шаповал» – валяльщик, шерстобит.
10
Дополнение, пара (фр.).
11
Берковец – русская мера веса в десять пудов. Корчага – «большой сосуд», «глиняный горшок» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).
12
Сам Гоголь в 1819 году поступил во второе отделение Полтавского поветового училища в девятилетнем возрасте; однако среди его соучеников были и великовозрастные – четырнадцати- и пятнадцатилетние.
13
От лат. vacatio – освобождение. Ваканцьовий – заштатный, отставной (укр.).
14
Подпускать турусы – льстить.
15
«Обрядливый, церемонный» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).