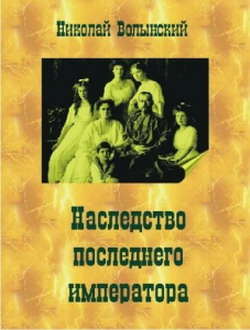Читать книгу Наследство последнего императора - Николай Волынский - Страница 4
КНИГА ПЕРВАЯ
Часть первая
3. ЕЛЬЦИН УБИВАЕТ ЛОШАДЬ
ОглавлениеСКВОЗЬ СОН президент Ельцин почувствовал, как по его ногам потекло что-то теплое и приятное. Потом что-то произошло с брюками. В них стало почему-то холодно. Ощущение комфорта и приятности пропало, сменившись раздражением. И ему захотелось брюки немедленно снять.
С трудом президент разлепил веки, сел и огляделся. Вокруг него стояла тишина. Сначала Ельцин не понял, где находится. Потом догадался: «Ага, самолет. Я в самолете. Моторы заглушены. Стало быть, приехали».
Но что-то в этой тишине ему не понравилось. Сквозь расплывающуюся муть он увидел, что перед ним стоит жена, губы ее были сжаты, в глазах застыли боль и печаль. Рядом с ней – его личный телохранитель и начальник охраны верный пес Коржаков. Этот криво улыбался и, встретившись взглядом со своим шефом, одобряюще ему подмигнул.
Ельцин посмотрел в иллюминатор и обнаружил за толстым стеклом не Шереметьево, а какой-то чужой аэродром. Над диспетчерской вышкой развевался незнакомый флаг. У черных выходных дверей стеклянного аэровокзала стояли несколько незнакомых мужиков под огромными зонтиками, которые держали над ними то ли полицейские, то ли военные.
– Что это там за кодла собралась? Куда мы приехали? – спросил президент у Коржакова. – В Домодедово?
– Там премьер-министр Ирландии Рейнольдс со свитой. Мы в Ирландии. Аэропорт Шеннон.
– А чего нас сюда занесло?
– Дозаправка. И визит вежливости. Все по плану.
Ельцин помолчал.
– Что ты на меня вылупилась, как Ленин на буржуазию? – рявкнул президент на жену: ему показалось, что она собралась заплакать.
Не отвечая, жена молча скользнула взглядом вниз. Он тоже глянул вниз. Гульфик и левая брючина были мокрыми и издавали знакомый терпкий запах его собственной мочи.
– Шта-а-а? Это Костиков меня облил? – спросил Ельцин, внезапно вспомнив, как он в прошлом году во время прогулки на теплоходе по Волге приказал бросить за борт своего пресс-секретаря. Тот начал читать стихи, подлец, как раз в тот момент, когда президента посетила мысль, а он все никак не мог высказать отяжелевшим от алкоголя языком. «Бросить гада за борт!» – наконец выжал из себя возмущенный президент, и пресс-секретарь мгновенно оказался в воде. Костиков даже не успел тогда закричать.
– Ты сам обмочился, – сказала жена и заплакала.
– Врешь! – но он уже понял, что жена не врет.
«М-да, угораздило, – подумал президент. – Не надо было смешивать виски с шампанским…» Он помолчал немного и вдруг решительно махнул своей трехпалой рукой:
– А, пропади оно все пропадом! Пошли, мужики, на выход!
– Ты с ума сошел?! – закричала жена. – Какой выход? Как ты людям покажешься в мокрых штанах?
– Это не люди, – возразил Ельцин. – Это иностранцы.
– Все равно не пущу! Только через мой труп!..
Послышался мягкий глухой стук о борт самолета: это снаружи подали трап к выходной двери. «И правда, может, не надо ходить? Еще, сволочи, на пленку заснимут, по телевизору покажут. Коммуняки будут вопить два года, радоваться… Описаются… до штанов…» – засомневался Ельцин.
А вслух сказал, обращаясь к Коржакову:
– Ну что тут сделаешь – бабы! Кто их переспорит! Нет, я все-таки пойду!..
Он поднялся, кряхтя и ругаясь и морща нос от вони собственных брюк.
– Тут что – одежды для президента уже не найдется?! – зычно, словно и не было в нем, по крайней мере, пол-литра виски и двух бутылок шампанского, крикнул Ельцин. – Разгоню всех к чертовой матери, поувольняю бездельников! Коржаков! Ты что там копаешься?!
– Я здесь, Борис Николаевич! – бросился к нему Коржаков, сверкнув лысиной под тусклым плафоном салона. – Штаны! – с ненавистью крикнул он официанту. Но тот стоял, разинув рот, потом, спохватившись стал стаскивать с себя брюки.
– Да не твои, болван, а президентские!
– Н-н-е знаю… – пробормотал насмерть перепуганный официант. – У меня их нет…
– Наина Иосифовна!… – взмолился Коржаков к жене президента. – Да что же это такое? Неужели и штанов больше нет? Хотя бы запасных каких-нибудь?
– Есть. Но я не дам! – твердо ответила жена.
– Вот видите, Борис Николаевич! – обрадовано закричал шефу начальник охраны. – Нет штанов! А в трусах на улице холодно. Вы только посмотрите, там же ветер собачий! Дождь страшный хлещет! Одно слово – Ирландия. Да чтоб ее дождь намочил – страна алкоголиков!
– Как ты сказал? Алкоголиков? – внезапно заинтересовался президент. – Они что здесь – тоже водку пьют?
«Ну, дернула же нелегкая! – огорчился главный охранник. – Сейчас потребует выйти, добавить с ними, огорчение смыть!.. Что же делать?..»
– Это все болтовня, – сказал он твердо. – Пьют хуже наших, потому что все они – слабаки! С первой же рюмки с копыт валятся. С ними ни один приличный президент пить не будет!
– С первой же рюмки?.. – задумался Ельцин. – В самом деле, разве с такими слабаками можно пить? Опозорят на весь свет.
– Опозорят, падлы! – радостно закричал Коржаков. – Не ходите к ним, Борис Николаевич, тьфу на них, что мы там забыли!
– Нет! – неожиданно заревел президент. – Я все-таки выйду, покажу им, как надо пить! Пусть их тоже заснимут на телевизор. Пусть покажут – всем! Пусти! – он оторвал от себя ласково-стальные руки своего верного пса и попробовал подняться.
Тот понял, что теперь катастрофа неминуема. И спрятаться от позора будет негде. Даже в самом глухом сибирском деревенском углу. Даже в самом далеком уголке Земли. Вся планета будет скалить зубы и издеваться. Можно пережить все, если есть куда спрятаться. А куда бежать? Не на Луну же?! Что же делать? Коржаков крепче прижался с своему начальнику и богу, которого он, впрочем, давно презирал, хотя и продолжал по-своему любить. Даже в эту минуту он был готов умереть за него. Но только не пустить его на позор.
Тут неожиданно Ельцин ослабил хватку, захрипел, рухнул на диван, потом медленно сполз на пол, громко стукнувшись затылком о ковровую дорожку салона. Его лицо стало покрываться синевой.
– Врача! – закричал Коржаков. – Врача немедленно, иначе всех сейчас перестреляю!
Он никогда в жизни не кричал на подчиненных. Никогда и представить себе не мог, что способен, но это прорвалась радость: «Сердечный приступ! Откачаем! Главное, теперь никуда не пойдет!»
Врачи возились с президентом минут двадцать, ввели ему сосудорасширяющее и тут же седативное – в двойной дозе. Вскоре он медленно открыл глаза, узенькие и совершенно заплывшие, дохнул густым перегаром. Попытался встать.
– Куда, Боренька? Тебе нельзя! – прижала его к дивану своей грудью жена. – Не шевелись даже! У тебя же сердце!
– Сделайте меня здоровым, – жалобно простонал президент. – Сейчас же сделайте меня здоровым…
– Дома сделают, в Москве, – ласково заговорил Коржаков, – там вас они сделают совсем здоровым, а сейчас оставайтесь в самолете.
Президент все-таки приподнялся, посидел минуту, помолчал, посмотрел на свои брюки, которые продолжали издавать острую вонь, будто в ноздри кто-то тыкал мелкими иголками. И заплакал.
– Что же это такое?.. Что вы со мной сделали? – из его узких глаз двумя свободными ручьями полились слезы, а из носа сопли. – Позор! Позорище! Этого я вам ни-ког-да не за-буд-у! – он произнес эти слова с такой же интонацией, с какой в 1993 году адресовал их Верховному Совету, перед тем как расстрелять его из танковых пушек интермитными снарядами – от живых людей остается только горстка пепла. И погрозил пальцем Коржакову, жене, потом всем остальным, рукавом вытер нос. Помолчал. В салоне повисла тишина. – Кто выйдет к этим алкашам? – уже спокойнее спросил Ельцин.
– Все в порядке, Борис Николаевич! – успокоил его Коржаков. – Вот Олежек уже галстук надел!
Заместитель премьер-министра Сосковец, не ожидая команды, приближался к закрытой двери салона, поправляя на ходу галстук. Летчики начали открывать дверь.
Президент опять замолчал и посмотрел в иллюминатор. За толстым стеклом бушевал дождь. Иллюминатор заливало, но, тем не менее, можно было разглядеть, что творилось у выхода на летное поле.
Вот Сосковец, без шляпы, без зонтика, быстрым шагом подошел к премьер-министру Рейнольдсу. Ирландец энергично тряхнул руку русского коллеги, черные волосы премьера взметнулись. Оба чиновника похлопали друг друга по плечам, потом заговорил Сосковец, и оба при этом пристально вглядывались в самолет, а Ельцин пытался почесть в лица обоих: что Сосковец сейчас врет ирландцу? Ельцин знал, что Рейнольдс его не видит, и хмуро показал ирландскому премьер-министру в иллюминатор фигу.
Постепенно лекарства дали себя знать, Ельцин отяжелел и вытянулся во весь рост на бархатном диване. Еще утром, на завтраке у своего коллеги и друга, американского президента, он был почти счастливым человеком, чувствующим себя хозяином всей планеты. Он прекрасно знал, что сексуальный маньяк Клинтон, как и желтомордый орангутанг Миттеран, жирный боров Коль, длиннозубая ведьма Тэтчер, а вслед за ними всякая шелупонь типа макаронника и мафиози Берлускони относятся к нему, президенту России, с насмешкой, которую уже и не скрывают. Это очень терзало Ельцина и служило источником разных печальных переживаний.
Время от времени он набирался куражу и демонстрировал своим коллегам – президентам, нынешним и бывшим, что он тоже не шестерка. Бывшего американского президента Ричарда Никсона, который заглянул в Россию как бы невзначай, на огонек, и первым делом поспешил встретиться с Зюгановым («Разнюхивают, заразы, замену мне ищут», – догадался тогда Ельцин), он подверг публичной порке перед телекамерами. И так жестоко, от души, что Никсон в глубоком огорчении тут же рванул к себе обратно, в свой дистрикт Колумбия. Через несколько дней дряхлый американский козел, так и не придя в себя от стресса, дал дуба. В другой раз он устроил выволочку самому Клинтону, который упрекнул Ельцина в том, что, дескать, его русский друг Boriss, вместо того, чтобы дать Чечне самостоятельность, как того требует мировая демократия, занялся истреблением мирного населения. Мол, если уж не можешь справиться с восставшими, так и скажи. Русская армия воевать не в состоянии. Только один способ, только один вид оружия оказался доступен и понятен русским генералам и главнокомандующему Boriss'y лично: пушечное мясо. И теперь Boriss Yeltzin пытается завалить чеченских боевиков трупами русских солдат, новобранцев, которые еще неделю назад держались за мамину юбку и сегодня даже еще не знают, как стрелять из автомата. За год в Чечне погибает в восемь раз больше солдат, чем погибло за все десять лет войны в Афганистане. Русских солдат в Чечне даже не кормят. Русские солдаты кормят себя сами. Грабят местное население, торгуют патронами: десять русских патронов – банка русской же тушенки. Понимают, что завтра этими же патронами чеченцы станут их убивать. Но если не торговать, нужно умирать с голоду сразу.
Ельцину принесли полный текст выступления Клинтона, он читал и скрежетал зубами. Вечером, поуспокоившись, заявил по телевидению:
– Тут друг Билл решил меня немного поучить. Ничего, пусть учит. Но если берется меня поучать, пусть не забывает, что у его друга Boriss’а есть еще ядерные ракеты – в случае чего и шандарахнуть можно.
Друг Билл, правда, не испугался, даже наоборот, поржал, как он это умеет. Ну, ничего, все-таки получил по носу.
Но сегодня днем на приеме в Белом доме все было по-другому. Русский президент просто купался в лучах доброжелательства и всеобщей любви. На ланч в узком кругу собрались крупные чиновники Белого дома, два-три министра, бывший госсекретарь Александр Хейг и нынешний Джордж Бейкер. Был глава банковской корпорации «Симантек», какой-то писатель и какая-то молодая женщина потрясающей красоты: Ксения Ксирис, русская графиня, дальняя родственница императора Николая II и князя Феликса Юсупова, убийцы Распутина. Каждый из приглашенных желал выпить с ним, поговорить по душам, спросить, уважает ли его русский президент…
Постепенно веки у Ельцина отяжелели, салон самолета поплыл куда-то вбок и вниз, и, погружаясь в цветной калейдоскопический водоворот. Ельцин успел подумать: «Что же это – я умер, что ли? Значит, правду в книжках пишут – сначала после смерти цветной водоворот, потом темный туннель, потом свет в конце туннеля, как я обещал России после свержения коммунистов…» И тут он, действительно, промчался через туннель навстречу чудесному солнечному свету, который источал тепло, умиротворение и любовь.
Он погрузился в эти бесконечные волны щемящей любви, потом глянул вниз и увидел свое тело на самолетном диване – проспиртованное, грязное и вонючее. Увидел до мельчайших подробностей каждый седой волосок на голове, свою левую трехпалую руку, увидел свое сердце, его коронарные сосуды, забитые, словно цементом, холестериновой дрянью. Ему стало жаль себя: «Укатали сивку … Пора на покой». Он хотел подняться еще выше, чтобы полностью и навсегда погрузиться в море любви. Но с удивлением обнаружил, что не может. Не пускала тонкая, словно паутина, но прочная, как гитарная струна, серебряная нить, привязанная одним концом к его полуразвалившемуся телу, другим концом – к нему самому. Мало того, она стала уменьшаться и властно потянула его вниз. Он влетел в свое тело, отметив его необычную бледность, и обрушился вниз, в темноту и так летел, пока не очутился в своей родной деревне Будки, заброшенной в сибирской глуши. На обочине пыльной дороги он увидел старую костлявую гнедую кобылу с огромным брюхом, стреноженную и привязанную за веревку к колу, вбитому в землю. Он узнал ее: это была дедова кобыла. «Жеребая», – догадался Ельцин. И приблизился к лошади. Та, испугавшись, отскочила в сторону, вырвала из земли кол. Но уйти ей не удалось. Запутавшись в высокой траве, гнедая кляча тяжело рухнула набок. И тут черная ярость охватила его: «Ах, так ты – бежать? Не слушаться? Меня не слушаешься, сволочь?!» Он схватил с земли булыжник и принялся бить упавшую лошадь – по шее, по голове, по глазам. С каждым ударом камень чавкал, кровь побежала ручьем, на голове лошади треснула шкура, и показалась бело-розовая кость. А он все бил и бил уже затихшее бездыханное животное – бил с оттягом, выхаркивая воздух, словно рубил дрова. И остановился лишь тогда, когда сквозь кровавый туман бешенства увидел, чтоб бьет не кобылу, а окровавленную пожилую женщину, крестьянку, – то ли собственную жену, то ли мать.
Она лежала, оцепеневшая и почти остывшая, на пшеничном поле, и кровь пропитывала сначала стебли, потом колосья, потом зерна стали кровавыми и затвердели. «Убил», – с удовлетворением отметил он и стал вытирать окровавленные руки о траву – кровь не оттиралась.
«Что за чертовщина приснилась? – подумал Ельцин, открывая глаза. – Что это я – на том свете, что ли, побывал?» Он попытался удержать в памяти увиденное, но цветная и яркая картина расползлась, растаяла, словно гнилое лоскутное одеяло, и он начисто и навсегда забыл видение. Остались только страх пополам с бешенством. Но постепенно и они отступили. И он снова уснул. Проснулся, когда самолет уже стоял на посадочной полосе, заглушив моторы.
– Глянь-ка! Журналюги уже здесь! – с досадой пробасил Сосковец. – Что будем говорить? – обратился он к Коржакову. Но тот уже исчез за бронированными дверьми салона связи. Здесь радист-шифровальщик соединил его с начальником группы охраны аэропорта Домодедово.
– Какая сволочь пропустила журналистов? – кричал он начальнику охраны, пожилому полковнику, у которого от каждого слова Коржакова артериальное давление поднималось на двадцать миллиметров.
– Так ведь приказа не пускать не было. У всех пропуска в порядке, – с трудом шевеля губами, выдавил из себя почерневший генерал.
– «Не было, не было!» – злобно передразнил его Коржаков. – Думать надо! У тебя что – между погонами голова или ночной горшок?
– Голова, – признался полковник.
– А я думаю, что горшок с дерьмом. И генеральские погоны рядом парашей находиться не могут.
– Так точно, не могут, – почти теряя сознание, согласился начальник группы. И, собрав последние остатки мужества, спросил: – Когда сдавать дела, Александр Васильевич?
– Какие дела? Что за дела ты еще выдумал? Ну и народ в моем ведомстве работает! Чуть дашь по рогам – дела бегут сдавать! – он перевел дух. И сказал извиняющимся тоном. – Ты, Сергеич, не сердись на меня… Не прав я. Телевизор смотрел? Репортаж из Ирландии показывали?
– Показывали.
– Ну вот видишь… И что говорили? Почему не вышел президент?
– Ничего не говорили. Сказали, что в Шенноне самолет президента встретил ихний премьер. С ним имел беседу вице-премьер Сосковец…
– Понятно, – и Коржаков отключил связь.
– Товарищ генерал! – сообщил ему радист. – Михаил Никифорович Полторанин на связи – по каналу один.
– Давай!
Полторанин, бывший ведущий корреспондент газеты «Правда» по отделу партийной жизни, учивший всю страну коммунизму, верно служил Ельцину, так же как и Коржаков, но по другой причине. Коржаков пришел к Ельцину из благородства, когда тот был один и изгнан, и предложил свою службу. Правда, рассказывая об этом эпизоде из своей жизни, Александр Васильевич из скромности умалчивал, что уже тогда знал: Запад сделал ставку на Бориса и бросит все свои силы, все ресурсы, всю мощь, вплоть до военной, чтобы хозяином Кремля стал человек, который был бы обязан Западу всем и отрабатывал свой долг исправно и до гробовой доски. Полторанин тоже давно понял суть человека, с которым его связала судьба, но бросить его не мог по другой причине: ему просто некуда было идти. Его ненавидели как бывшие коллеги-коммунисты, так и новые сокорытники-демократы. И те, и другие постоянно спрашивали Полторанина, когда же он лгал? Когда по зову души работал в «Правде»? Или когда, опять же по зову души, стал ее уничтожать, демонстрируя свой антикоммунизм – такой же дремучий, как коммунизм?
– Ну что там? – спросил он не здороваясь.
– Да опять нажрался, как скотина. Стыдно людям в глаза смотреть, – ответил Коржаков.
– Что говорить будем?
– Не знаю, – вздохнул Коржаков. Он помолчал. И тут его осенило: – Знаешь, надо валить все на меня! Президент устал, заработался… а тут разница во времени… В общем, заснул. А я попрал своими лакейскими ногами дипломатический протокол и запретил будить нашего родного, притомившегося… Из соображений личной преданности и в силу своей беспринципности.
– Хорошо, конечно, – сказал Полторанин. – Но никто не поверит. Пока, – он отключился.
Выйдя в салон, Коржаков увидел, что Ельцин сидит в той же позе на диване и с интересом разглядывает свои новые сухие штаны.
– Это чьи? – спросил он Коржакова. – Форменные?
– Да, форменные. Командир экипажа уступил. Пришлось ему сажать самолет в трусах. Говорит, что никогда еще не сидел за штурвалом без штанов.
Ельцин ухмыльнулся.
– Надо наградить мужика!… Героя… Героя России давать, наверное, многовато, но насчет ордена надо подумать. Выручил все-таки. Президента, а не кого-нибудь! Ленина надо бы ему или Трудового Красного Знамени.
– Так вы же отменили эти ордена, – напомнил Коржаков. – Дайте ему новый орден «За заслуги перед Отечеством».
– Можно, – согласился президент. – Нет, лучше я дам ему Андрея Первозванного. И ленту.
– Гениально, Борис Николаевич! – одобрил Коржаков. – Народу понравится.
– Вот видишь! Понравится, конечно!.. Еще бы: правильное решение президента – дать высший орден государства за штаны. Ах ты мерзавец! – неожиданно гаркнул Ельцин. – В тираж списать меня хотел? Думаешь, президент уже ничего не соображает? Думаешь, президент все мозги пропил? Хотел меня на посмешище с орденом выставить? Отвечай! – рявкнул Ельцин, наливаясь яростью. – Отвечай – так думал?
– Ну что вы, Борис Николаевич, никогда я так не думал, – запротестовал Коржаков. – Вы лучше в окно посмотрите.
Ельцин посмотрел.
– Уже собрались… гиены! – злобно произнес он и спросил уже спокойнее. – Что говорить будем?
– Валите все на меня.
– Правильно, – кивнул Ельцин, с усилием поднялся и нетвердой походкой направился к трапу.
К телевизионщикам он вышел, хитро улыбаясь, и даже успел похлопать по попкам двух молоденьких журналисток.
– Представляете, а?! – обратился он к прессе, не дожидаясь вопросов. – Вот шельмецы! Сели мы, понимаешь, в Ирландии, аэропорт Шеннон, там сам премьер-министр, мой коллега, можно сказать, по работе господин Рейнольдс вышел меня встречать – визит вежливости, памаш… Стоит, бедный, ждет под дождем. А эти шельмецы – ну, может, я слишком сильно выразился… эти работнички, – он указал пальцем на Коржакова, – меня не разбудили! А теперь выкручиваются: «Президент устал, не хотели будить, президент должен отдохнуть!» Ну?! Как это называется? На то я и президент, чтобы не отдыхать!.. – тут его горло вдруг перехватил непонятный страх с яростью пополам, и Ельцин замолчал. Потом прохрипел: – Ну, я врезал, кому надо – как следует!..
Махнул рукой и направился к выходу.
Этот яростный животный страх теперь будет его душить все время. Особенно, по ночам, отпуская лишь ненадолго. И избавиться от него не помогут ни водка, ни лекарства, ни операция на сердце, ни экзотические лекари из Китая и Таиланда.
С трудом он влез в подкативший «ЗИЛ».
– В Кремль, – коротко приказал Ельцин.
– А может, сразу домой? – спросил Коржаков.
– Тебе что – заложило? Тогда я найду охранника помоложе – не глухого. Сказано в Кремль – поезжай!
В кремлевском кабинете он долго сидел в кресле в пальто и шапке. Потом сказал Коржакову:
– Чаю неси, горячего. С лимоном. Пить хочу…
И горестно вздохнул, принимая от Коржакова тяжелый серебряный подстаканник. Сделав глоток, повторил:
– Пить хочу… Что же это подлец Клинтон подсыпал мне в виски?
Коржаков не ответил, только медленно покачал головой. Ельцин усмехнулся:
– Подсыпал – уверен на сто процентов. Ну, скажи, разве я так напивался когда-нибудь?
– Да, Борис Николаевич, уж так не бывало, – Коржаков передернул плечами, вспомнив, как бывало. Если Ельцин перебирал, он это, как правило, сознавал и останавливал пьянку или запой своими, порой неожиданными способами. Однажды возвращаясь с дачи в Завидове, где они с Назарбаевым пили по-черному – русский президент таким образом извинялся, что развалил СССР без участия казахского, – он велел остановить свой членовоз около придорожного озера: заметил в нем полынью. Подошел к ней, разделся догола в тридцатиградусный мороз на глазах у назарбаевских жены и дочки и сиганул в прорубь. Плескался там минут десять, пока Коржаков с помощниками не вытащил президента силой. Но президент кочевряжился, не хотел одеваться, уворачивался, болтая причинным местом направо и налево. На следующее утро – как ни в чем не бывало: только легкий насморк прошиб. Да – так, как сегодня, Ельцин еще не напивался.
– Самое главное, ничего не помню, – пожаловался он. – То есть, всех помню – кто что делал. Задницу этой бабешки помню – хорошая попка, как волейбольный мячик без покрышки. А что они говорили и что я пообещал, ничего не помню.
– Вы пообещали Гольдману и Ксирис закончить дело с царем, которое начали в семьдесят восьмом году.
– А как я его начинал? – поинтересовался Ельцин. Ему внезапно стало холодно.
– Не знаю, – ответил Коржаков. – Этого я не слышал, потому что подошел позже. Слышал только – Гольдман сказал, что царь оставил в банках Лондона еще в ту войну, до революции двенадцать тонн золота.
– Шесть, – задумчиво поправил его Ельцин.
– Нет, двенадцать, – возразил Коржаков. – Шесть – это не то золото. То – государственное, собственность империи. Его царь передал в залог военных поставок. А двенадцать тонн – личное золото царя. Англичане золото взяли, но оружия не поставили. По идее и по закону, это золото у них надо отобрать. Кстати, не только англичане у нас стибрили столько, что можно было десять перестроек спокойно провести и сто демократизаций с реформами без того, чтобы народ подыхал с голоду.
– Ну, ты не очень-то с народом! – прикрикнул на него Ельцин. – Голодает… Где ты видишь, чтоб народ голодал? Выйди на Тверскую – ты когда-нибудь видел в витринах столько продуктов? Есть даже киви!
– Тверская не Кострома, – отмахнулся Коржаков. – И зарплаты там другие, вернее, совсем никакие… А что касается золота вообще – тут много интересного. Знаете, сколько у нас украли французы? После первой мировой войны?
– Много?
– Не то слово. Очень много. Девять эшелонов золота Ленин в восемнадцатом году отправил немцам – как контрибуцию. В уплату за Брестский мир. Рассчитывал, что мир продлится недолго и Советская Россия все получит обратно. Через восемь месяцев – осенью восемнадцатого – в Германии революция, кайзера скинули, немцы капитулировали перед союзниками, а когда дошло до репараций и возврата нам золота, оказалось что французы его захапали у немцев и отправили в подвалы парижского банка. Там оно и лежит.
– Почему же мы его не отберем? – спросил Ельцин. – А вот Черномырдин еще предлагает вернуть французам царские долги.
– Какие к черту долги, Борис Николаевич! – воскликнул Коржаков. – Они нам должны в сто раз больше! А сколько нашего золота у японцев? Еще колчаковского! Правда, япошки – народ цивилизованный, честный. Они готовы отдать. Но не частной компании или акционерному обществу, как предлагает взять золото Чубайс. А только российскому государству!
– Ну, государству… С этим государством знаешь как… Чуть зазеваешься, все разворуют.
– А Чубайс не разворует?
– Ты Чубайса не тронь, – строго сказал Ельцин. – Ты ничего не знаешь. На нем все держится. Чубайс – единственный гражданин России, кого приняли в Парижский клуб. Меня вот не приняли, не захотели, а Чубайса приняли.
Коржаков хотел сказать: «Чубайс им тащит больше!», но сдержался и вслух произнес:
– А еще Гольдман сказал…
Но Ельцин уже вспомнил, что еще сказал Гольдман…
* * *
Вот как вспоминает об этом эпизоде сам А. Коржаков[4].
«…В тот сентябрьский день 94-го между президентами России и США шли обычные, в рамках визита переговоры. Встречу решили устроить в парке, перед музеем Рузвельта под Вашингтоном.
Погода выдалась на славу: дул легкий прохладный ветерок, солнце заливало ярко-зеленые ухоженные лужайки, обрамляющие дом. Ельцин и Клинтон с удовольствием позировали перед фотокамерами, И я тоже сфотографировал улыбающихся друзей – Билла и Бориса…
Сфотографировав Билла и Бориса еще раз, я вышел из столовой. Во мне росло раздражение, и хотелось немного успокоиться, созерцая окружающее благополучие. Я всегда чувствовал, когда радостное настроение Ельцина перерастает в неуправляемое им самим вульгарное веселье. Крепких напитков за завтраком не подавали, зато сухого вина было вдоволь. Не секрет, что на официальных встречах принято, дозировано принимать спиртные напитки: чокнулся, глоточек отпил и поставил бокал. Тотчас официант подольет отпитый глоток. Если же гость махом выпивает содержимое до дна, ему наполняют бокал заново.
Во время завтрака Борис Николаевич съел крохотный кусочек мяса и опустошил несколько бокалов. Клинтон еще на аперитиве сообразил, что с коллегой происходит нечто странное, но делал вид, будто все о'кей.
Из-за стола шеф вышел, слегка пошатываясь. Я от злости стиснул зубы. Вино ударило в голову российскому президенту, ион начал отчаянно шутить. Мне все эти остроты казались до неприличия плоскими, а хохот – гомерическим. Переводчик с трудом подыскивал слова, стремясь корректно, но смешно перевести на английский произносимые сальности. Клинтон поддерживал веселье, но уже не так раскованно, как вначале – почувствовал, видимо, что если завтрак закончится некрасивой выходкой, то он тоже станет ее невольным участником.
Облегченно я вздохнул только в аэропорту, когда без инцидентов мы добрались до самолета.
Когда шеф лег в своей комнатке, к нам подошла Наина Иосифовна и предложила мне перейти в общий салон, где обедали. Со столов уже убрали, и можно было прилечь, вытянув ноги на узких диванах.
Приглашение жены президента я принял с удовольствием – улегся на диване, накрывшись пледом и положив под голову пару миниатюрных подушек. Заснул моментально.
Вдруг сквозь сон слышу панический шепот Наины Иосифовны:
– Александр Васильевич, Александр Васильевич…
Я вскочил. Наина со святым простодушием говорит:
– Борис Николаевич встал, наверное, в туалет хотел… Но упал, описался и лежит без движения. Может, у него инфаркт?
Врачей из-за щекотливости ситуации она еще не будила, сразу прибежала ко мне. В бригаде медиков были собраны практически все необходимые специалисты: реаниматор, терапевт, невропатолог, нейрохирург, медсестры, и я крикнул Наина:
– Бегом к врачам!
А сам вошел в комнату президента. Он лежал на полу неподвижно, с бледным, безжизненным лицом. Попытался его поднять. Но в расслабленном состоянии сто десять килограммов веса Бориса Николаевича показались мне тонной. Тогда я приподнял его, обхватил под мышки и подлез снизу. Упираясь ногами в пол, вместе с телом заполз на кровать.
Когда пришли врачи, президент лежал на кровати в нормальном виде. Начали работать. Была глубокая ночь. В иллюминаторы не видно ни зиг, под ногами океан. Через три часа у нас запланирована встреча в Шенноне.
Доктора колдовали над Ельциным в сумасшедшем темпе – капельницы, уколы, искусственное дыхание. Наина Иосифовна металась по салону, причитая:
– Все, у него инфаркт, у него инфаркт… Что делать?!
Охает, плачет. Я не выдержал:
– Успокойтесь, пожалуйста, ведь мы же в полете, океан внизу.
Все, конечно, проснулись. Начало светать. Я говорю Сосковцу:
– Олег Николаевич, давай брейся, чистенькую рубашечку надень, на встречу с ирландским премьером пойдешь ты.
Олег опешил. А что делать?! Нельзя же Россию поставить в такое положение, что из официальной делегации никто не в состоянии выйти на запланированные переговоры.
Доктора тем временем поставили диагноз: либо сильный сердечный приступ, либо микроинсульт. В этом состоянии не только по самолету расхаживать нельзя – просто шевелиться опасно. Необходим полный покой.
Сосковец сначала отказывался выйти на переговоры вместо Ельцина, но тут уже и Илюшин и Барсуков начали его уламывать:
– Олег, придется идти. Изучай документы, почитай, с кем хоть встречаться будешь.
У Олега Николаевича память феноменальная, к тому же он читает поразительно быстро.
Приближается время посадки, и тут нам доктора сообщают:
– Президент желает идти сам.
– Как сам? – я оторопел.
Захожу в его комнату и вижу душераздирающую картину. Борис Николаевич пытается самостоятельно сесть, но приступы боли и слабость мешают ему – он падает на подушку. Увидел меня и говорит:
– Оденьте меня, я сам пойду.
Наина хоть и возражала против встречи, но сорочку подала сразу. Он ее натянул, а пуговицы застегнуть сил не хватает.
Сидит в таком жалком виде и пугает нас:
– Пойду на переговоры, пойду на переговоры, иначе выйдет скандал на весь мир.
Врачи уже боятся к нему подступиться, а Борис Николаевич требует:
– Сделайте меня нормальным, здоровым. Не можете, идите к черту…
Меня всегда восхищало терпение наших докторов.
Приземлились. Прошло минут десять, а из нашего самолета никто не выходит. Посмотрели в иллюминатор – почетный караул стоит. Ирландский премьер-министр тоже стоит. Заметно, что нервничает. Олег Николаевич стоит на кухне, в двух шагах от выхода, и не знает, что делать.
Ельцин обреченно спрашивает:
– А кто тогда пойдет?
– Вместо вас пойдет Олег Николаевич.
– Нет, я приказываю остаться. Где Олег Николаевич?
Свежевыбритый, элегантный Сосковец подошел к президенту:
– Слушаю вас, Борис Николаевич.
– Я приказываю вам сидеть в самолете, я пойду сам.
Кричит так, что, наверное, на улице слышно, потому что дверь салона уже открыли. А сам идти не может. Встает и падает. Как же он с трапа сойдет? Ведь расшибется насмерть.
Тогда принимаю волевое решение, благо, что Барсуков рядом и меня поддерживает:
– Олег Николаевич, выходи! Мы уже и так стоим после приземления минут двадцать. Иди, я тебе клянусь, я его не выпущу.
И Олег решился. Вышел, улыбается, будто все замечательно.
Когда он спустился по трапу, я запер дверь и сказал:
– Все, Борис Николаевич, можете меня выгонять с работы, сажать в тюрьму, но из самолета я вас не выпущу. Олег Николаевич уже руки жмет, посмотрите в окно. И почетный караул уходит.
Борис Николаевич сел на пуфик и заплакал. В трусах да рубашке. Причем свежая сорочка уже испачкалась кровью от уколов. Ельцин начал причитать:
– Вы меня на весь мир опозорили, что вы сделали.
Я возразил:
– Это вы чуть не опозорили всю Россию и себя заодно.
Врачи его уложили в постель, вкололи успокоительное, и президент заснул…»
4
Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., Интербрук, 1997.