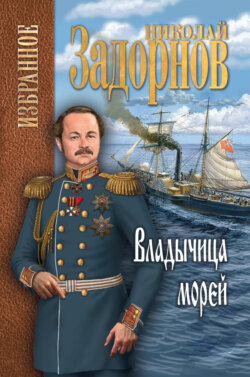Читать книгу Владычица морей - Николай Павлович Задорнов, Николай Задорнов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая. ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Глава 6. После войны
ОглавлениеВ Ростове, так же, как и во всей армии, из которой он приехал, еще далеко не совершился тот переворот в отношении Наполеона и французов, из врагов сделавшихся друзьями, тот переворот, который произошел в главной квартире и в Борисе. Все еще продолжали в армии испытывать прежнее чувство злобы, презрения и страха к Бонапарте и французам.
…Ростова странно поразил в квартире Бориса вид французских офицеров, в тех самых мундирах, на которые он привык совсем иначе смотреть из фланкерской цепи.
…Как только он увидел высунувшегося из двери французского офицера, это чувство войны, враждебности, которое он всегда испытывал при виде неприятеля, вдруг охватило его.
Л. Толстой. Война и мир
Муравьевы жили в трехкомнатном номере окнами на Исаакиевскую площадь, в модной гостинице с плоским скупым фасадом цвета казенного шкафа в узких стеклах. Внутри этот шкаф с большими и удобными квартирами. Приезжая в Петербург из Сибири, Николай Николаевич обычно тут останавливался.
Отпуск с выездом за границу для лечения в Мариенбаде ему разрешен. Екатерина Николаевна отправляется во Францию к своим родственникам. После лечения Николай Николаевич приедет в По, где имение у родителей Екатерины Николаевны.
Время в Петербурге проходило в делах, встречах и в театрах. Муравьевы бывали у друзей и знакомых и у себя в отеле задавали обеды на широкую ногу.
Николай Николаевич продолжал визиты по министерствам и департаментам. Он приехал с обдуманными планами и энергичными намерениями. Он понимал, что нельзя опережать события, должно пройти время, чтобы новый порядок хоть немного устоялся.
…Вечером Муравьевы были на концерте.
Сердце отдыхает, сама Вена с ее ранней весной на Дунае утешает Петербург. От Вены для Екатерины Николаевны мысленно прямой путь в Париж, и теперь уже близкое совсем путешествие чувствуется в волнах прелестной легкой музыки так, словно катишься на рессорах по дорогам Европы, обсаженным вековыми деревьями.
Композитор обернулся к бушующему пылкому залу.
– Штраус!.. Штраус!.. – кричат голоса. – Иван Штраус…
Иван Штраус, так зовет его Петербург, так пишут в газетах и на афишах. Его лицо неузнаваемо красно, обезображено от пота, счастья и волнения. А при первом поклоне он был серьезен и бледноват и походил на типичного немецкого студента, капельмейстера университетского оркестра или хора.
Екатерина Николаевна глянула на мужа, чуть тряхнула темной прической и поднялась вместе со всеми.
Сколько прелестных белоснежных рук петербурженок одаряли аплодисментами молодого концертанта-дирижера.
Вальс. Над Дунаем кружатся спокойные и веселые австрийские крестьяне в праздничных нарядах. И сам композитор в элегантном фраке, с белоснежной крахмальной грудью, как развеселившийся венец на народном гулянье.
В своем отечестве пророков не бывает, как знает Екатерина Николаевна. А Петербург в таком восторге; после войны и многолетнего бесцеремонного угнетения – отдыхает и ликует; здесь угадывали дар артиста и принимали его, обещая будущее.
Полька… Галоп… Вино, любовь и песни… Конец войне, конец тирании, свобода крепостным. Полный успех этого белокурого, холодного на первый взгляд немца. Он обретает здесь вторую Родину; может быть, сейчас та великая минута, когда гений познает себя, силу своего творчества. Россия всегда благодарила Европу за таланты, общество ума и вкуса делало это грациозно и щедро. Екатерина Николаевна украдкой протянула руку и тихо пожала руку мужу.
Штраус обласкан. Он осыпан цветами. Его всюду узнают и приглашают. В газетах сообщено, что Иван Штраус лето будет дирижировать оркестром в Павловске на гуляньях и в театре. Конечно, и во дворце.
«А что же мы?» Муравьев сам себе подлил сегодня масла в огонь, прочел, что союзники, еще не ушедшие из Крыма, удивляются, когда при встречах с ними наши офицеры говорят по-французски.
Музыка отторгает Николая Николаевича от понесенных уронов и от замыслов реванша, напоминая, что нет жизни без радости, без забвения вражды, что раны должны заживать. Музыка разговаривала с генерал-губернатором Сибири про загородные рощи, катания и скачки, и сказки венского леса и что настоящая победа бывает, лишь когда нет побежденных.
Оглушительный взрыв восторга. Вкус и чувства русского общества не вытравлены, и это выше любого реванша Трава, обреченная на иссыхание, оживала при первой поливке. Композитор, может быть, не сразу поймет, что обретает здесь. Вена дала ему образование и выработала характер, Петербург дарил веру в себя. Композитор, с чуть надутыми губами балованного мальчика, сам расписывал партии своих произведений для инструментов этим солидным и почтенным музыкантам Мариинского оркестра, похожим на московских бояр. Он их разжег… Влил венгерского вина в их жилы. Его чуткое ухо улавливает каждого из них в общем согласии. Он трепетно слышит и публику, музыку ее чувства в безмолвной хрустальной яме театра. Публика сливается с оркестром, он ловит ее замирания и беззвучные взрывы откликов.
Тишину сметала канонада аплодисментов, словно грохотали салюты и происходила коронация.
Светлый австриец с припухлыми губами на озабоченном красном лице стоял, как избитый.
…Хмурое ли утро? Нет, весенний солнечный день с жестким ветром.
…А вот уметь заставить талант почувствовать, что он не талант, подумал Николай Николаевич, вспоминая вчерашний концерт, для нас это куда проще и спокойней, привычней и чаще встречается. Не дай бог, у меня в Иркутске народится местный талант. Да и никто, ни в одной губернии этого бы не потерпел».
День прошел в военном министерстве и картографическом управлении. Муравьев вернулся к обеду довольный, упоенный предчувствием успеха и преисполненный тайного гнева. Он надеялся, что со временем этот гнев можно будет выпустить из клетки и превратить в полезное дело.
Вечером за обедом был Егор Петрович Ковалевский.
В Крыму при штабе главнокомандующего, зная греческий, турецкий и арабский языки, Ковалевский всю войну получал тайные письма из Балаклавы, Константинополя и Скутари. Лазутчики шли к нему, и сам он, отрастив и выкрасив хной бороду, с надежными проводниками через чащи за Бахчисараем проникал за укрепленные линии противника.
Деятельность его оставалась в тени, он известен лишь как ученый-путешественник, этнограф, археолог, остроумный писа-тель-беллетрист, бывавший в Африке, в арабских странах, в Турции, в Египте и в святых местах. Неожиданно для публики Ковалевский в конце войны получил чин генерал-майора.
Только в кругу друзей он мог рассказывать, что в книгах не напишешь.
Егор Петрович назначен директором Азиатского департамента в министерстве иностранных дел у Горчакова.
Муравьев знаком с ним давно, бегло, но дружественно. Теперь Муравьев формально поступал по всем дипломатическим делам в его ведение. Ковалевский бывал и в Китае. Он тем нужней, что можно угадать общность взглядов.
– Мне нужны офицеры, знающие китайский и японский языки, – заметил Муравьев.
Он желал бы найти молодых сотрудников. Муравьев из них, как из глины, умеет лепить своих людей.
Ковалевский увлек гостей рассказами про Ближний Восток.
«Ковалевский, – думал Муравьев, – реакционер. Проливы и Царьград – больные претензии империи, унаследованные от московских царей и от древних князей. Времена переменились».
Муравьев не спорил, он притворно соглашался и, лишь упоминая временами, что делается у него в Сибири, умело привязывал Ковалевского к своим интересам: к другим краям и землям, где выход к морям и к океанам свободен и не потребует завоеваний и кровопролития. В душе Муравьев не согласен, что нам нужен Босфор и Золотой Рог в Турции и святые места в Малой Азии. Мы влезем туда себе на пагубу. Он признавал лишь, что освобождение славян от власти турок придется довести до конца.
Как умный человек, Ковалевский не мог не понять, что Николай Николаевич, сравнивая успехи на Тихом океане с провалами войны, предлагает размен неудачной и разбитой политики на Ближнем Востоке на нашу деятельность на окраинах Сибири. За Царьградом и проливами – тупик, тучи азиатских народов, всякая вражда их между собой и с нами, резня, постоянная опасность войн со всеми европейскими державами.
За устьем Амура – Япония, за океаном – Штаты, прямая торговля с ними идет. На другом берегу Амура – Китай. Это будущий мир гигантской торговли, которой России недостает. Золото Сибири даст крепость нашим будущим деньгам.
Русские деньги могут быть самыми сильными в мире, у нас золото. Ценные деньги пробудят энергию в народе.
Ковалевский с явной благожелательностью слушал про путешествия Муравьева, про встречи и знакомства с китайскими чиновниками, которые год от года становятся все более общительны.
Муравьев был принят молодым государем. В тех же комнатах Зимнего, на втором этаже, где когда-то был принимаемым им же – наследником. Кабинет Николая в нижнем этаже, с его шинелью, каской и бюстом Бенкендорфа, заперт, хранится как святыня.
Александр спал в весе, стал стройней, он с любопытством посмотрел на Муравьева, которого давно не видел, но слыхал о нем немало.
Александра Николаевича, в его 38 лет, можно назвать красавцем, если бы не огромный рост и большие глаза, в которых иногда проступает отцовская требовательность.
Слухами земля полнится. Трон меняет и обязывает. Александр сохранил простоту обращения. Да беда, что вокруг, как говорят, нет людей.
Александр знал Муравьева и доверял ему. Не только служба ему порукой. Муравьев закончил Пажеский корпус, служил в гвардии Семеновском полку, был на войне и в походах, ранен, награжден за храбрость. Александр рос при гвардии и любил ее питомцев. Считалось, что гвардия и Жуковский образовали его.
Муравьев подавал отцу записку об освобождении крестьян. Александр слушал Муравьева в 1850 году в Амурском комитете, находил его доводы логичными, заступался у отца, когда министры были недовольны. Все последующие годы Муравьев слал ему записки о делах Сибири.
Но, кроме того, Муравьеву покровительствовала великая княгиня Елена Павловна – когда-то он был пажом. Принят в ее дворце как свой. Для нее он – Коля Муравьев, ее бывший паж, оставшийся любимцем. Великая княгиня Елена Павловна мнение о близких и своих привязанностей не меняла.
Александр разговаривал с Муравьевым как со своим, от кого нет секретов. Он свой не в первом поколении, его отец, семья, в которой вырос, известны при дворе. Говорили, что молодой государь часто колеблется, окруженный неуверенными людьми, бывает нерешителен.
Но сегодня, слушая твердое и ясное мнение про дело, начатое еще его отцом, он оказался тверд.
– Ты хочешь, чтобы я сделал тебя полномочным министром по сношениям с Китаем и Японией? Но даже самодержавная власть должна считаться с принятым порядком.
В его мягкой речи угадывалась сила ума и характера, он был безупречно вежлив и интеллигентен. Смысл его слов очевиден, тон не менялся, и общий характер воспитанности не покидал государя.
Александр спросил о ссыльных в Восточной Сибири, сказал, что готовится амнистия и полное прощение участников восстания на Сенатской площади.
Дальше государь заговорил совсем как с сослуживцем по полку.
– В августе предстоит коронация. Государство в долгу, денег в казне мало, запас в крепости почти иссяк. После войны обнаружено много ужасных изъянов… Право… В Европе полагают, что Россия разорена, беднеет и все в развале. На коронацию не будем жалеть средств и закатим торжество, каких Европа еще не видела. Придется выдержать тяготы. Будем выпускать заем. Приедут посланцы всех дворов и правительств, масса гостей. Покажем, что Россия изобильна, ей есть чем торговать, она сыта, что глубинные силы ее крестьянства и экономические возможности велики. Пусть убедятся, что, если бы мы обрекли наших противников на отечественную войну, нам бы достало сил и средств, а им бы несдобровать. Только не хочется мне принимать с былыми почестями посланцев королевы Виктории. Отец надеялся на лордов. Сердце не может простить… От имени королевы прибудет независимый лорд Гранвилл. Королева мила, я помню ее хорошо.
– Да, п-пришли, Муравьев, на мою коронацию, – испытывая неловкость, Александр иногда заикался, – п-представителей сформированного тобой к-казачьего войска Я хочу видеть двух казаков-забайкальцев на торжестве… Какая же форма у них?
– Желтые лампасы.
– Ты молодец, Муравьев!
Муравьеву лестно внимание и доверие государя.
Преисполненный воодушевления и благодарности к царю, он уезжал из дворца. Лишь спустя время Николай Николаевич осознал свое притворство и хитрость.
Убеждения Муравьева давали сильный крен по тем же причинам и в ту же сторону, как в свое время у декабристов. Милость государя возвращала его к чистым детским понятиям о монархии.
В декабристах, находившихся в ссылке в Иркутске и в деревнях под городом, Муравьев обрел задушевных друзей, отстраняя от себя силой деспотической власти подозрительных чиновников и отбивая им охоту и возможность следить за собой.
Еще в 1854 году, впервые возвратившись с Амура, на другой же день велел он закладывать лошадей и помчался по высокому берегу еще не замерзшей Ангары в пригородную деревню Малую Разводную, где на окраине стоял двухэтажный дом Юшневских и где собиралось общество близких людей, как бы новый Союз благоденствия. Тут он чувствовал себя как лазутчик, возвратившийся к заговорщикам. В верхнем этаже с окнами на Ангару, среди верных единомышленников казалось, что цель может быть достигнута, смысл найден, за вином и опьяняющими речами время останавливалось.
Тут, в Малой Разводной, в доме с краской цвета солнца по доскам обшивки, казалось, возникала школа мудрости Сибири, ее академия и университет.
А в нижнем этаже, в узеньком коридорчике, увешанном теплой верхней одеждой, посиживал служивший у Юшневской на конюшне и по дому молоденький смышленый паренек Котька Пятидесятников.
Потом, глубоким стариком, рассказывал Константин Яковлевич Пятидесятников про свою службу Юшневским, про приезды к декабристам Муравьева, возвратившегося с Амура, про кутежи по этому случаю в Разводной и про внезапную кончину одного из братьев Борисовых, живших в этом же доме, и как в том же 1854 году другой брат, не снеся потери, покончил жизнь самоубийством. И про многие другие события тех лет…