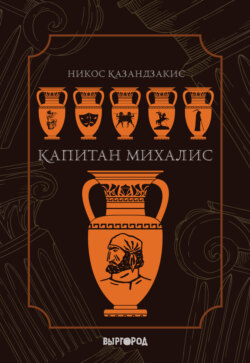Читать книгу Капитан Михалис - Никос Казандзакис - Страница 3
Глава II
ОглавлениеВесенняя ночь выдалась нелегкой для жителей Мегалокастро. Около полуночи холодный, пронизывающий ветер сменился теплым, влажным, от которого набухают почки на деревьях. Начал он свой путь в Африке, пересек Ливийское море, промчался над Месарийской равниной от Тимбаки и Калус-Лимьонеса до Айя-Варвары, оставил позади знаменитые Арханьотские виноградники и оседлал стены Мегалокастро. Пробираясь сквозь щели в дверях и окнах, он набрасывался на мужчин и женщин, пробуждал желания, не давал уснуть. За одну ночь весна вероломно овладела Критом.
Даже паша, хоть был он уже стар и немощен, проснулся от сладостной истомы, хлопнул в ладоши, и в комнате тотчас появился арап Сулейман.
– Открой окно, Сулейман, что-то душно… И что за напасть этот ветер!
– Да нет, паша-эфенди, не напасть. Ветер из африканского края, потому такой горячий. На Крите называют его ангур-мельтеми[26]: огурцы от него хорошо растут.
– Ангур-мельтеми… И то верно. Вот что, позови-ка Фатуме, пусть зайдет, она мне нужна. Да налей воды в кувшин и принеси сюда. И опахало захвати… Ох, беда, этот Крит вгонит меня в могилу!
В эту ночь в теле богобоязненного митрополита Мегалокастро – ему уж восемьдесят стукнуло, и седая борода белой рекой струилась до пояса – тоже заиграла кровь. Он сбросил одеяло, кряхтя встал с постели и подошел к окну подышать свежим воздухом. Вокруг тишина, в темноте вырисовывались очертания погруженных в сон домов. Старое лимонное дерево во дворе кафедрального собора пьянило воздух густым запахом цветов. А в глубине тверди небесной, пред Божиим престолом, зажглись несчетные лампадки звезд… Со страхом всматривался митрополит в ночное небо. Нежный ветер вдруг словно поднял его тяжелое, тучное тело на воздух, и оно зависло в глубокой тишине, ниспосланной Богом. Прошло несколько мгновений, прежде чем старик снова почувствовал под ногами твердую почву. Он с облегчением вздохнул, перекрестился и вернулся в постель, чтобы погрузиться в безгрешный сон.
Капитан Михалис резко сбросил простыню и, недовольный, сел на кровати. Было уже за полночь. Схватил со стола кувшин и несколько раз жадно глотнул холодной воды, пытаясь отогнать бесстыжий сон, обволакивающий, льнущий к нему, словно женщина.
– Приснится же такая нечисть! – проворчал капитан Михалис, и меж бровей залегла гневная морщина. – Чего доброго, бесов накличешь!
Он вскочил, босиком спустился по лестнице во двор, зачерпнул воды из колодца и сунул в ведро голову. Но во рту все равно остался сладковатый привкус греха. Михалис вернулся в дом, сел на кровать, распахнул окошко. Со всех сторон его обступала густая, как смоль, тьма. Прислушался: город спал глубоким сном, и не слышно было его дыхания. Только непривычно горячий ветер, пропитанный запахами земли и моря, гулял по двору, шурша виноградными листьями.
Капитан Михалис прислонился к стене и закурил. Он не хотел больше поддаваться сну-искусителю. Пускал дым, устремив взгляд на архангела Михаила в киоте, покровителя его рода, этого небесного Дели-Михалиса с колчаном за спиной. По правую руку от иконы поблескивали повешенные крест-накрест дедовские серебряные пистолеты, по левую – свадебные венцы из восковых лимонных цветов. Из соседней комнаты донесся вздох супруги, на чердаке пискнула мышь, и в то же мгновение по ступенькам едва слышно шмыгнул кот. И опять глубокая, ничем не нарушаемая тишина.
Капитан Михалис курил и ждал рассвета, впившись глазами в окно, тяжело дыша, и в густых бровях прятался гнев, смешанный со стыдом.
Светать начнет, видно, еще не скоро – темень хоть глаз выколи, да и ветер этот, дерзкий, неугомонный, никак не утихает. Не обошел он и дом Блаженных, покружил над широкой кроватью с кружевным балдахином, где, скрестив руки, спокойно спали в белоснежных ночных рубашках три сестры. Аглая то и дело выпрастывала из-под одеяла голые костлявые руки и хихикала, как будто ее щекотали. Затем, словно бы устыдившись, затихала. В спальне, просторной и чистой, с тремя большими разукрашенными комодами, где хранилось приданое сестер, пахло подгнившей айвой.
Учитель Сиезасыр, брат капитана Михалиса, в этот поздний час сидел за столиком, накинув на плечи пальто, чтоб не простудиться от ледяного северного ветра, который задувал с вечера. Склонившись над толстой книжкой, он перечитывал историю Великого восстания 1821 года и как бы заново переживал все события. Вражда между братьями, коварство, продажность – и те же самые люди, не задумываясь, шли на смерть во имя родины, проявляли чудеса храбрости и стойкости, достойные святых! Учитель беспрестанно снимал и протирал очки, ему казалось, что из-за них расплываются буквы. На самом же деле глаза его были полны слез. Летели часы, сменился ветер, наступил апрель, митрополит и паша беспокойно ворочались в постелях, а Сиезасыр все сидел над книгой, дрожа от холода и протирая очки.
За исключением бодрствующего учителя и сладко спящих Блаженных, остальные обитатели Мегалокастро спали в эту ветреную ночь тревожно. Одинокие женщины задыхались, сбрасывали простыни, не понимая, что с ними творится. Замужние протягивали руки, прижимались к мужьям. Молодая Гаруфалья[27] в своем свежевыбеленном домике у пристани совсем распалилась. И ничего удивительного, ведь она только на прошлой неделе обвенчалась с красавцем Каямбисом. Теперь молодожены, как выразился Вендузос, плавали в бочке с медом. Шафером у них на свадьбе был Трасаки. В первые дни Гаруфалья ни на миг не расставалась с мужем и ходила точно пьяная от нежданно свалившегося на нее счастья.
Гаруфалья чуть не поседела в девках, чахнуть стала, и впрямь как неполитая гвоздика. И вдруг – муж, да еще какой! Его, верно, сам Господь Бог ей послал. Каямбис каждую субботу весь народ зачаровывал своим пением. Родом он был не здешний, из Сфакье, но Каямбис ушел оттуда три года назад, и обратной дороги в горы ему не было. Отец оставил двоим сыновьям отару овец, но из-за одного здорового барана – вожака – вышел у братьев спор. Решили они побороться: кто положит противника на обе лопатки, тот и получит барана. Однако в пылу схватки они слишком уж разгорячились, позабыли о том, что они братья, взялись за ножи, и Каямбис убил брата. Недолго думая, он бросил отару и барана-вожака да пошел куда глаза глядят. Так и оказался он в Мегалокастро. В сфакьянской бурке, в стоптанных башмаках, с веточкой базилика за ухом слонялся он по тавернам и пел. К счастью, увидел его однажды в таверне Вендузоса капитан Михалис, послушал, как тот поет, и парень ему понравился. Он подозвал Каямбиса и говорит:
– Не стыдно тебе, такому здоровому, таскаться по тавернам и петь, будто шлюха какая-нибудь? Приходи лучше ко мне, я дам тебе деньжат – человеком станешь!
И сдержал слово. Каямбис на те деньги купил себе ослика, две корзины товару разного и отправился по деревням торговать – нитки, гребешки, свечки, душистое мыло, зеркальца… Одно только условие поставил капитан Михалис: раз в полгода являться к нему в дом на пирушку и гулять до тех пор, пока сам хозяин не выгонит.
Как-то в большой деревне Крусонас увидел Каямбис у источника Гаруфалью и полюбил ее с первого взгляда. Прежде, однако, все разузнал – из какой она семьи, крепкое ли хозяйство – и только потом заслал к ней сватов. И вот в минувшее воскресенье их повенчали: Трасаки, встав на скамейку, надел на них венцы. Сам Михалис ни у кого не был ни шафером, ни крестным отцом. Сколько его ни звали – отказывался, «пока Крит не будет свободен».
А теперь Каямбис, запершись в бедном своем домишке, вот уже восемь суток плавает в бочке с медом. Встает, только чтобы осла покормить да самому поесть. Гаруфалья наскоро варит еду, подкрепятся молодые – и снова в постель… С иконы на стене смотрит на них довольный Христос, улыбается и благословляет. Пусть никогда не пустуют люльки у критян, пусть винтовки передаются от отца к сыну – лишь благодаря этой бочке с медом в один прекрасный день станет свободным Крит…
Горячий весенний ветер гуляет и за крепостными стенами, там, где находится селение прокаженных – Мескинья. В лачуге, прямо на земляном полу, страстно сжимают друг друга в объятьях мужчина и женщина, тоже молодожены. Руки у него покрыты язвами, по ним струится желтый вонючий гной. У женщины нет носа – отвалился как раз накануне свадьбы, поэтому лицо невесты прикрыто белым полотенцем. Жених сжимает локтями свою сладострастно стонущую избранницу и думает о сыне и о том, что проказа на свете не переведется никогда.
В то время как обнимаются прокаженные в Мескинье, на другом конце Мегалокастро, у Новых ворот, появляется Барбаяннис. Он возвращается домой весь в поту, держа высоко над головой масляный фонарь. Спотыкаясь в узких переулках, Барбаяннис проклинает судьбу, что не дает ему насладиться даже сном: больше после смерти жены ему ничего не осталось. Целыми днями бродит он по городу и предлагает жителям зимой горячий салеп[28] для согрева, а летом – шербет для освежения. А еще часто зовут его вместо повивальной бабки, так что не больно-то поспишь. Принимать роды он научился у покойного отца, который принимал приплод у кобыл и ослиц со всей округи. А уж Барбаяннис перенес отцовское искусство на женщин. Вот и в эту ночь он принимал ребенка у Пелагеи, своей племянницы. И хоть промучился с нею три часа, но не напрасно: мальчик родился здоровый, черноволосый.
Разговаривая сам с собой и проклиная судьбу, возвращался Барбаяннис домой. Вдруг он услышал сзади цокот копыт. Правда, конь был какой-то необычный, не из тех, что едят ячмень, ржут и разбрасывают по дороге навоз. Копыта его так легко касались земли, словно были обернуты ватой, вокруг себя он распространял божественный запах ладана. Барбаяннис сразу все понял – не впервой, – перекрестился и, прижавшись к стене, стал поджидать всадника.
– Господи помилуй! – прошептал Барбаяннис. – Добрый вечер тебе, святой Мина!
Подняв глаза, он явственно увидел в ореоле яркого света среди тьмы резвого скакуна с золотой уздечкой, а на нем седобородого всадника. Был он в серебряных доспехах и в руке держал обагренное кровью копье. Святой Мина, отважный защитник Мегалокастро, как всегда, в дозоре. Ровно в полночь, когда город крепко спит, святой спускается с иконы, едет по набережной и по греческим кварталам. Прикроет растворившуюся дверь. Если кто из христиан болен и в окне у него горит огонь – непременно остановится и попросит Господа исцелить страждущего. Обычному глазу не дано увидеть святого. Только собаки при его появлении виляют хвостами, а из людей могут лицезреть его лишь двое: Барбаяннис и Эфендина Кавалина, придурковатый ходжа[29]. Только на рассвете возвращается святой на икону, и пономарь Мурдзуфлос, приходя утром убирать в церкви, всякий раз обнаруживает, что конь святого Мины весь в мыле.
Барбаяннис глядел, как исчезает святой в ночном мраке, и крестился.
– Вот и опять сподобился его увидеть, теперь дела пойдут на лад, – бормотал он.
Достав из-за пазухи лепешку на виноградном сусле, которую дала ему за труды Пелагея, Барбаяннис принялся с наслаждением жевать. Вот уже и дом близко, можно погасить фонарь.
Капитан Михалис курил, мысли в голове путались и жужжали, как майские жуки. Он силился припомнить все, что видел, что пережил, что полюбил и возненавидел в этой жизни, – деревню, отца, родной дом, разных людей, турок и греков, весь Крит от Грамбусы до монастыря Топлу. Ведь он исходил остров вдоль и поперек, побывал на всех его вершинах, в скольких восстаниях участвовал! И ни на чем теперь не мог сосредоточиться, так запали в голову эти бесстыжие красные губы.
Капитан Михалис кинул свирепый взгляд на архангела Михаила, точно в обиде на него за то, что тот не спустится с иконы и не наведет порядок в его жизни. Повернувшись, он увидел сквозь окно все то же темное небо.
– Пошли скорее день! – процедил он сквозь зубы. – Пошли день, хочу поглядеть, что со мной будет!
Снова вышел во двор, еще раз окунул голову в ведро с холодной водой и немного успокоился, присел на пороге.
Отчаянная борьба шла не только в душе капитана Михалиса. Всю ночь мерял шагами комнату и Нури-бей. Выходил в сад освежиться, опять возвращался в дом, беспрерывно курил, пил рюмку за рюмкой и бесился. То и дело глаза его устремлялись к лестнице наверх: черкешенка заперлась и к себе не пускает.
– Убирайся вон! – кричала она, стоило ему приблизиться к женской половине. – Ты опозорил себя! Ты мне не пара!
Эмине тоже не могла уснуть, стояла полураздетая у окна, заламывала белые руки и пыталась разглядеть в темноте греческие кварталы. Ей все еще виделись черные брови, борода, ручищи капитана Михалиса…
– Права, ой права! – стонал Нури-бей, и слезы катились у него из глаз. – Позор! Скоро стану таким, как этот придурок Эфендина. А этот гяур будет всякий раз звать меня на свои пирушки заместо шута.
Утром в комнату вошел арап – его повелитель, пьяный в стельку, спал, скрючившись, у порога. Борода, грудь, штаны были все в блевотине, вокруг валялись пустые бутылки и окурки…
А придурок Эфендина этой ночью спал, лежа на спине, и блаженно улыбался. Он получил приглашение на пирушку – значит, дней на восемь прочь заботы! Натрескается свиных отбивных и колбасы, накачается вином… Восемь дней и ночей без проклятой нищеты и без этих святынь, будь они тоже прокляты! Когда Нури-бей вспомнил о нем, ему как раз снился сладкий сон. Будто дверь отворилась, и в комнату вошел кабан, гладкий, откормленный, с турецкой феской на голове. А на шее у него, словно амулет, висел нож. И только этот кабан увидел Эфендину, так точно прирос к земле, поклонился, снял с шеи нож, вонзил себе в горло и рухнул на землю. Эфендина подошел и видит, что кабан-то, оказывается, зажарен, обложен лимонными листьями и страсть как вкусно пахнет! Эфендина от радости даже пробудился, рот был полон слюны.
В то время как внизу, на Земле, несчастные люди загорались желаниями и остывали, терзали и любили друг друга, небесный свод вращался по извечно заведенным законам, звезды передвигались с места на место, и вот из-за Ласифьотских вершин внезапно показалась и будто зазвенела в воздухе утренняя заря. Во дворе капитана Михалиса открыл круглые глаза огромный, со шпорами на ногах петух. Почуяв, что творится на небе, взмахнул крыльями, надул зоб и закукарекал. На другом конце улицы, перед домом зажиточного Красойоргиса, осел, с шумом вдохнув запах травы и критской ослицы, тоже задрал хвост и закричал.
Мегалокастро просыпалась. Из конца в конец, от источника Индоменеаса до пекарни Тулупанаса, отходил от сна квартал. Ревнивая кира Мастрападена отвязала своего мужа, святого человека, литейщика колоколов, от кровати, к которой привязывала его каждый вечер, чтобы он не спустился тайком на кухню – уж она-то знает этих мужчин! – да не пощупал там толстую служанку Анезину, у которой груди что у коровы вымя. Если, конечно, ему понадобится выйти ночью по нужде, она его отвяжет, но веревка все равно останется у него на ноге, и кира Мастрападена крепко держала ее за конец, чтоб муж ненароком не сбился с пути.
Капитан Поликсингис вернулся после любовных похождений совсем разбитый и надушенный мускусом. Кир Димитрос тоже поднялся с трудом, зевая: всю ночь его сорокапятилетняя жена Пенелопа не давала ему спать, ворочалась, сбрасывала простыни, что-то бормотала. Во сне ее бросало то в жар, то в холод. А под утро она вскочила, бросила косой взгляд на зевающего кира Димитроса, подошла к окну и оперлась грудью на подоконник, чтобы остудить пылающее жаром тело.
В небе развиднелось, под крышей попискивали птицы, из дома Красойоргиса, что напротив, им откликнулся черный дрозд в клетке.
– Катинице хорошо, – ворчала кира Пенелопа. – У Красойоргиса на все сил хватает – и на работу, и на мужские обязанности, не то, что у тебя!
Через улицу доносился до нее могучий храп… Это, лежа на спине в расстегнутой рубахе, храпел после крепкой попойки толстяк Красойоргис. Изо рта у него несло перегаром и луком. Молодая, пышнотелая Катиница, дочь Барбаянниса, сквозь сон улыбалась. Ей снилось, будто она, еще незамужняя, гуляет по саду об руку с женихом, а он обнимает ее за талию. И жених не толстый Красойоргис, а стройный, красивый юноша с молодцевато закрученными усами и длинной черной шевелюрой, из-за пояса торчит серебряный пистолет, и пахнет от него так сладко, вроде бы корицей. Красавец напоминал мужчину с портрета, которым она любовалась в доме у капитанши Катерины. Под ним стояла подпись: «Герой 1821 года Афанасиос Дьякос». И вот этот молодец держал ее за талию, когда сон обвивал Катиницу, как виноградная лоза с множеством иссиня-черных гроздьев…
И надо же было, чтобы на самом интересном месте ее сна заворочался рядом и с трудом продрал глаза Красойоргис.
– Ты чего это облизываешься? – спросил он. – Можно подумать, что ешь мед с орехами! Дай и мне отведать! – И потянулся к ней своими лапами.
Но жена, рассердившись, показала спину.
– Зачем разбудил?! Отстань, я спать хочу! – И закрыла глаза, надеясь опять свидеться с тем блестящим красавцем.
Из дымохода в пекарне Тулупанаса валил густой голубоватый дым. Старый пекарь проснулся, как всегда, в подавленном настроении, принялся молча хлопотать у печи – может, хоть в работе горе забудется! Да нет, как его забудешь? Был у Тулупанаса сын двадцати лет, русоволосый, стройный – глаз не отвести! Отец души в нем не чаял, ни в чем ему не отказывал, кормил и одевал как принца. Но года три назад лицо у парня вдруг опухло, покрылось чирьями, загноились кончики пальцев, слезли ногти. А теперь уж и губы стали гнить. Ясное дело, надо бы отвезти его в Мескинью, но у отца и матери сердце кровью обливается – как расстаться с единственным дитятей? Вот и держат его под замком, чтоб, не дай Бог, кто не увидел. Оттого старый Тулупанас и сон, и аппетит потерял, в глаза людям глядеть не хотелось. Оттого и в трудах пытался забыться: ни минуты на месте не посидит – то тесто месит, печет хлеб, бублики, пирожки со шпинатом, то ходит по улицам, продавая свой товар. Каждое утро заглядывает он к своему сыночку – на чудо надеется – и всякий раз замечает, что гниение телесное распространяется все больше и больше, а гной уже стекает на простыни, на пол.
Хлопочет Тулупанас у печи и тяжко вздыхает. Случайно взгляд его упал на улицу – там, в окне напротив, еще горит огонь, пекарь грустно покачал головой.
– Бедняжка, вот и тебе несладко! Видно, человеку на роду написано жить в муках…
В том окне всю ночь не сомкнула глаз несчастная больная француженка: ее терзал ужасный кашель. Врач Касапакис женился на ней в Париже и завез в эту турецкую глухомань, на край света. Поначалу она только вздыхала, потом начала кашлять, а теперь уж и харкает кровью. Муж ею давно тяготится: он спутался со служанкой, этакой деревенской кобылой.
– А где же та железная дорога, которая проходит под нашими окнами? – допытывалась у него француженка в первые дни. – Ведь ты мне говорил там, в Париже…
Врач смеялся в ответ:
– Здесь, в Мегалокастро, паровозами называют ослов!..
Капитан Михалис неподвижно стоял посреди двора и торопил рассвет. Наконец послышался долгожданный крик петуха: светало. Михалис встрепенулся, поднялся к себе, быстро оделся, туго замотал на поясе широкий кушак, сунул за него нож с черной рукояткой, достал банку оливкового масла, висевшую у киота, налил немного в затухающую лампаду и в который раз посмотрел на своего покровителя, архангела Михаила.
– Ну все, я пошел, – кивнул он архангелу на прощанье. – А ты тут без меня хорошенько стереги мой дом.
Он оседлал кобылу и поехал по улицам. По пути ему встретились низами с ключами от крепостных ворот. Почти все двери были еще заперты, но из труб то здесь, то там уже поднимался дым. На весь квартал слышался голос Барбаянниса, расхваливающего свой салеп – горячий, густой, с имбирем. Пришпорив кобылу, капитан Михалис быстро миновал Большой платан – виселицу для «неверных», объехал площадь, на миг остановился возле Трех арок. Горы стали розоветь.
Впереди – отвесная скала, именуемая Зловещей, за нею – Псилоритис, спокойный, с белоснежной вершиной, точно убеленный сединами старец. Справа – Юхтас, похожий на опрокинутую голову окаменевшего дракона. Вдали виднеется море, перекатывает зелено-голубые, с белыми гребешками волны. У самого горизонта маячат красные паруса – лодки мальтийских рыбаков. Вот из воды вынырнуло солнце, будто огненная вспышка. Ослепительный луч ударил в глаза кобыле, та отвернула морду, тряхнула гривой и заржала, словно приветствуя восход.
Подала сигнал труба, на мачте взметнулся турецкий флаг, со скрипом открылись крепостные ворота. Крестьяне из близлежащих деревень, с раннего утра ожидавшие за стенами, толпой устремились внутрь, давя и толкая друг друга. На ослах и мулах они везли дрова, уголь, бурдюки с вином и оливковым маслом, корзины, полные овощей и фруктов, бронзовые кувшины с медом. Чтобы попасть в город, надо пройти сквозь темный туннель в широкой венецианской стене. Под каменным сводом в кромешной тьме смешивались крики, ругань, рев и топот животных – все это диким пугающим гулом вырывалось из мрачного каменного зева.
Капитан Михалис пробился сквозь бурлящий людской поток, выехал за ворота, спустился к морю, оставив Мегалокастро позади, и двинулся по берегу в направлении Зловещей. Справа благоухала зелень полей, слева плескалось море. Солнце поднялось высоко, заиграло золотым медальоном на груди лошади.
– Во имя Христа и архангела Михаила! – воскликнул капитан Михалис и, оборотившись на восток, перекрестился.
Солнце залило Мегалокастро. Сначала его лучи упали на минареты, затем на голубой купол святого Мины, на крыши домов. А спустя некоторое время заглянули и в узкие сырые улочки. Девушки распахивали окна, старухи выходили во двор погреться. Они крестились, славя Бога за то, что миновал, наконец, сожрав последние поленья, март, такой безжалостный к старухам. И еще за то, что их старые кости погреются теперь на солнышке. Да будут благословенны апрель и святой Георгий!
Из ворот на приволье повыбежали, задрав хвосты, резвые, веселые критские ослики. Казалось, своим ревом они хотят сообщить всему миру о приходе весны.
Кира Пенелопа вышла во двор, зевнула во весь рот, даже челюсти хрустнули. У этой женщины был двойной подбородок, широкий зад и волчий аппетит. Весь день она обхаживала, обстирывала, кормила и чистила, словно коня, своего мужа, кира Димитроса, а по ночам не давала ему спать. Детей у них не было, поэтому Пенелопа свою материнскую нежность перенесла на кошек, канареек и прочую живность. Нынче утром она вдруг почувствовала странное томление во всем теле, ей, как и осликам, захотелось на волю – побегать, порезвиться. Позвать всех товарок – и киру Катерину, и Катиницу, жену Красойоргиса, и киру Мастрападену, и француженку – да пойти в поля, под теплое весеннее солнышко! Грех в такой день сидеть в четырех стенах. Она на скорую руку приготовила обед и послала служанку к капитанше.
– Хозяйка моя, кира Пенелопа, передает вам привет и приглашает прогуляться вместе по полям – вон благодать какая!
Но до того ли сейчас кире Катерине! Ей надо готовиться к завтрашней пирушке. С самого утра она занялась курами – одну варила, другую фаршировала кедровыми орешками, третью запекала в тесте.
– Передай хозяйке, что не могу я сегодня, пусть не обижается. Коли будет охота, пускай приходит вечером с шитьем: соберутся соседки, Али-ага придет, поболтаем. Да скажи, чтоб не боялась: капитана дома не будет.
Кира Пенелопа надулась, послала служанку по другим домам: к Мастрападене, Катинице, к сестре капитана Поликсингиса. Но одна пригласила священника Манолиса святить дом, у другой болела голова, третья тесто месила на просфоры к вечерне, к тому же у нее ноги распухли – не ходят.
– А, чтоб вас всех, рыбья кровь! – выругалась кира Пенелопа. – Для чего глаза им дадены, ежели они на свет Божий и глядеть не хотят? Вот что, Марульо, ступай-ка к лекарше Маселе, эта непременно придет. Она хоть и француженка, но понимает, что такое весна.
Француженку звали не Масела, а Марсель, но кира Пенелопа перекрестила ее в Маселу – так легче выговорить. Поэтому и мы будем называть ее так, раз уж она вышла за критянина. Пенелопа очень забавлялась, когда та рассказывала ей на ломаном греческом о каком-то огромном, даже больше Мегалокастро, городе, который называется Париж. Через весь город протекает широкая река, а женщины ходят в кофейни наравне с мужчинами, и ноги у них открыты выше щиколоток. Все это походило на сказку, но несчастная француженка так увлеченно рассказывала, что, видно, сама верила своим выдумкам, у нее даже слезы наворачивались. Ну и пусть себе выдумывает, жизнь-то у нее не сахар с таким распутником – тьфу, прости, Господи! Нет, надо обязательно вытащить бедняжку из дому, сходили бы в поле, к родникам, к церкви Святой Ирини – хоть немного развеется…
Но Марульо и на этот раз вернулась ни с чем.
– Не пойдет – говорит, больна. Все ночи напролет не спит – кашляет. Просила, чтоб вы не сердились.
Кира Пенелопа снова разразилась проклятьями. Потом перебрала в уме всех соседок. Может, Коливакену позвать? Ну, нет! У нее муж – могильщик, да и сама она с придурью: как начнет говорить про привидения да покойников, которые во сне являются. И правильно делают! Это наказание за то, что муж ее раздевает мертвецов и одежду берет себе, жене да детишкам, а покойнички лежат голые в сырой земле и зубами клацают. Нет, Боже упаси иметь дело с Коливакеной! Разве что послать Марульо к этой белоручке Архондуле?.. Куда там, их милость нипочем не пойдет гулять с женой торговца! Ее отец, видите ли, служил драгоманом в Константинополе и, говорят, играл в карты с самим патриархом, а теперь, после смерти отца, она каждый год получает от патриархата пенсию – мешок золотых, – еще бы не кататься как сыр в масле! А, Бог с ней совсем! Пускай гуляет с митрополитом да пашой! Смолоду нос задирала, так вековухой и осталась. Кому такая нужна? И поделом ей да ее глухонемому братцу! Говорят, однажды в Константинополе повесили христианина за то, что убил он турка, а ихний папаша-драгоман знал, что не христианин его убил, а какой-то бей, но промолчал, трус, за то и родились у него сын немой и дочка никуда не годная. Да пусть бы эта Архондула умолять ее стала с ней прогуляться – она сама не пойдет!
Кира Пенелопа переключилась на других соседок. У Вангельо забот полон рот: на Пасху ее свадьба с учителем. Тоже счастье привалило! На кой ей сдался этот Сиезасыр? Дохляк, коротышка, к тому же в очках… А с другой стороны, куда ей деваться? От этакой нищеты за козла пойдешь. Братец-то ее все родительские денежки промотал, дома шаром покати, а он в золотых часах щеголяет!
Так, перемыв всем косточки, кира Пенелопа приняла, наконец, решение. Нарвала она виноградных листьев, завернула в них еду, сложила в корзину хлеб, маслины, несколько апельсинов, фляжку вина, кофе, сахар, вилки, ножи, полотенце, керосинку и вышла во двор.
– Пошли, Марульо, без них обойдемся, – сказала она служанке.
Они заперли ворота и вдвоем направились к гавани. Кира Пенелопа немного стеснялась своего могучего зада: раскачивается во все стороны, словно у черных курдючных овец, недавно завезенных на Крит. А что поделаешь, ведь все от Бога, успокаивала она себя, хорошо хоть ноги не опухают, как у киры Хрисанфи Поликсингопулы. Нет, я еще женщина хоть куда! Такую пойди поищи, пожалуй, на десятерых мужиков хватит. Недаром меня здесь прозвали винной бочкой!
Кира Пенелопа, переваливаясь как утка, ковыляла по широкой улице. Народу пруд пруди: купцы, ремесленники, крестьяне – и все кричат, ругаются… А уж какие у здешних жителей тупые, ослиные морды! Она презрительно поджала губы. Сама-то она не местная, из Ретимно, и очень гордится этим. Как народ из Ханьи славится своими оружейниками, а ретимнийцы – культурой, так обитатели Мегалокастро – знаменитые на весь свет болваны и пьяницы. Каждый вечер как засядут по тавернам – и напиваются, закусывая сушеной скумбрией и шашлыком. Ох и несет же от них под утро! Иное дело – ретимнийцы с их неторопливой поступью, благородными манерами, обходительностью! Муж у нее хотя и здешний, но изо всех выделяется: солидный человек, непьющий, одно плохо – по мужскому делу слабоват. Чего она только не придумывает каждую ночь, чтоб расшевелить его, – все напрасно… Нет, и он ретимнийцам в подметки не годится!
Кира Пенелопа вздохнула, ускорила шаг. Вот и гавань. Ну, ясное дело, опять он сидит и мух гоняет. Только на это и способен!
Но кир Димитрос с утра устал уже махать мухобойкой и теперь листал большую амбарную книгу, куда записывал все съеденные за день блюда. Красными чернилами – мясные, фиолетовыми – все остальные. Так он был увлечен своим занятием, будто сам смаковал все эти яства, даже слюнки текли… Он уже дошел до последних страниц, читал по слогам, медленно, со вкусом, будто пережевывал. «Года тысяча восемьсот восемьдесят девятого, марта месяца, двадцатого дня: зеленые бобы с артишоками и зеленым луком в оливковом масле». Вкуснотища! «Дня двадцать первого: кабачки тушеные с чесноком». Недоглядел проклятый повар – подгорели.
В таверну вошла девушка.
– Кир Димитрос, меня моя хозяйка послала, кира Христофакена. Отпустите пять драми[30] хиосской мастики на варенье.
Киру Димитросу лень было пошевелиться. Он с трудом оторвал глаза от регистрационной книги и возвел их к верхним полкам.
– Понятно, понятно, милая, но ведь она во-он где, на самом верху!
Это «во-он» он тянул так долго, будто мастика и в самом деле находилась на небесах.
Девушка ушла ни с чем, а кир Димитрос опять склонился над книгой: «Марта месяца, дня двадцать пятого, на Благовещенье: отварная треска с лимоном, треска с петрушкой, жаркое из рыбы, жареная треска с чесночным соусом; салат из огурцов». Ах, как вкусно!
Наконец и это занятие ему наскучило. Он опять взялся за мухобойку и вздохнул. «До чего же я докатился – я, сын прославленного капитана Пицоколоса! Дед держал брандер и поджигал турецкие фрегаты! Отец тоже бил турок, всю жизнь не выпускал из рук винтовку. А я вот на мух охочусь», – раздраженно думал кир Димитрос, поднося к своей добродушной одутловатой физиономии кукиш. От воспоминаний о своих храбрых предках киру Димитросу стало тесно в убогой таверне и захотелось, упершись руками в стены, подобно Самсону, повалить их разом, чтобы в мире стало просторней, и свежий ветер развеял его тоску.
Но как раз в тот миг, когда ему представилось, что он сокрушает стены и выходит на свет Божий, в таверне вдруг сделалось совсем темно. Это, отдуваясь, на пороге выросла его супруга – высокая, мощная, словно крепостная башня. Кир Димитрос сразу сник. Опять пришла по мою душу, ночи ей мало, с досадой подумал он. И откуда она только силы берет! Керосину ей, что ли, в задницу налили? Будь они неладны, эти ретимнийки!
– Милости просим, заходи! – сказал он громко и снова с излишней поспешностью открыл амбарную книгу, делая вид, будто ужасно занят.
– Вставай, Димитрос! – трубным голосом воззвала жена. – Вставай, муженек, пойдем в поле – проветришься, кости погреешь! А то скоро вовсе рассыплешься в этой пылище. Давай-давай, шевелись! Я прихватила с собой кое-что тебе полакомиться… – Она наклонилась и прогудела ему в самое ухо, – голубцы из баклажанов с перчиком… Объеденье! Да еще на свежем воздухе, на травке!..
– Не пойду! Не пойду! – испуганно завопил кир Димитрос и обеими руками вцепился в стойку.
– Пойдем, Димитраки, сделай милость! Да не бойся, не трону!
Но бедняга принялся отчаянно махать мухобойкой, словно отгоняя огромную мясную муху.
– Не пойду! У меня сегодня столько работы, разве не видишь? Я проверяю счета, подвожу баланс – сколько я задолжал, сколько мне задолжали… Как же без этого торговать? Прошу тебя, иди одна!
– Ладно, пошли, Марульо! – Кира Пенелопа в сердцах дернула служанку за рукав. – Будешь мне и вместо товарки, и вместо мужа!
Показав киру Димитросу свой необъятный зад, его половина выплыла из таверны и потащилась обратно домой.
– Будь проклята такая жизнь, – ворчала она по дороге. – И дал же мне Господь в мужья эту трухлявую колоду! Мне бы настоящего мужика, который и поесть вкусно любит, и выпить не дурак, и жену не обидит. Народили б уже дюжину детишек, и у меня бы на сердце было спокойно. Но кабы жила я в Ретимно, среди порядочных людей, а от этих ослов и ждать нечего!
Кира Пенелопа все больше распалялась, к тому же у нее живот подвело от голода. А солнце тем временем поднялось высоко, дразнящие запахи весенних трав щекотали ноздри.
Взопревшая Марульо понуро плелась за хозяйкой с корзиной в руках. Скособоченные тапочки то и дело спадали с ног, в конце концов она их сняла, положила в корзину, прямо на голубцы, и пошла босиком.
Около церкви Святого Мины кира Пенелопа стала как вкопанная и перекрестилась.
– Святой Мина, тебе ведомо, о чем я молюсь денно и нощно, так пособи же!
Зазвонил колокол, послышались голоса и смех: по узкой улочке мчались школяры, опаздывая на урок. У киры Пенелопы защемило сердце при виде этой веселой стайки.
– Э-эх, – вздохнула она, – вот бы все эти детки были моими! От кого угодно, хоть и не от Димитроса, прости, Господи, меня, грешную!
Она размечталась о здоровом, красивом производителе (сколько таких встречалось ей и в жизни, и в грезах!), с которым могла бы прижить кучу детей. Вон покойная жена Барбаянниса от кого только не рожала! Один Бог знает, кто отец ее соседки Катиницы, супруги Красойоргиса. А Барбаяннис, хотя и слаб на глаза, все ж таки увидел, что ему рога наставляют, даже щупал их руками, а что поделаешь? Однажды свалил его тяжкий недуг, помирать уж было собрался и зовет жену.
– Скажи, ради Христа: наши дети все от меня?
Но та будто воды в рот набрала.
– Ну скажи, не бойся, видишь, ведь я помираю!
– А ну как не умрешь? – ответила эта бесстыжая.
Вспомнив тот случай, кира Пенелопа улыбнулась и отошла в сторону, уступая дорогу школярам. В одном из них она узнала Трасаки, сына капитанши.
– Трасаки! Эй, Трасаки! – окликнула она, вытаскивая из корзины апельсин, чтобы угостить мальчишку.
Но Трасаки не слышал, не до того ему было. Обняв за плечи приятелей – Манольоса Мастрапаса и Адрикоса Красойоргиса, – он что-то увлеченно им нашептывал, а те хохотали во все горло. Это он вчера в классе насыпал у порога дроби. Учитель Сиезасыр, дядя его, как раз разучивал с ними новую песню, чтобы спеть хором на воскресной прогулке за город: «Опять весна пришла, опять цветы цветут!» Ученики принялись вопить ее на разные голоса, и Сиезасыр, вдохновенно дирижируя указкой, старался перекричать этот нестройный хор.
– Вот что, дети, пойдемте во двор порепетируем. А то, как бы нам не опозориться послезавтра. Пошли!
И торжественно направился к выходу, но у порога поскользнулся на дроби и рухнул мешком на пол, даже очки разбились вдребезги.
– Как думаешь, переломал он себе ребра? – обеспокоенно спросил Андрикос.
– Ну конечно! – заверил его Трасаки. – Ты что, не слышал, как он хряпнулся? Наверняка переломал.
– А слыхали, как он запищал: «Ой-ой-ой!»? – спросил Манольос, возбужденно потирая ладони. – Бьюсь об заклад, он переломал себе все ребра, потому и встать не мог. Только стонал и шарил руками по полу – гляделки свои искал.
– Значит, прогулка нам не грозит. А теперь сделаем, как сговорились, идет?
– Идет! Идет! – закричали товарищи.
Мимо пробежала собака; сорванцы, схватив по пригоршне камней, помчались следом. Но близ церкви Святого Мины их остановили вопли и ругань.
– Небось старая Хамиде Эфендину колотит, – догадался Трасаки. – Поглядим?
Мальчишки на цыпочках приблизились к решетчатой ограде. Им открылся просторный двор, заросший травой. Посреди двора высилась могила святого, украшенная разноцветными полосами ткани. Рядом стояла растрепанная босая старуха с крючковатым носом. Одной рукой она держала за горло своего сына, а в другой у нее были вилы, старуха грозно ими потрясала.
– Неверный пес, покарай тебя Аллах! Опять собрался к грекам, чтобы они накормили его свининой и опоили вином! Запорю до смерти!
Эфендина изо всех сил вырывался из лап матушки и орал благим матом.
– Не пойдешь! – бушевала старуха, вцепившись в него мертвой хваткой. – Не пущу! Или ты не понимаешь, какой это позор – идти туда! Ведь сам всякий раз, как протрезвеешь, катаешься, бьешь себя в грудь, срываешь чалму, мажешь лысину навозом и ходишь так по улицам, ревешь как ишак! А греки, знай, потешаются, мусором в тебя бросают. Хоть бы праха святого своего прадедушки постыдился! – Старуха указывала на могилу, украшенную разноцветными полосами.
– Я днем и ночью о нем думаю! – Эфендина воздел руки к небу. – Клянусь, мама, все время думаю о нем!
– Зачем тогда себя оскверняешь?
– Да затем, чтобы стать святым, как мой прадед! Не согрешив, святым не станешь. Если б я не грешил, то и не каялся бы, не взывал бы к Аллаху, не показывал бы людям лысину. Понятно тебе?
У старой Хамиде даже челюсть отвисла. Вдруг и впрямь истина глаголет устами ее придурковатого сына? Ведь говорили старики, что дед ее всю жизнь был последним проходимцем, и только когда вдоволь насладился мясом, вином, женщинами, когда из него уже труха стала сыпаться, ударился он в святость, залез на минарет да и так больше оттуда и не спустился. Ни еды, ни питья не принимал, лишь плакал, бил себя в грудь и взывал к Аллаху. Семь дней и семь ночей сидел он там, а на восьмой вдруг истошно завопил, так что вздрогнула вся Мегалокастро, и в небе появилась огромная стая ворон. Внял Аллах мольбам человека и послал воронье, чтобы прекратили его мучения… Что, если именно такой путь ведет к святости?
Хамиде уже не знала, то ли продолжать колотить беспутного сына, то ли оставить его в покое, присесть где-нибудь в уголке да прогреть на солнышке старые свои кости. Наконец она бросила вилы прямо на усыпальницу святого и отпустила Эфендину.
– Пропади ты пропадом! Делай как знаешь! Жри, пей, хоть лопни. А потом мажь себе лысину навозом. – Сказала и лениво поплелась в глубь двора.
– Жаль, до настоящей драки не дошло, – сказал Андрикос.
– Ничего, отец завтра задаст ему жару, – утешил приятеля Трасаки. – Ну все, пошли! А завтра, как солнце сядет, будьте готовы. Я зайду за вами. Захватите рогатки, а я возьму веревку!
– А я – палку, – сказал Андрикос.
– А я – кол, – прибавил Манольос.
– Давайте Николаса Фурогатоса с собой возьмем. Он сильный.
– Это ладно. – Манольос вдруг остановился. – А ну как ее отец нас застукает?
– Подумаешь! – отмахнулся Трасаки. – Что он нам сделает? Он же не нашенский, а из Сироса. Руки коротки!
– А мы сможем ее поднять? – засомневался Андрикос. – Ведь не меньше центнера потянет! Да еще, поди, кричать начнет…
Трасаки сдвинул брови.
– Вот что я тебе скажу, Андрикос: в таких делах нужна смелость. У тебя ее нет, тогда уходи, другого найдем.
– Это у меня-то смелости нет?! – обиженно вскинулся Андрикос. – Да у меня ее хоть отбавляй!
– Завтра увидим, – ответил Трасаки и прибавил шагу.
Подошли к школе.
– Только помните: могила! – приказал Трасаки. – Кто, хоть словом, обмолвится, лучше пусть не показывается мне на глаза. У отца завтра пирушка, стало быть, меня никто не хватится. А вы тоже смоетесь из дома. Скажете, мол, к вечерне идем. Матери еще и денег дадут – на свечу да на жареный горошек.
– Это ее, что ль, приманить?
– Еще чего! – фыркнул Трасаки. – Сами полакомимся!
Тем временем капитан Михалис, надвинув платок на брови, проезжал мимо Зловещей скалы. Слева плескалось море, справа каменной стеной вставала проклятая людьми гранитная глыба. Всякий христианин, проходя мимо, крестился и взывал об отмщении, ведь в каждой трещине тут тлеют кости замученных турками земляков.
Капитан Михалис тоже осенил себя крестным знамением. Десять лет прошло с тех пор, как у подножия этой скалы был убит его брат Христофис с двумя сыновьями. Сперва никто не знал, куда они сгинули, и лишь много дней спустя в обрыве, над которым кружилось тучами воронье, нашли три трупа с отрезанными языками. Так наказали их турки за то, что за полночь отец и сыновья возвращались навеселе домой с крестин Трасаки. Взглянули, видно, на море, душа в них взыграла, вот и затянули песню о Московите. Да напоролись на турок.
– Сколько уж веков ты тщетно взываешь о помощи, Богом забытый остров! – воскликнул капитан Михалис и тронул поводья. – Ни от кого нет тебе защиты – ни от Всевышнего, ни от сильных мира сего. Сам берись за оружие. Хватит надеяться на чудо да на Московита!
Глубоко вздохнув, капитан Михалис стал удаляться от моря в горы. Глаза его затуманились, ноздри жадно вдыхали свежий горный воздух. Скалы Крита весною пахнут чабрецом и шалфеем.
– До чего ж ты прекрасен, мой Крит! – снова вырвалось у него. – Эх, зачем я не орел, а то любовался бы тобой из поднебесья!
И правда, с высоты остров предстал бы, наверно, еще более прекрасным и величавым: опаленные солнцем вершины устремляются ввысь, а берег сверкает то белизной песка, то багровеет, крутой и обрывистый, будто облитый кровью. Среди темных гранитных скал в глубоких ущельях притаились тихие деревеньки, монастыри, одинокие часовенки. А как красивы три города с их венецианскими крепостными стенами – Ханья, Ретимно, Мегалокастро! Да только истерзана, взята в полон эта красота! Сам Господь Бог мог бы любоваться Критом с орлиной высоты, если б много веков назад не предал его забвению и не отдал на поругание нехристям, превратившим церкви в мечети.
Правда, далеко не все критяне смирились с жестоким приговором Всевышнего. То и дело брался народ за оружие, чтоб сбросить ненавистное ярмо. До сих пор живет в нем вера, что услышит его Владыка небесный, отложит другие дела и исправит сотворенную несправедливость. Может, кто-то и ждет Божьей милости со слезами и смирением, а критянин не таков: он, чтобы услышал его Господь, палит из винтовки прямо у того над ухом. Взбешенный султан насылает на мятежников всякую нечисть – пашей, низами с кольями, саблями да виселицами. А в подмогу им европейцы снаряжают бронированные корабли против борющейся со смертью утлой лодочки, затерянной в море между Европой, Азией и Африкой. Даже мать Греция молит критян сохранять терпение и спокойствие, опасаясь, что они потопят ее в крови. «Свобода или смерть!» – отвечает гордый Крит и колотит прикладом в небесные врата. Прежде восстания вспыхивали с каждым новым поколением, а теперь, после Великого восстания, гнев и вовсе застит глаза народу: не желают люди терпеть да выжидать и при каждом удобном случае бросаются на кровожадного зверя, не сознавая, что терзают собственное тело, сжигают свои деревни, оливковые рощи и виноградники, своими трупами усеивают землю Крита. А израненный остров по-прежнему задыхается в неволе – взлетает на воздух вместе с монастырем в Аркади в шестьдесят шестом году, вновь поднимается в семьдесят восьмом и опять терпит поражение. Сейчас идет восемьдесят девятый, христиане в деревнях снова зашевелились: все чаще потирая руки, обращают они взоры на север, к Греции, а то и еще дальше – к России. В который уж раз не дает им покоя голос предков. Тесно, невмоготу становится сидеть по домам, и потому собираются они вместе да просят учителя, священника или местного музыканта сыграть и спеть им о муках Крита, разжигая в сердце ярость и решимость. А с каждой новой весной быстрее струится по жилам кровь, побуждая к действию. Но турок тоже не дремлет, рассылает фирманы и войска, чтобы усмирить бунтовщиков.
Вскипала кровь и у капитана Михалиса. Он пришпорил кобылу и, объехав Зловещую, приблизился к городу Русес, стоящему на красноземе. Захотелось есть. И он завернул на постоялый двор, который держала богатая вдова, любительница повеселиться и большая охотница до мужского пола. Завидев его, она выбежала навстречу, пышнотелая, неопрятная, да еще и луком от нее разит. Капитан Михалис досадливо сморщился и отвернулся: он терпеть не мог распутных баб.
– Добро пожаловать, уважаемый капитан Михалис! Сколько лет, сколько зим! – закудахтала вдова. – Коли не постишься, то могу угостить тушеным зайцем с зеленым лучком и тмином.
И наклонилась, подвигая гостю скамейку. В вырезе сорочки призывно заколыхалась покрытая пушком загорелая грудь.
– Поешь, капитан Михалис, ты же путник – большого греха тут нет. – Вдова лукаво ему подмигнула.
Капитан Михалис рассвирепел. Ему были противны и эта женщина, и он сам, и даже мысль о еде вдруг опротивела.
– Ничего мне не надо! Я не голоден! – отрубил он и, вскочив на коня, помчался галопом.
Горы остались в стороне. Дорога терялась теперь в нежной зелени полей. Вокруг гудели пчелы, доверчиво щебетали птицы, вернувшиеся в свои прошлогодние гнезда. Сегодня, в первый день апреля, остров будто лучился счастьем… Но капитан Михалис ничего этого не замечал. Куда его понесло в такую рань? За кем гонится? А может, сам убегает от погони? Туча, застлавшая глаза, точно омрачила залитый солнцем берег. Дорога вилась перед ним, и окутанные утренним туманом Ласифьотские горы издалека напоминали медленно клубящийся дым. Двое пожилых крестьян на осликах, приложив руки к груди, поприветствовали его:
– Дай Бог тебе здоровья, капитан Михалис!
Но он не ответил на их приветствие. Мыслями он был уже у ограды Нури-бея и примерялся, как преодолеть ее, как проникнуть в сад. Ну влезет, а что дальше?..
Капли пота выступили у него на лбу. Он сунул руку за кушак и нащупал рукоять кинжала.
– Правду сказал собака! – прошептал он. – Один из нас лишний на этом свете!
Но когда капитан Михалис сжимал рукоятку кинжала, мысленно перепрыгивал через высокий забор и пробирался через сад, между горшков с цветами, к дому с решетчатыми окнами, за которыми еще горел красно-зеленый фонарь, ему внезапно почудился звонкий смех из верхнего окна. И тогда уже пот градом покатился у Михалиса со лба на шею, а затем по всему телу. Он опомнился: ведь он едет не затем, чтобы убивать. Какой-то бес овладел им, коварный, незваный, непохожий на свою родню, – он бесстыже улыбается, от него исходит аромат мускуса, а лицо… Боже, какой позор! Лицо у него женское!
– И не стыдно тебе, капитан Михалис! – сердито сказал он себе. – Вот до чего ты докатился!
Ему показалось, что все предки выходят из могил, чтобы осыпать его проклятьями. Он безумно огляделся по сторонам и стиснул кулаки.
– Ступайте обратно в землю! Пока я здесь хозяин!
Он отер лоб и словно очнулся. Увидел могучие горы, море. Земля больше не гудела под ногами. Наконец он вспомнил, зачем и куда направляется. Вчера вечером он дал бею слово и должен его сдержать.
Много лет назад судьба забросила в деревушку Ай-Яннис его брата Манусакаса. Он поставил дом в центре деревни, обжился, пустил корни. Теперь у него подросли сыновья и дочери, дождался он и первого внука, но до сих пор помнит тот день – 14 сентября 1866 года, – когда со своими бойцами преследовал турок. Кажется, будто вчера это было. Зашли они в Ай-Яннис. В одном из домов встретил Манусакас молодую женщину, она рыдала, рвала на себе волосы. Оказывается, перед самым приходом их отряда налетели турки и зарезали ее мужа (они только-только свадьбу сыграли) прямо у нее на глазах. Куда же Бог смотрит? Неужто встал на сторону турок?
Манусакасу шел четвертый десяток, два года назад он овдовел. Молодая женщина сразу ему приглянулась, потому он решил расположиться со своим отрядом на этом подворье. Вдова как увидела его, так даже перепугалась: заросший, небритый, весь пропах порохом.
– Пресвятая Богородица! – вскрикнула она и закрыла лицо передником.
Манусакас подошел к ней и заговорил тихо и ласково:
– Поплачь, хозяюшка, поплачь. Выплачешься – легче станет. И я вот по милости поганых турок вдовцом остался. Все слезы выплакал.
Он присел возле нее на корточки, смотрел, как она убивается, и не мог понять, что с ним творится. Отчаянно хотелось обнять эту сломленную горем женщину, страстно прижать к груди! Никогда еще Манусакас не испытывал ничего подобного. И в то же время робел перед ней: только и осмелился положить ей на плечо дрожащую руку.
– Ну будет, полно! Так и глаза испортить недолго, а мне, ей-богу, жаль таких красивых глаз. Ты не подумай, я не какой-нибудь вертопрах. Не буду хвастать, но спроси кого хочешь от Кисамоса до Ситии, и всяк тебе скажет, кто такой капитан Манусакас!
Он внезапно умолк. Боялся неосторожно брошенным словом испугать, обидеть женщину. Но уйти отсюда тоже не было сил. Манусакас придвинулся поближе, наклонился к ней и успокаивающим голосом стал рассказывать о том, что видел и пережил за время восстания. Много женщин овдовело, много детишек осталось сиротами, слезы и кровь по всему Криту льются, и нет конца-краю этой реке. Так что грех думать только о своем горе и забывать о муках Родины!
Женщина при этих словах подняла голову. Вытерла слезы, вздохнула и тоже начала рассказывать. Поведала о гибели мужа, показала кровь, засохшую на пороге, – она не хочет ее смывать, чтобы вечно помнить о муже и оплакивать его.
А Манусакас, как бы невзначай касаясь то ее плеча, то волос, то колена, приговаривал:
– Правильно, хозяюшка, правильно! Я тоже так думал после смерти жены. Убили ее, сердечную, во дворе у нас за то, что муж у нее бунтарь, – мне, одним словом, в отместку. Весь двор кровью залили, и думал я, что буду глядеть на эту кровь вечно, но дожди смыли ее, и камни снова стали белыми… – Он тоже вздохнул. – Вот так, хозяюшка, и с душой человеческой: время смоет кровь, залечит раны, и все понемногу забудется…
Женщина аж содрогнулась, услышав это, а Манусакас снял с плеча свою пропотевшую бурку и набросил на нее.
– Холодно… Простудишься.
Женщина сжалась в комок и вся вспыхнула. Ей показалось, что не бурка обнимает ее плечи, а чужой мужчина. Хотела было сбросить, да как обидишь гостя!.. Поэтому она только поежилась, не сказала ни слова. Поначалу со страхом, а затем с невольным трепетом она ощущала, как тепло мужского тела постепенно вливается в нее. Вспомнился муж, их первая брачная ночь, горячие объятья, жадные руки… Согревшись под буркой, она и правда немного успокоилась. Прерывистое дыхание сидящего рядом мужчины неожиданно вызвало в душе жалость и сочувствие.
– Нечем мне тебя угостить, – произнесла она. – Разбойники эти весь дом обчистили. А ты небось голодный, с войны идешь.
– Не голодный я, Бог с тобой! Да и как можно думать о еде, когда тут такое горе! Разве что соберешься с духом, и подкрепимся вместе. – Он сам смутился от двусмысленности своих слов, кашлянул, со страхом взглянул на нее, не зная, чем загладить неловкость. – Не сердись, поверь, я не в обиду тебе сказал. Хотелось утешить, да, видно, не найти мне таких слов…
Он опять вздохнул. Потянулся было за кисетом, но раздумал. Вдова подняла на него мокрые от слез глаза под длинными ресницами. Теперь уже и она ждала его слов, не решаясь самой себе в этом признаться.
– Стыд сковал мой язык, – продолжал Манусакас, – но и молчать не могу. Как на духу тебе скажу, уж не взыщи. Коли лгу, пусть Бог меня покарает. Как вошел я в твой дом, увидел твои слезы – будто нож мне вонзили в сердце. Чую: пропал! За всю жизнь не доводилось видеть такую красоту! Да не пугайся ты, я же не разбойник, намерения у меня серьезные. Муж твой погиб, никакими слезами его не вернешь, моей жене, царство ей небесное, тоже возврата нет. А раз мы одни на всем свете, то почему бы не жить нам вместе?
Вдова вскрикнула, задрожала всем телом, забилась в угол. Манусакас отошел к двери – пускай немного опомнится, отойдет. Он выглянул во двор на своих бойцов. Те развязали котомки и, усевшись на траве, закусывали. Взгляд Манусакаса скользнул дальше, к плодородным полям, к сгибающимся под тяжестью плодов оливковым деревьям. На холмах, поскрипывая, мирно крутились ветряные мельницы…
Вот здесь я и осяду, с уверенностью подумал он. Земля тут добрая, богатая. Да и вдова по сердцу мне пришлась. Народит мне здоровых, красивых детей. Клянусь Богом, никуда я отсюда не двинусь.
Он повернулся к женщине. Она пригладила волосы, слезы на щеках высохли. А теплую бурку так и не сбросила с плеч.
– Вот что, капитан Манусакас, – твердо проговорила она, – слова твои не делают тебе чести. Даже если ты и правду сказал, все равно это великий грех. Ведь кровь моего мужа еще алеет на пороге!
Манусакас вздохнул, прошелся по комнате.
– Да я же ничего у тебя и не прошу. Разве что кусок хлеба да глоток вина! И еще, не побрезгуй, хозяйка, пришей мне пуговицу на рубахе – в бою потерял…
Вдова молча встала, нашла иголку, вдела нитку. Манусакас опустился перед нею на колени, и она принялась пришивать пуговицу, чувствуя, как колотится у него сердце под рубахой.
Она торопливо пришила пуговицу и поднялась. Открыла сундук (кое-что турки все же оставили), достала белоснежную скатерть, застелила стол, и в доме будто сразу светлее стало. Прошла на кухню, разожгла огонь. Манусакас скрутил, наконец, цигарку, закурил и сел на лавку у порога, как будто хозяин. Исподтишка он глядел, как хлопочет по дому молодая женщина, как умело подгребает уголь, ловко готовит пищу, расставляет на столе посуду. Глядел – и душа радовалась. Никогда еще с таким удовольствием не ждал он обеда. И все потому, что уже знал, был уверен: эта молодая сильная женщина вскоре (когда пройдет положенный срок после похорон мужа) будет делить с ним до гробовой доски не только пищу, но и постель.
Так женился Манусакас на Христине и пустил корни в той деревне. Христина не обманула его ожиданий: почти каждый год рожала по двойне, так что в доме стало шумно, как в улье. А вот недавно появился у них и первый внук. На радостях Манусакас так напился, что, взвалив на плечи осла, понес его в мечеть – дескать, пусть помолится Аллаху.
– Ну что тут такого? – рассуждал вслух капитан Михалис. – Я бы, наверно, еще и не то учинил. Однако, давши слово, держись. Я должен отчитать его. Хоть он и старше меня, но я же как-никак капитан!
На склоне горы показалось их родное село Петрокефало. А дальше, в ложбине, утопала в зелени деревня Ай-Яннис. Капитан Михалис пришпорил кобылу, она заржала и рванулась вперед.
Ворота во дворе Манусакаса были распахнуты. Пригнув голову, капитан Михалис проехал под ними.
– Эй, Манусакас!
Вся семья обедала за огромным столом. Манусакас восседал во главе; на стене прямо над ним висела плетка. Напротив сидела супруга, раздобревшая, довольная. Христина, конечно, расплылась, да и грудь отвисла – поди выкорми такую ораву! – но лицо у нее было совсем еще молодое, свежее, словно роза.
Услышав голос брата, Манусакас вскочил и вышел во двор.
– Заходи, брат! – Он улыбнулся, протянул ручищу. – Как раз к обеду поспел. Слезай, заходи!
– Я спешу, – ответил капитан Михалис. – Прикрой-ка дверь, разговор у меня к тебе.
– Да ну? Хорошие новости привез иль плохие?
– А это уж как ты посмотришь.
Манусакас прикрыл дверь, чтобы большая его семья не услышала разговора, и вопросительно взглянул на брата.
– Вот что я тебе скажу, брат Манусакас: не умеешь пить, так не пей!
Манусакас нахмурился.
– Это ты к чему?
– Да и ослов Господь не для того создал, чтоб они на людях ездили, а как раз наоборот. Ясно теперь, к чему?
– Ясно. Побратима твоего, Нури-бея, обидел, так? Может, мне у него прощенья попросить, а, Михалис?
– Не мели языком, знаешь ведь: я этого не люблю. Да только пойми: твои выходки пьяные наносят вред нашему делу. Еще не приспело время поднимать знамена!
– Ах так! – вспылил Манусакас. – А ты, значит, когда напьешься да горланишь песни про Московита, или ходишь по турецким кофейням, или забрасываешь беев на крышу, то все во благо христианам делаешь? Сперва на себя погляди, а потом уж езди да поучай других. Ну, что молчишь? Правда глаза колет?
Капитан Михалис смутился. Что тут возразишь? Конечно, и сам он, когда напивается, не рассуждает, что на пользу христианам, а что во вред. Ему тогда все небо с овчинку кажется, он просто седлает кобылу и мчится по белу свету. Бывают моменты, когда готов он раздавить мир копытами, будто ореховую скорлупу. Пусть все летит в тартарары!
– Ага, стыдно стало! – ухмыльнулся Манусакас, видя, что брат хмуро рассматривает горные вершины. – Знаю, ведь ты точно так же думаешь. Раз такая судьба у Крита, можем мы хоть изредка злость свою на них сорвать? Помяни мое слово, на байрам мула отнесу в мечеть, чтобы ослу одиноко не было. И пускай меня убьют – плевать!
– Да черт с тобой! Не было бы хуже для Крита.
– А ты не бойся, ничего ему не сделается. Люди могут погибнуть, а Крит бессмертен!
Капитан Михалис только вздохнул.
– Вот те крест, брат, – снова заговорил Манусакас, – бывает, задыхаюсь я тут, а почему – и сам не знаю. Ну, выпьешь, голова вроде бы ясная, а сердце так и рвется на части. Сам небось понимаешь. Была б моя воля – пробрался бы в Константинополь да прибил собаку султана, а нет – так хоть чем-нибудь в деревне своей себя потешу.
Капитан Михалис дернул за поводья, направив кобылу к воротам.
– Подумай, Манусакас, над тем, что я тебе сказал, хорошенько подумай, когда останешься один, и поступай, как совесть тебе подскажет. Вот и все. Будь здоров.
– Да куда ты, оглашенный?! Слезай, пообедаешь с нами! А то и заночуешь. Дом большой, места всем хватит. Племянников ты уж сколько не видал, да и Христина будет рада. А потом первого моего внука тебе покажу. Я решил назвать его Лефтерисом[31], может, хоть он дождется свободы.
– Не могу, спешу. Всем привет от меня.
– Что, даже с отцом не повидаешься?
– Говорю – времени нет. Завтра с утра много дел.
– Вот ослиная голова! Ничем его не сдвинешь! Ну ладно, езжай с Богом!
Капитан Михалис, пригнувшись, выехал из ворот. Разговором с братом он остался доволен: поговорили как мужчина с мужчиной. Если б не боязнь уронить себя, непременно бы обнял брата напоследок. Родная душа: выплеснет свой гнев, коли приспичило, а там хоть трава не расти!
Как молния летел капитан Михалис к городу, и душа у него пела. В очередной раз он убедился, что не посрамит Манусакас свой род.
Солнце клонилось к закату. Соседки, едва прослышав, что капитана Михалиса целый день не будет дома, собрались у него во дворе – кто с шитьем, кто с вязаньем, кто с целебными травами, собранными в поле. Пришли кира Пенелопа, Хрисанфи, сестра Поликсингиса, Катиница, Мастрападена. Настроение у всех было приподнятое: нынче суббота, можно отдохнуть, вволю наговориться. Слава Всевышнему, что дал людям воскресенье!
– Слыхали новости? – начала певучим голосом Катиница. – Прошлой ночью у Фурогатоса дом ходуном ходил. Никак опять жена беднягу поколотила.
– Вот позор-то! – подхватила кира Пенелопа. – А поглядеть на его усы, подкрученные да нафабренные, так кажется, мужчина хоть куда. Моему бы Димитросу такие усы.
– Нет, пусть бы лучше жене усы-то отдал, а сам бы юбку ее нацепил, – предложила Мастрападена, та самая, что на ночь привязывала своего мужа за ногу к кровати.
– Как же он кричал, сердечный! – улыбнулась кира Хрисанфи. – Весь квартал перебудил. Мой брат как раз возвращался домой и слышал весь этот тарарам. А нынче утром встретил Фурогатоса и хотел его пристыдить: «Ну как ты, друг Фурогатос, позволяешь бабе себя колотить? Неужто не можешь ответить ей, как подобает мужчине? Ведь ты весь род мужской позоришь! Нас, мужиков! Как тебе не стыдно?» А тот знаете что ответил? «Стыдно, – говорит, – капитан Поликсингис, страсть как стыдно! Но только мне нра-а-авится!»
Соседки залились хохотом. Риньо тем временем подала угощение: кофе, варенье, бублики с кунжутом. И тут, по заказу, в ворота вошел сосед Али-ага с чулком и спицами. На плечи наброшена зеленая шаль, подарок Риньо. Лицо бритое, сам весь чистенький, аккуратный – от заплатанной рубахи до шлепанцев, из которых торчат тоненькие ножки.
Кира Катерина поднялась из-за стола.
– Добро пожаловать, сосед! Милости просим на чашечку кофе!
– Спасибо, кира Катерина, дай тебе Аллах здоровья, – отозвался Али-ага, по-турецки раскланиваясь с женщинами. – Я только что пил – с вишневым вареньем да с бубликом.
– Ну, не беда, соседушка, лишняя чашка не повредит, уж выпей за компанию, – загомонили женщины. Все знали, что Али-ага хоть и нищий, но гордый. Никакого кофе, варенья, бубликов у бедолаги, конечно же, не было. Жил он впроголодь, при одном упоминании о еде у него слюнки текли. И соседки нарочно его этим поддразнивали.
– Так что ж ты себе нынче готовил, сосед? – спросила Катиница, лукаво подмигивая остальным, – одному Господу ведомо, какой ты искусник. У тебя, поди, и птичье молоко водится.
Али-ага самодовольно улыбнулся, сглотнул слюну, прицепил чулок к поясу и принялся со смаком рассказывать, какого нежного, с хрустящей корочкой цыпленка зажарил себе к обеду. На гарнир бамья[32], а соус – пальчики оближешь! Рассказывая, он то и дело причмокивал и сглатывал слюну. Соседки, давясь от смеха, все расспрашивали да расспрашивали его, а потом стали укорять:
– Ох, Али-ага, все у тебя мясное да мясное, да еще под соусом. Это же вредно для здоровья! Нужно хотя бы иногда немного зеленью питаться.
– Нынче на ужин, сосед, дам тебе мисочку врувы[33], – сказала Мастрападена. – Вот увидишь, какой отдых будет твоим кишкам, а то набил их мясом, ровно колбасу!
– А я угощу тебя ржаным хлебом, – добавила кира Катерина. – Мы сегодня испекли. Ведь белые булки нельзя есть каждый день.
– А икра, – вмешалась кира Пенелопа, – неужто она тебе не надоела? Вот я для тебя припасла тарелочку битых маслин, они хоть и горьковаты, но для пищеварения очень хороши!
Таким вот деликатно предложенным подаянием и жил гордый старик, которого судьба забросила в греческий квартал. Позаботившись о пропитании Али-аги, соседки завели разговор о весенних полевых работах. Затем Мастрападена со вздохом переключилась на другую излюбленную тему – неверность мужей. Со всех сторон посыпались жалобы. Катиница, к примеру, сетовала на то, что ее благоверный нажирается перед сном и после своим храпом мешает ей спать…
Тем временем на колокольню вскарабкался толстый, как бочка, Мурдзуфлос, звонарь церкви Святого Мины. Приставив ладонь к уху, он стал прислушиваться, как жужжит, точно пчелиный улей, Мегалокастро: грохотали мастерские, истошно кричали лавочники, расхваливая свой товар, жалобно пели нищие старцы под дверями домов, лаяли собаки, ржали кони, дребезжали колокольчики овечьей отары, которую каждую субботу гнали в крепость на убой… Мурдзуфлос рассвирепел.
– А ну тихо! Дайте и мне сказать! – Он схватил веревки, которые были привязаны к языкам трех колоколов, висевших у него над головой. – Семьдесят пять лет вас слушаю! Надоело!
Звонарь был редкостным молчуном. Всю жизнь за него говорили колокола – у каждого свой, особенный язык. Втайне он даже дал им имена: средний, самый здоровый, прозывался Миной, так же как глава и покровитель Мегалокастро; справа висела Свобода, а слева – Смерть. Сперва всегда начинал гудеть властным тяжелым басом святой Мина. Потом раздавался звонкий и радостный, как горный родник, голос Свободы. А последней медленно, точно прихрамывая, вступала Смерть. Эти голоса, казалось, вырывались из груди старого звонаря, из груди Крита и бесстрашно летели над крышами христианских домов и турецкими кварталами, над дворцом паши, разнося повсюду гнев и затаенные чаяния порабощенных райя.
Трехголосая бронзово-серебряная душа Мурдзуфлоса торжественно звенела и вселяла мужество и надежду в оскверненную турками крепость. Бывало это в дни главных праздников: на Рождество, на Пасху, 11 ноября – в день святого Мины и в день святого Георгия. Взволнованный Мурдзуфлос живо представлял себе, как принц Георгий на белом коне, одетый в фустанеллу и пестрый жилет, с патронташем и серебряными пистолетами, въезжает в город. На ногах у него грубые кожаные башмаки с красными помпонами[34]. А позади сидит девочка – принцесса Свобода… Каждый год 23 апреля радостно отплясывал Мурдзуфлос под тремя колоколами: ему первому доводилось видеть въезд принца Георгия в гавань, и он приветствовал его громким колокольным перезвоном.
А вот сегодня вечером Мурдзуфлос был не в настроении. Сегодня, 1 апреля, ему стукнуло семьдесят пять. И как же незаметно они пролетели, эти годы! Он вдруг впервые в жизни понял, что состарился, что скоро умрет, так и не увидев Крит свободным… Выходит, кто-то другой будет звонить в колокола в тот священный день! Этого Мурдзуфлос представить себе не мог. Нет, даже если меня заберет дьявол, думал он, я обернусь вурдалаком и все же ухвачусь за веревку, когда приспеет время.
От таких невеселых мыслей холодный пот выступил на морщинистом лбу Мурдзуфлоса. Руки тряслись, и он с трудом удерживал веревки, звоня к вечерне.
Али-ага, сидя во дворе капитана Михалиса среди шумных, болтливых женщин, уж было рот раскрыл, чтобы поведать гречанкам очередную истину Магомета, но соседки, услышав колокольный звон, быстренько сложили работу, осенили себя крестом и заторопились по домам. Субботними вечерами в каждом доме разжигают огонь и греют воду для мытья. Босоногие служанки рьяно скребут полы, метут усыпанные галькой дорожки, поливают цветы. Старухи, достав из киота кадильницы и с полузакрытыми глазами бормоча имена умерших предков, окуривают жилища.
Когда ударили колокола, отец Манолис, запыхавшись, переступал порог своего дома. С самого утра навещал он прихожан, служил ежемесячный молебен, в каждом доме ему подносили по рюмке ракии, а угощение с тарелок он сметал в свои бездонные карманы. Пот лил с него ручьями, но отец Манолис, несмотря на усталость, был доволен.
– Эй, матушка! – окликнул он, хлопнув в ладоши.
Из кухни, улыбаясь и еле волоча за собой толстый зад, выползла беззубая попадья. В молодые годы она, судя по всему, была красива и женственна. Маленькая, как перчинка, родинка на подбородке когда-то сводила с ума молодого попа. Но теперь родинка превратилась в волосатую бородавку. Да и от всех прелестей остались у попадьи одни глаза, живые и лукавые. Она бросила быстрый взгляд на раздутые карманы мужниной рясы.
– Вечер добрый, батюшка! Умаялся?
Встав посреди двора, отец Манолис поднял волосатые руки к небу:
– Ох, умаялся! Неси скорее таз!
Попадья притащила огромный глиняный таз и принялась опорожнять бездонные карманы мужа. Доставала и доставала, складывая горкой в таз, лукум, котлеты, огурцы, фисташки, хурму, пироги с орехами и творогом, мушмулу, жареный горох…
– Ну и растрезвонился проклятый Мурдзуфлос, просто оглушил! А ну-ка, матушка, поворачивайся живее!
Таз уже был полон до краев.
– Все, батюшка! – выдохнула попадья, торопясь унести добычу в дом. – Дай тебе Бог здоровья на многие месяцы!
Освобожденный от груза, поп, подоткнув рясу, побежал служить вечерню.
Кира Хрисанфи, вернувшись домой, набросила на плечи красивую, расшитую золотом и серебром шаль, положила в небольшую корзину просфоры, две бутылки – с вином и оливковым маслом, – степенно переступила порог дома, направляясь в церковь. В молодости она была стройной и быстроногой, а теперь отяжелела, глаза стали тусклыми, а над верхней губой, на подбородке и щеках откуда-то появилась жесткая щетина…
– Да поможет тебе святой Мина, кира Хрисанфи! – приветствовал ее, проходя мимо, отец Манолис, глазами он так и пожирал корзину.
Но кира Хрисанфи едва ответила на приветствие: мысли ее витали далеко. С трудом удерживая дородное свое тело на распухших ногах, она чувствовала нестерпимую боль в каждой косточке, в каждом суставе. И думала о другом.
– Всещедрый святой Мина! – шептала женщина. – Каждую субботу ношу я тебе и просфоры, и вино, и масло, исполни же и ты мою нижайшую просьбу – дай умереть раньше брата. Он человек великодушный и, если будет жив, устроит мне пышные похороны, с фонарями…
Замечательные фонари привез недавно из Константинополя церковный староста. Искусно украшенные серебром и разноцветными хрусталиками, они покачивались на черных шелковых шнурах. Их заказывали только для похорон богачей. Рано увядшая старая дева, кира Хрисанфи ничего уже не желала на этом свете, кроме похорон с красивыми фонарями. В девушках она просила святого Мину дать ей красивого и богатого жениха. Потом, смирившись с мыслью, что жить ей вековухой, стала просить святого, чтобы помог брату в торговле. Когда на Кипре было затишье, капитан Поликсингис от нечего делать открыл у Ханиотских ворот лавчонку и скупал у крестьян вино, оливковое масло, изюм, лимоны и сладкие рожки. Затем все это он перепродавал оптовым торговцам – «большим ослам», как он их называл, – и складывал в сундук золотые и серебряные монеты.
– Сделай милость, святой Мина, – молила кира Хрисанфи, – пусть дела у моего брата идут хорошо, и будут у тебя всегда просфоры, и свечи, и вино, и оливковое масло – все, что душе угодно! Пусть в доме нашем будет вдоволь еды, ведь сытная еда – все равно что муж и дети для женщины. Вот Али-ага клянется, что не хочет копить жир для червей на том свете… Не слушай его! У него в доме поживиться нечем, оттого и болтает своим языком.
Поднимаясь к церкви Святого Мины, кира Хрисанфи остановилась перевести дух у родника Идоменеаса.
– Все у нас слава Богу! – промолвила она. – Грех жаловаться!
Всю жизнь она только и делала, что пестовала своего красавца брата: обстирывала, потчевала, пылинки с него сдувала. А как она гордилась им! Настоящий мужчина, храбрый, благородный! А что бабник – не велика беда! Женщины ведь для того и созданы, чтобы давать наслаждение мужчинам. Она считала, что они с братом одно целое. Недаром в один день и час на свет появились. Только вот к сестре до срока пришла старость, тело жиром заплыло, но это пустяки. Лишь бы брат подольше оставался молодым, стройным и красивым. Ведь он – это я, утешала себя кира Хрисанфи. Я радуюсь с ним вместе жизни, распутничаю, гуляю по ночам, а вовсе не сплю в одинокой своей постели! Всякий раз, когда брат возвращался под утро домой, она вскакивала, снимала с него башмаки, грела ему воду, варила кофе. И жадно вдыхала исходившие от его усов и волос пьянящие запахи – иной страсти не дано было испытать на этом свете бедной старой деве.
Но в последнее время Хрисанфи что-то совсем сдала и, едва увидев новые погребальные фонари, почувствовала, что в них отныне самое большое ее счастье.
Разговаривая сама с собой и рассеянно кивая встречным, медленно шла кира Хрисанфи к церкви, на каждом повороте дороги останавливаясь, как делают пышные похоронные процессии…
А на другом конце города, около Ханиотских ворот, брат киры Хрисанфи, услышав, что звонят к вечерне, небрежно, будто играя на мандолине, осенил себя крестным знамением и поспешил закрыть лавку.
Это был и впрямь красавец мужчина – стройный, всегда щегольски одетый: суконные шаровары с напуском, расшитый жилет, подпоясанный шелковым кушаком, высокие, белые с желтым сапоги на красной шнуровке, так что во время ходьбы в прорезях виднелись мускулистые, как у резвого коня, ноги. Он лихо сдвинул феску набекрень, кисточку перебросил за левое ухо и, печатая шаг по камням мостовой, направился к цирюльнику Параскевасу. Как-никак суббота, надо побриться.
Он, как и сестра, по дороге нет-нет да и остановится: то с одним, то с другим перекинется словом, посмеется, заломит еще больше феску и идет дальше бодрым шагом. Капитан Поликсингис упивался собой, своим сильным, гибким телом, которое пока что ни разу его не подводило. Да и голова лишними хлопотами не забита. Канарис верно говорил: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» И капитан Поликсингис, независимо от того, война была или мир, жил по тому же правилу, оттого, должно быть, ему всегда и во всем везло. На случай смерти он уже выстроил себе мраморный склеп, напоминавший небольшой винный погребок: по обеим сторонам каменные скамейки с подушечками, посредине невысокий столик, в стене вырублен шкаф, где всегда стояла бутылка ракии и рюмки. Так что и в жизни капитану Поликсингису этот склеп пригодился. Частенько он набирал закусок, приглашал закадычных дружков и устраивал в склепе веселую попойку.
А сейчас он летел как на крыльях. Вечер выдался на славу: кругом ни ветерка и теплынь как летом. Сады благоухали ароматом роз, только что политой земли. Сейчас выйдет он из цирюльни свежий, чисто выбритый, обрызганный лавандой, и будто двадцать лет с себя сбросит. И когда пройдется опять по тенистым улочкам, не одно женское сердечко сладко замрет.
– Эх, святой Георгий, ты один среди святых меня понимаешь! – вздохнул капитан Поликсингис. – Мы ведь тезки с тобой. Так яви же чудо – дай моей родине свободу! Сейчас дай, пока я не одряхлел, пока руки способны обнимать женщин и держать оружие! Через несколько лет я состарюсь и уж не смогу насладиться желанной свободой. Так не оставь наш остров, святой Георгий! Ты не думай, мы все как один встанем под твои знамена и будем драться не на жизнь, а на смерть! – Он упрямо сжал губы и свернул на Широкую.
Это была одна из самых оживленных улиц Мегалокастро. Начиналась она чуть западнее Ханиотских ворот и вела к Лазаретным, к большой площади Трех арок, на которой раскинулся дворец паши. Здесь же неподалеку среди деревьев была крытая деревянная веранда. Каждую пятницу на этой веранде играл турецкий военный оркестр. Другая центральная улица пересекала Широкую под прямым углом. Начиналась она у Новых ворот и вела на юг, к порту. На перекрестке двух этих улиц находилась главная площадь города. Широкая – это улица магазинов, аптек, мастерских, греческих кофеен; они сгрудились здесь так тесно, что торговцы весь день переговариваются из своих дверей, и вокруг стоит непрекращающийся веселый гомон. Беда, если мимо пройдет Эфендина или еще какой-нибудь убогий. Сапожники начинают разом грохотать своими молотками, подмастерья свистят и улюлюкают, со всех сторон беднягу забрасывают гнилыми лимонами и помидорами.
А в субботние вечера веселье здесь достигает пика. Вот и сегодня улица бурлит, как взбаламученная река. Хвала Всевышнему, еще одна неделя окончена. Лавочники развязывают фартуки, посреди тротуара льют воду друг другу на руки, умываются, отряхиваются, подкручивают усы и приказывают подмастерьям вынести на улицу скамейки, крепкий кофе и наргиле. Вскоре на улице появится арапка Рухени – черная лоснящаяся гора мяса. На ее лошадиной шее болтаются бирюзовые бусы, груди у нее свисают до живота и трясутся, когда арапка громоподобно хохочет, обнажая белоснежные зубы. На голове она держит лоток с кунжутной пастилой. А от родника Идоменеаса приплетется, как всегда, грустный и молчаливый пекарь Тулупанас с двумя лотками: на одном – пирожки со шпинатом, а на другом – бублики с корицей. Одним словом, Широкая улица стала больше похожа на дворец богача.
Капитан Поликсингис, остановившись, невольно залюбовался этой греческой улицей. В чистом воздухе (вокруг ни одного турка) раздавался певучий звон колоколов. Рай земной! – подумал Поликсингис. Всего здесь вдоволь, только греческого флага не хватает. Ну ничего, придет срок, и уж мы, критяне, позаботимся, чтобы он тут висел!
Кланяясь направо и налево, капитан Поликсингис вновь зашагал по улице к цирюльне.
Тени становились длиннее. На минарет поднялся муэдзин и призвал мусульман к вечерней молитве. Затем, прежде чем обратить свой взор к небесам, он немного постоял, поправил тюрбан, огляделся.
– О великий и всемогущий Аллах! – воскликнул он наконец. – Сколько бы добра ни создал человек, никогда ему не отблагодарить тебя за пару глаз, которую ты даровал каждому, чтоб любоваться миром!
Муэдзин облокотился о решетку минарета: внизу простирался пестрый многоголосый город с белыми куполами, садами, хоругвями. От избытка чувств толстопузый слуга пророка даже вздохнул.
– Чего только нет в этом благословенном городе! И женщины, и красавцы мужчины, такие, как Нури… Как погляжу на него да на его вороного коня, так сам бы в седло вскочил. А невинные мальчики, которые в кофейнях такие амане заводят, что голова идет кругом, и не знаешь, где же лучше прославлять Аллаха – в мечети или в кофейне… Клянусь Магометом, даже вонь городская и та радует сердце. Когда входишь в город через Лазаретные ворота и чувствуешь запах навоза, то душа расцветает, будто удобренный сад… Этот запах не променяю я ни на какие благовония! Вот ведь понюхает человек у себя под мышкой – кому, может, и вонь, а ему приятно!
Муэдзин снова вздохнул, зажал ладонями уши, и из груди его полился волнующий, страстный голос. Такой, пожалуй, мог бы поспорить с колоколами Мурдзуфлоса. Крик муэдзина то жаворонком взмывал к небу, раздирая его в клочья и пробиваясь к самому Аллаху, то, напившись небесной благодати, низвергался на Мегалокастро.
Под торжественный крик муэдзина Нури-бей, мрачный как туча, возвращался с хутора, куда ездил проветриться после минувшей тяжелой ночи. До сих пор стыд огнем жег ему грудь, и даже взмыленный конь под ним спотыкался, словно тоже чувствовал груз на сердце хозяина. Море играло закатными красками, кипело и пенилось, хотя на берегу ветра не было. Бей переехал вброд реку Йофирос. На виноградных лозах появились первые листочки, миндальные деревья уже отцвели, от смоковниц исходил пьянящий аромат.
– Да будь прокляты и море, и солнце, и деревья! – зло выкрикнул Нури-бей. – Нет мне в мире утешенья!
И впрямь, солнечный свет застила бею могучая фигура капитана Михалиса. Вспомнилось, как он ухватил рюмку двумя пальцами, и стекло треснуло пополам, а Эмине зашлась от восторга и бросила в лицо ему, законному своему супругу, такие жестокие слова…
О Аллах, как стереть в памяти эту пытку! Прошлой ночью он напился до бесчувствия и заснул на пороге. Его преследовали какие-то кошмары, кто-то истошно вопил над ухом. Утром арап растормошил его, отмыл от блевотины, переодел в чистое. Но минувшая ночь осталась в сердце, будто вонзенный нож.
Нури-бей ехал мимо турецкого кладбища. Мраморные фигуры в разноцветных тюрбанах, острые, как клинок, буквы на плитках. Казалось, огромное войско расположилось лагерем на подступах к Мегалокастро.
Он выхватил взглядом отцовскую могилу меж двух кипарисов. Мраморный тюрбан шевелится на голове у отца, как при жизни, когда свирепый Хани-али бывал в гневе. Все закружилось перед глазами у Нури-бея; конь, спотыкаясь, понес его прямо к могиле, он изо всех сил вцепился в гриву, чтобы не упасть. Задыхаясь, натянул повод; вороной громко заржал, встал на дыбы. Впервые за много лет животное отказывалось повиноваться хозяину – дурной знак!
Бей подумал, что надо бы слезть с коня и зайти поклониться праху отца, но ему вдруг стало жутко. В голове, как вспышка молнии, пронесся вчерашний сон: ведь это отец, грязный, босой, в лохмотьях, так страшно кричал во сне и потрясал черной костлявой рукою: «Сколько уж лет блуждаю я как тень в твоем растреклятом конаке! За двадцать три года мой сын, моя единственная надежда, не удосужился смыть кровь отца! Ты бы должен плакать, локти себе кусать от такого позора! А из твоего дома несутся амане и смех! Для чего же мы рождаем на свет сыновей? Чтобы забывали нас? Чтоб нашим душам за гробом не было покоя? Мало того, что ты не отомстил за меня – ты еще побратался с братом моего убийцы! Жене велел ему показаться без паранджи! Прочь с глаз моих, поганый гяур!»
Услышав такое страшное оскорбление, Нури-бей схватился за кинжал. Ну, хватит! Он хочет и из могилы мною командовать. Не выйдет! – чуть было не крикнул он, но слова застряли в горле. Только яростно ударил шпорами коня и понесся в город через Ханиотские ворота. Солнце быстро катилось к горизонту. Не заезжая домой, бей направился в греческий квартал.
А в это время с противоположной стороны, через Лазаретные ворота, в город въезжал капитан Михалис. Солнце садилось, и он едва не загнал кобылу, боясь, что закроют крепостные ворота. Издали он увидел, как из пыли и навозных куч поднимаются прокаженные. Целый день толпами сидели они у стен Мегалокастро, протягивая за подаянием полусгнившие руки. А когда солнце садилось, гуськом тянулись к себе в Мескинью. Сегодня их шествие возглавляли молодожены. Жутковато было глядеть на эту процессию: будто мертвецы, покрытые язвами, без носов, ушей, губ, повылезли из могил, услышав трубу архангела, дергались в адской пляске, и казалось, вот-вот они рассыплются по косточкам. Капитан Михалис с отвращением отвернулся. Для чего их земля носит? – подумал он. Только здоровые должны жить на свете.
Он послал вперед кобылу и проскочил через ворота как раз в ту минуту, когда стражники-низами, оборотившись на закат, затрубили в трубы и по флагштоку пополз вниз турецкий флаг.
26
Ангури (греч.) – огурец. Мельтеми – пассатный ветер (тур.).
27
Гарифало – по-гречески «гвоздика». В имени героини отражено диалектное произношение.
28
Напиток на основе «муки из орхидей» – клубней ятрышника.
29
Мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.
30
Старинная мера аптекарского веса равная 3,732 г.
31
От греческого «элефтери́я» – свобода.
32
Овощная культура, однолетнее травянистое растение семейства Мальвовые.
33
Дикорастущая съедобная трава.
34
Обувь греческих гвардейцев-эвзонов.