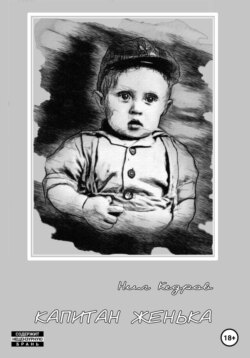Читать книгу Капитан Женька. Нелогичные рассказы - Нил Кедров - Страница 2
Рассказ 1-й «Учительский ребенок»
ОглавлениеМаленький Женька – мальчик-неулыба лет пяти – стоял на трибуне. Возвышаясь над небольшим квадратом школьного двора, он грозно посматривал вниз. Прямо перед ним, линуя асфальт неровными шеренгами туфель, застыли ученики и учителя. Сбоку, неловко придерживая тощий, потертый от времени портфель, прижался директор школы.
В воздухе висела почтительная тишина.
– Вы это зачем?! – выкрикнул Женька.
Ему хотелось выкрикнуть пострашней, но голос его предательски пискнул. Тогда он набрал в рот больше воздуха и выкрикнул снова:
– Вам мама и бабушка – это кто?!
Второй заход получился лучше.
Длинные шеренги беззвучно затряслись, а директор с портфелем шмыгнул носом.
– Мы больше не будем, – сказал он за всех.
Потом посмотрел на Женьку так, как обыкновенно смотрел на него дворовый пес Трезвон, еще теснее прижал к себе свой тощий портфель и виновато улыбнулся.
Женька шевельнул белобрысыми бровями, встряхнул маленьким кулачком вверх, а потом с сердцем треснул им по трибуне.
– Ну, глядите!
И проснулся.
1
С раннего детства Женька варился в учительской среде. Его мама и бабушка много лет отдали школе. Римма Ивановна и Нина Алексеевна преподавали естественные науки: химию и биологию.
Как только фактор военных потерь прекратил влиять на рождаемость, в поселковую демографию вдохнулась новая жизнь. В одном лишь дворе, где жил Женька, появилась целая ватага ребятишек, а в школах открылись классы с литерой «К». По этой причине учительской работы было так много, что мама с бабушкой не только до ночи пропадали в школе, но еще и домой приносили увесистые пачки перевязанных тесьмой тетрадок. Тесьма резала пальцы, а тетрадки вытягивали и без того натруженные руки. Женька был уверен, что мама с бабушкой натрудили их на фронте. Он самолично видел, как, собираясь на праздник, они прицепляли медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Словно брошки, награды блестели розовой медью и приводили Женьку в абсолютно гоголистый восторг.
Вечерами, уложив Женьку спать и включив лампу-грибок, мама и бабушка сидели за круглым обеденным столом и проверяли тетрадки. Из-за этого Женька долго не засыпал. Хлопая тяжелыми ресницами, он наблюдал сквозь стулья, заменявшие ширму, как они склоняли свои головы в белом венце электричества, отражавшемся в бабушкиных очках двумя яркими точками, и попеременке макали железные перья в непроливайку. Чернила были красными как кровь, что привносило в пылкое воображение Женьки жуть и тоже не располагало ко сну.
Когда дрема все-таки побеждала, то Женька, проваливаясь в мягкие перины Морфея, начинал видеть трибуну, трясущихся учеников и директора с тощим портфелем. Такое странное кино не давало покоя все его детсадовское детство. Оно было, не пойми чем, но приходило всякий раз, когда мама и бабушка садились за уроки.
По недолетию Женька не мог понять особинку учительской профессии – ненормированный рабочий день, но искренне жалел маму и бабушку, с горячностью будущего мальчишки бросаясь на их защиту. «И сказать!.. И чтоб они!..» – что конкретно, Женька не знал, а во сне все получалось как нельзя лучше.
За завтраком Женька пристально смотрел на маму с бабушкой. «Ты чего?» – спрашивали они. «Чего-чего?» – хитро улыбался он. Зачем объяснять то, что объяснять не надо? Не понимают, ну и ладно.
2
В детском саду, куда Женьку водили по рабочим дням, временами приключались болезни. По этим поводам Римма Ивановна, как педагог начинающий, темпераментно возмущалась, а Нина Алексеевна, как педагог опытный, демонстрировала невозмутимую сдержанность профессионала. «На то они и дети», – спокойно заявляла она. Лишь в одном случае мама и бабушка моментально объединялись – если заболевал их Женька. Тогда они садились верхом на Минну Лазаревну – добрейшей души человека и знающего педиатра, – и не давали никакого спуску ни ей, ни всей детской поликлинике, имевшейся в Поселке. «Пока ребенок не поправится!» – в один голос требовали они.
Имя Минна было непривычным. Как бы Женька не старался, оно никак не укладывалось в его сознание правильно, больше тяготея к тому, что знакомо было по играм в войнушку, – мина! «Чтобы подзорвать», – пояснял Женька. Он частенько не мог воспроизвести, как на самом деле зовут его доктора. Однажды, налетев на нее возле школы, Женька вообще ляпнул: «Здрасьте, тетя Бомба!» При этом в муках припоминания Женька выглядел искренним до такой степени, что никто не мог определить, прикидывается он или все это происходит без обмана.
Сам Женька воспринимал недомогания чем-то вроде развлечения. Болячки, которые цеплялись, оказывались пустяками – насморки да кашли. Один раз заболел нормальной болезнью – свинкой. Но, рассмотрев в зеркале лицо, раздутое и подвязанное платком, сам же и развеселился:
– Смотри-ка, ты? Свинка!
А уж главная забава начиналась тогда, когда детский сад закрывался на карантин. Мудреное слово «карантин» Женьке нравилось очень. Оно звучало как «карабас» из сказки о золотом ключике. Женька зримо представлял себе косматую бороду, змеившуюся по полу, и длинный хлыст, которым Карабас-Барабас порол несчастных кукол. И Мальвину, и Пьеро, и даже деревянного Буратино! После того как Женьке прочитали сказку писателя Алексея Толстого – так бабушка называла авторов книжек: «писатель такой-то», – этих кукол Женька полюбил всем сердцем. Можно сказать, они стали его друзьями. Если возникала нужда, он открывал книжку и запросто мог поговорить с каждым. Вернее, говорили они, он только слушал и рассматривал картинки. А может, все было наоборот. Женька не отличал этого наверняка. Но что было до капельки достоверно – история о золотом ключике и деревянном Буратино занимала большую часть его нарождавшейся жизни.
3
А вот карантин он любить не мог. Женьку это досадовало, потому что карантин любить ему хотелось. Ведь если он случался, Женьку девать было некуда, и мама брала его в школу. А там ждал Долговязый. Второгодник, изводивший учителей «до самой до крайности». Но зато первый Женькин взрослый друг.
На самом деле, Долговязым его назвала Нина Алексеевна – Женька показывал своего друга издалека, ближе подводить бабушку застеснялся. Он был действительно долговязым, с оттопыренной нижней губой и оттопыренными большими ушами. Женьке это нисколько не мешало. Долговязый казался ему симпатичным и запомнился на долгие годы таким, как есть. Когда Женька учился в 5-м классе, он посмотрел кинофильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» режиссера Климова. И вдруг обомлел. Артист, который ходил по экрану с сачком для ловли бабочек и все время спрашивал: «А чей-то вы тут делаете?», был точной копией Долговязого.
– И нечего удивляться, – сказала бабушка. – У Жени с детства фотографическая память.
Сам Женька в это верил не очень, но поскольку все и всегда выходило по-бабушкиному, соглашался. Ведь из ранних лет он действительно помнил многое. Да и во взрослой жизни, увидев случайного прохожего, легко мог объяснить, где и когда встречал его раньше.
Долговязый сидел на последней парте, занимая лишь ту половину, которая ближе к окну, однако всю ее считал своей полностью. Вот почему, когда Римма Ивановна в первый раз подсадила на свободное место незнакомого малыша, он остолбенел, а потом напряг ноги, намереваясь выйти. Это был его коронный номер: демонстративно выйти в коридор. Но поскольку ноги свои, похожие на ходули, он выставлял далеко под парту, стоявшую впереди, выбраться ему было непросто. К тому же малыш его опередил.
– Женька, – неожиданно сказал малыш, и протянул пухлую, с перетяжками, ладошку.
Долговязый замер. Малыш поднял на него большие внимательные глаза, похожие на голубые тарелочки, хлопнул ресницами и снова повторил:
– Женька.
В застывшем лице Долговязого что-то неуловимо поменялось.
– Николай, – не очень уверенно произнес он, потом мотнул головой, и тоже протянул Женьке руку.
Больше с уроков Риммы Ивановны Долговязый уходить не пытался. Даже если никакого карантина не было, и Женькин детский сад работал как положено.
Усаживая сына за парту, мама давала ему листок с коробкой отточенных карандашей и повелительно говорила: «Рисуй и не мешай!» Карандаши были цветными и отточены не от нечего делать. По выражению бабушки, Женькина мама была перфекционистом. Женьке и это слово нравилось, хотя, как с карантином, он не совсем брал в толк, что оно означало по жизни.
Долговязый с трудом получил свидетельство о 8-летнем образовании, и сразу загремел в армию. Пока он отсиживал по два раза все свои классы, подошел его срок. Женька подарил Долговязому рисунок. Сквозь черные разрывы мчался танк со звездой, а из башни выглядывал командир. Танк был красного цвета, а командир – зеленого, он радостно махал Долговязому рукой.
Вероятно, по привычке из детства свои собственные школьные годы Женька провел тоже на «камчатке». Может быть, он это делал в память о Долговязом. Лишь на маминых уроках он сидел впереди.
– А чтоб на глазах! – не влезая в педагогические кущи, объяснила свое категорическое решение мама.
4
Мамина школа стояла за забором Женькиного дома – туда и обратно он запросто лазил через дырку. Двухэтажное, бежевой окраски невыразительное п-образное здание без архитектурных изысков, оно было довоенной постройки, и вообще первой школой, открытой в Поселке.
В 60-е годы, во времена, когда учился Женька, кабинетную систему еще не придумали. Поэтому во всех школах учебные аудитории были закреплены за конкретными классами. Считалось, что таким образом школа не превращалась в цыганский табор, кочующий из помещения в помещение. Вместо этого она становилась как бы продолжением семьи. Только кабинет Риммы Ивановны – по Женькиному мнению, назывался он очень даже красиво: «Кабинет химии» – считался на особом положении, не Римма Ивановна ходила к ученикам как все другие учителя, а ученики ходили к ней по расписанию, которое висело на первом этаже возле крохотного кабинета Льва Яковлевича, директора маминой – или теперь уже Женькиной, здесь он пока путался – школы.
Мамино рабочее место – учительский стол – тоже было особым. Оно было массивным и широким, издали напоминавшим большой кирпич. А главное, – высилось на подиуме. Этими двумя фактами Женька гордился очень. Понятно, что, с учетом деликатности момента, он гордился молча, про себя. Но если кто-либо из одноклассников пытался оспаривать особость положения его мамы вслух – мол, ничего такого тут нет, на столах стоят стеклянные химические приборы, которые выносить нельзя, – Женька уже не мог терпеть и тоже открывал рот: «Чтобы чудеса были хорошо видны!» С высоты своего стола Римма Ивановна действительно демонстрировала редкостные чудеса. Как опытный химик, их она знала массу. К тому же дома хранились аккуратные подшивки журнала «Химия и жизнь», а в нем печатались такие фокусы, о которых не только Женькины одноклассники, но и весь Поселок вовсе не слышали. На уроках Риммы Ивановны то свечки загорались сами по себе, то из стакана вылетал китайский фейерверк. Эффект был настолько велик, что Женька, и без того пребывавший в перманентной фанаберии, даже не знал, как к нему относиться. В этот момент он только и мог, что быстро обернуться на одноклассников и беззвучно проартикулировать им губами: «Съели?!» Сказать это вслух Женька не решался – до мамы было рукой подать.
К кабинету примыкала узкая, как пенал, комната с названием «Лаборантская» и резкими запахами внутри. «Тоже химическими», – объяснял Женька. Насколько Женьке не нравилось находиться в самом кабинете – сидеть на первой парте, – настолько же ему было интересно бывать в этой лаборантской. В ней он был почти хозяин. Можно сказать, вырос там.
Из-за маминой особости Женька быстро полюбил все и всем объяснять. Получалось, что только он – ну и, конечно, его мама, с этим Женька не спорил, – разбирается, что и как. Одноклассники помалкивали. Может быть, они не хотели спорить, а, может быть, втихаря посмеивались. Женька об этом не задумывался и даже не замечал. Зато заметила его мама. Педагогическим глазом она легко распознала зачатки болезни, поразившей сына. Теперь, благодаря телевидению и соцсетям, эту болезнь знают все. И даже название ей придумали подходящее – звездная. А тогда мама сформулировала такое явление проще: ребенок зазнался. Она рассказала об этом бабушке, и они вместе пропесочили Женьку. Даже удивились, как быстро он выздоровел.
Общую картину кабинета дополнял большой портрет. Он был закован в золоченую раму и задумчиво посверкивал из-под толстого стекла. Первый раз Женька увидел его издали, с парты Долговязого. А увидев, сразу узнал, кто это. Сильно косматый дядька, смотревший на Женьку, не мог быть никем, кроме Карабаса-Барабаса. Это уж когда Женька пошел в 7-й класс, с которого начинали изучать химию, он избавился от наваждения, рожденного детской фантазией. И твердо усвоил: на портрете знаменитый русский химик Дмитрий Иванович Менделеев. Он висел прямо перед Женькой, а его таблица чуть правее классной доски, у окна. Глядя то на портрет, то на таблицу, Женька часто забывал внимательно слушать маму. Он задумывался не о том, Барабас это или Менделеев, и даже не о химических элементах, рассованных по разным клеткам – персонально Женька никакой системы в том не усматривал. Его волновало другое. Неужели всю эту громадную таблицу, исписанную загадочными значками, смог придумать один человек? В такие минуты он очень уважал Дмитрия Ивановича. Может быть даже больше, чем уважала его мама.
Была в мамином кабинете еще одна вещь, которая отвлекала Женьку от уроков. Из окна был виден яблоневый сад. Когда он пышно расцветал по весне, учиться не было никакой возможности.
В начале карьеры Римма Ивановна преподавала биологию, и сад был детищем лично ее. Это она предложила разбить учебную плантацию. Тогда ее идея показалась излишней. «Работаешь в классе, ну и работай себе!» – указывали старшие товарищи. Но вчерашняя студентка не раздумывала. Вместе с учениками – это был ее самый первый класс – она вскопала землю и высадила саженцы, купленные на заводские, шефские, как их называли в то время, деньги. Теперь продукция сада радовала всех. Фрукты, овощи и зелень, выращенные школьниками, – каждый конкретный класс отвечал за свои конкретные деревья, кусты или грядку, – прямиком отправлялись на кухню. Во всех школах имелись штатные повара и собственные столовые.
У себя в школе мама частенько кормила маленького Женьку. Времени готовить дома у нее не хватало катастрофически. Это с тех пор Женька полюбил столовские котлеты с картофельным пюре, густо политым луковым соусом. Дух котлет, сбитых лодочкой и посыпанных хлебной крошкой, пахучим облаком поднимался над тарелкой и пробуждал в нем почти зверский – не по возрасту – аппетит, заставляя в который раз вставать в очередь за добавкой.
5
Всеми способами в школе старались навести уют. Стены украшались полотнищами самодельных газет, графиками дежурств, таблицами шашечных турниров, уголками пионера или комсомольца. А подоконники – геранью в горшках, принесенных из дома. Герань было положено поливать, но Женька свою очередь отлынивал. Хоть мама и бабушка были учителями-естественниками, к ботанике его не тянуло.
Помимо этого, каждый класс был отмечен каким-либо мудрым изречением. В мамином кабинете висели слова Михаила Васильевича Ломоносова: «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие». А в Женькином классе, где работала литератор Эра Константиновна, было написано: «СССР – самая читающая страна в мире!» Насчет химии Женька сомневался – сам он никогда не видел, как химия «простирает руки». А вот насчет чтения был согласен, поскольку наблюдал самолично.
В детской памяти хорошо сохранилось, как за завтраком дедушка читал газету. Бабушка ругалась, а дедушка посмеивался и продолжал читать. Газета называлась «Красная Звезда». И это было понятно. «Потому что, как дедушкин орден», – говорил Женька. У соседей утро начиналось аналогически. Уже к семи часам из всех почтовых ящиков, висевших под лестницей, торчали пучки свежей прессы. За это отвечала тетя Маруся – маленькая, округлых очертаний женщина в черном форменном бушлате и с кожаной сумкой на плече. В Поселке ее называли «Колобок». Ласково называли. Ведь она разносила не только газеты, письма и телеграммы. Она разносила пенсии. Женька видел, как, расписавшись в карточке огрызком химического карандаша, бабушка оставляла ей мелочь – медные колесики с серпом и молотом. Так поступали многие – зарплата у «Колобка» была незавидной.
По своим предпочтениям, Нина Алексеевна отличалась от других соседей. Себе она выписывала журналы. При этом никогда не сдавала прочитанное в макулатуру – хотя за это в пунктах вторсырья давали дефицитные книги. Бабушка хранила подшивки годами. Если мама пыталась убедить ее высвободить полки, она упрямо заявляла: «Это для Жени. Когда-нибудь прочтет».
Бабушка пристрастила Женьку к книжкам с тех самых пор, как в 4-е года научила его читать. Тогда в нем и народилось любопытство к словам (начиная с «карантина»). Чтобы разобраться в их потаенной сути – а это почему? а это откуда? – Женька расспрашивал всех, кого ни попадя.
6
От профессии мамы и бабушки имелся и другой, не менее замечательный для Женьки, прок.
В школах Поселка проводились новогодние елки. Они были для всех, но для учительских детей устраивались дополнительно. Благодаря этому каждый новый январь маленький Женька водил праздничные хороводы лишних три раза. У мамы, у бабушки и в городском Доме учителя.
Женьку к этому готовили заранее. Сначала его отводили к Давиду Моисеевичу – единственному в Поселке профессиональному мужскому парикмахеру. Парикмахерская тоже была единственной, на первом этаже общественной бани она занимала тесную комнатку в одно окно со складными зеркалами-трюмо, утыканными по бокам ослепляющими Женьку лампочками. Баня в Поселке тоже была одна.
Может быть, потому что к Давиду Моисеевичу было не попасть, а, может быть оттого, что стрижка стоила денег, но большинство жителей стриглись дома. Вернувшиеся с войны солдаты умели не только воевать. Они и в быту умели все. В ход шел фронтовой опыт, а также обыкновенные ножницы, длинные алюминиевые расчески и невиданное трофейное чудо: немецкие ручные машинки Solingen. На весь Поселок их можно было пересчитать по пальцам. К 50-м годам в СССР наладили собственное производство – прототипом стали все те же немецкие образцы. Потом их выпускали десятилетия подряд. А если кто ими не обзавелся – это был также вопрос наличия денег, – соседи стригли друг друга взаимопомощно. За обыкновенное спасибо.
Женьку тоже обыкновенно стригли дома. Но под Новый Год все-таки водили в парикмахерскую. Чтобы «молодой человек» не утонул в кресле, Давид Моисеевич клал на подлокотники доску – она была скользкой, потому что до Женьки ее «полировали» все его предшественники. А чтобы расслабить, обволакивал его не только белой простыней, распространявшей острый запах одеколона «Сирень», но и всякими новыми, а главное – красивыми словами:
– Челка, бокс, полубокс. Как будем стричь?
В этот момент гордость Женьки возрастала, будто по волшебству. Он рдел, что к нему обращаются, как к взрослому, и порывался тоже сказать что-нибудь приятное.
На самом деле ни Женькин ответ, ни ответы бабушки или мамы, Давида Моисеевича не интересовали. Ведь он считал себя не просто парикмахером – местным специалистом, – а непререкаемым авторитетом. Стилистом, как бы выразились сейчас. Его эстетические воззрения определяли облик всех поселковых мальчишек. Женькин возраст поголовно ходил под «челку», подростков украшал «бокс», а юношей «полубокс». Чтобы убедиться в этом, достаточно было полистать пухлый бабушкин фотоальбом. Там Женька был во всех 3-х ипостасях! Полубокс вообще был шиком времени, он олицетворял бойцов Красной Армии, недавно разгромивших Германию. Не было мальчишки, кто не горел желанием быть на них похожим хотя бы в прическе. Знаменитая «канадка» появилась в Поселке лишь в 70-е годы, после известной хоккейной серии СССР–Канада.
Довольно никлый от времени, желтый агитплакат Наркомпищепрома СССР висел прямо на двери парикмахерской. На нем советского вида женщина с горящими глазами держала в руках флакон и объявляла всем входящим: «Сирень – одеколон и духи сильного запаха». Одеколон «Сирень» московской фабрики «Новая Заря» полагался Женьке в качестве бонуса.
– Дотерпел – получи! – приговаривал Давид Моисеевич, прыская на него из флакончика с резиновой грушей.
Женьке «Сирень» нравилась, но его смущало, что ее предлагала женщина. Он давно присматривался к одеколону «Шипр» – бутылочка, круглая как эскимо на палочке, стояла на столике рядом с «Сиренью» и соблазнительно отсвечивала в Женьку темно-зеленой жидкостью.
– Вот бы Давид Моисеевич перепутал, – всякий раз шептал Женька бабушке, а она, делая круглые глаза, отворачивалась.
Но одеколон «Шипр» был исключительно для взрослых клиентов. Так считал Давид Моисеевич. И по цене он был намного дороже одеколона «Сирень». Так считала Нина Алексеевна. Лишь когда Женька попробовал бриться – в 10 классе пробовали бриться почти все приятели, – «мечта» осуществилась. Теперь Женька поливал щеки тем, чем хотел поливать их с детства – долгожданным одеколоном «Шипр».
После парикмахерской Женьку наряжали в черные чешки, надетые прямо на белые чулки, сверху натягивали костюм Петрушки, пошитый Ниной Алексеевной из старого цветного матраса, вокруг шеи затягивали французскую «фрезу», вырезанную из бумаги, а голову накрывали клоунским колпаком. В таком виде он ежегодно декламировал новогодние стихи.
Когда объявляли его номер, чинно ступая чешками по крашеному полу спортзала, где по обыкновению проводили праздник, Женька выходил под елку и громко, почти криком, читал:
Что растет на елке?
Шишки да иголки.
Разноцветные шары
Не растут на елке.
Не растут на елке
Пряники и флаги,
Не растут орехи
В золотой бумаге.
Эти флаги и шары
Выросли сегодня
Для советской детворы
В праздник новогодний.
В городах страны моей,
В селах и поселках
Столько выросло огней
На веселых елках!
С 3-х елок и подарков было столько же!
На каждой елке Женька читал именно эти стихи. При этом на второй строфе спотыкался. Видимо, от волнения, но, скорее всего, от большого усердия – уже тогда Женьке хотелось выступать лучше других – вместо нормального «шишки» у него получались какие-то «сышки». На первых порах Женька тушевался, а потом перестал. Дойдя до «сышек», он делал вид, что так надо. И скорее шел дальше.
Стихи были напечатаны на новогодней серебряной открытке, подаренной бабушкой. Во дворе открытка считалась хорошим подарком. Женька тоже дарил их всем, к кому ходил на дни рождения. Правда, некоторые открытки возвращались обратно. Ведь к Женьке тоже приходили гости.
Через много лет Женька обнаружил в этих стихах еще одну особенность. Он попробовал разучить «Что растет на елке?» со своей маленькой дочкой Диной. Ежегодные январские елки по-прежнему были в стране хорошей детской традицией. Дина с удовольствием учила старые Женькины стихи и также как он с удовольствием выступала. Дочь пошла в отца.
Вот только вместо слов «советской детворы», как было написано автором еще в 1939 году, к которым привык и Женька, и многие миллионы других детей, в новых книжках было записано «российской детворы». Неужели кому-то было невтерпеж расквитаться с советским прошлым, что даже Самуила Яковлевича Маршака понадобилось поправлять?
7
Прошло не так много времени, Женька окончил десятилетку и неожиданно для всех поступил в педагогический институт. В тот же самый, в котором когда-то училась мама.
Заметно волнуясь, Женька расписался за синюю картонную книжицу – авторучка мелко подрагивала – и вышел из деканата.
– Покажи, – Римма Ивановна протянула руку.
Она стояла возле двери и тоже волновалась. Как-никак – династия.
– Да все, мам! Ну, все! Вот, смотри: иняз, группа сто три, английский и немецкий языки. Точно.
Рядом галдела стайка будущих однокашников, и Женьке не терпелось примкнуть к ним. Однако примкнуть никак не удавалось, потому что Римма Ивановна раскрыла студенческий билет и стала читать все, что в нем было записано.
Закончив, она сказала:
– Пойдем.
Женька почувствовал, как мама взяла его под руку, и покрылся румянцем. «Позоришь…», – хотелось заявить ему громко, но вслух получилось лишь тихое покорное мычание.
Они преодолели несколько пролетов, большой внутренний двор, длинный коридор, из-за арочного потолка скорее похожий на тоннель, и, наконец, вошли в старое помещение. Это была Главная Аудитория пединститута, – впоследствии Женька прослушал здесь не один десяток лекций. Университетского вида зал – до революции в здании пединститута располагалось Реальное училище – полукругом поднимался вверх. Высоко, под самый потолок, к ажурно вычурным окнам.
Мама тоже поднялась.
Потом опустилась на одно из мест.
– Здесь я сидела, – сказала она.
Потом улыбнулась и добавила:
– И ты тоже!
– Как?! – опешил Женька.
– Да просто! Когда ты родился, декан предложил мне академку. Это отпуск такой. Но я решила учиться дальше. Вот и приносила тебя сюда. Потихоньку. Даже грудью кормила.
– Здесь что ли?! – Женька, вытаращив глаза, смотрел на маму.
– А чем тебе тут плохо?..
В Поселке, привязанном к Заводу тысячами живых пуповин, каждый бывший школьник двигался в направлении высшего образования – если хотел, а мог любой, когда не лодырь, – по давно установившимся «линиям жизни». Девочки шли в учителя или врачи, мальчики – в инженеры, строители или военные. Кого-то еще изредка «заносило» в артисты или ученые. Но чтобы пойти на факультет иностранных языков? К тому же, мальчику?! На всю округу Женька был такой один!
Соседям это казалось экзотикой. Одни из них уверяли, что все дело в семейной традиции. Римма Ивановна и Нина Алексеевна хоть и не с иняза – слово какое-то странное, – но ведь учителя, несколько поколений в Поселке выучили, по улице не пройти – все здороваются. Другие считали – «пацан чудит», и скоро все наладится. Бросит «не мужское это занятие» и уйдет служить. Дважды в год Поселок сотрясали гармонистые проводы в армию. Вот это считалось делом понятным.
И никто не догадывался об истинных целях Женьки, хотя уже в 9-м классе у него появился Мотив. Именно он взял Женьку в оборот, отсек предыдущие думки: военный летчик, капитан дальнего плавания. И даже космонавт! А потом повел по своей, приворожившей на целую жизнь, тропке.