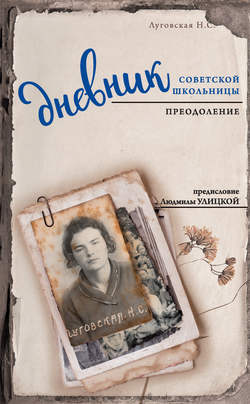Читать книгу Дневник советской школьницы. Преодоление - Нина Луговская - Страница 5
Часть 1
Дневник Советской Школьницы
1932–1937
Первая тетрадь
Оглавление‹8 октября 1932›
‹…› Сейчас половина одиннадцатого вечера. Женя[11] играет на рояле, а я спешу записать то чувство, которое у меня появляется при музыке. Я невообразимо люблю ее, но как-то болезненно и горько. Мне кажется, что невозможно выразить словами того сильного и сложного чувства, которое наполняет меня, что-то хрупкое и нежное болезненно начинает шевелиться в моей душе, приятно и больно щекочет нервы, что-то просится наружу. О, как мне хочется в такие минуты присоединиться к пению сестер, вылить все, наполнявшее меня в одном звучном и прекрасном звуке, но получается дрожащее жидкое хрипение, и я замолкаю, оставляя умирать в душе непонятный порыв. Какая-то непонятная и жгучая прелесть сквозит в разнообразных мелодиях: то шаловливых и игривых, то наполненных тяжелыми переживаниями.
‹11 октября 1932›
Сегодня у меня выходной. С утра пошла за хлебом, на улице холодно и неприветливо. Чертовски дрянное настроение, ничего не хочется делать, с досадой вспоминаю вчерашний день. Мои поступки в школе! Когда я научусь сдерживать себя? Что это – обещала не садиться близко от Левки, а села рядом, божилась не ждать его около школы, а наоборот, смотрела во все глаза. Как не сходятся разумные думы с взбалмошной действительностью.
Вчера вечером у нас был Юрка, друг Ляли[12], длинный и худой парень с некрасивым лицом. Разговор у них зашел о том, кто в кого втрескался, и откровенно сознавались все, а мне было немного странно и неприятно слышать, как они рассказывали об этом. Вообще, чертовски плохо жить, на меня опять находит хандра, минутное возрождение кончилось, и уже не тянет в школу, а голубые глаза почти не волнуют. Как я могла так неожиданно влюбиться и так скоро разлюбить. Я раньше осуждала тех, кто быстро влюбляется и охлаждается. Сейчас же странно и немножко смешно вспоминать об этом.
Зачем жить? Живи, ответят тебе, пока не умрешь. Легко сказать! Так вот в юности влюбиться, потом выйти замуж, народить детей, а к старости готовить обеды, окутывая себя беспросветным ворчанием, – и это жизнь? А разве такой хочется жизни? Хочется стать великой, необыкновенной. Мечты, мечты! Мечты – это то самое, что дает мне возможность хоть иногда бывать счастливой. О, как я люблю писать. Вот написала и успокоилась, как будто чья-то рука сложила в определенный порядок все в моей душе, так что не осталось ни одной частички, которая бы тревожила меня.
‹13 октября 1932›
Первый урок была биология. Мы пришли в кабинет, когда уже прозвенел звонок, и учительница была в классе. Алька[13] дал мне клочок бумаги и проговорил, смеясь: «Прочти объявление», – и сел на место. Я развернула и прочла: «Пятая группа сошла с ума потому, что шимпанзе втюрился в Луговскую». Как же не смеяться? Я оглянулась на мальчишек, Левка, разевая и без того большой рот, кричал: «Ну что, Луга?» Урок прошел весело и оживленно. Второй урок был физкультура, но учитель не пришел. Ребята вели себя не особенно хорошо, и скоро в класс пришла учительница из соседнего класса, по виду рабочая выдвиженка. Задав нам составить рассказ из слов: «империалисты, капитализм, оппортунисты, энтузиасты, ударники, новое общество», – она ушла, но в течение урока навещала нас. А после уроков я, Ира и Ксюша пошли к другому переулку, свернули в него и, примостившись на низком заборе, стали ждать Ю.И.[14] и Левку. На улице было особенно темно и тепло, кругом было пустынно. Мы и раньше нередко ожидали их, но подходить так близко к улице, по которой они должны были проходить, мы еще не решались.
‹14 октября 1932›
В школу я шла одна, так как опоздала, и девочки уже ушли, но я не особенно жалела об этом. На первом уроке был русский, и учительница вызвала Левку. Он вышел к доске со спокойным видом, взял мел и остановился в выжидательной позе (его изящная фигура напоминала фигурку Ю.И.) По его ответам видно было, что он совсем не занимался, и весь класс хором подсказывал ему, а я многозначительно спросила Иру: «Ты знаешь, почему ему все подсказывают?»
На немецком Левка так разбаловался, что учительница вынуждена была пересадить его на другое место, но и там он не успокоился и стал перебрасываться фуражкой с ребятами, причем раза два кинул ее на нашу парту. На следующем уроке по труду творилось что-то невообразимое. Учитель собрал всех у одного станка, чтобы объяснить его строение, но сам за чем-то вышел из мастерской. Ребята начали подставлять друг другу ножки, и нужно было видеть всю комичность их маневров. Левка вскочил на стол и хохотал от всей души, смотря, как Стаська немилосердно кривлялся и беспрестанно падал на скользкий каменный пол. Кстати о Стаське, что-то особенное подмечаю я в отношении его ко мне. Увы, как редко я вижу голубые глаза, так часто вижу карие, смотрящие на меня! Это вызывает у меня одновременно приятное и неприятное чувство, как будто кто-то слегка щекочет.
‹17 октября 1932›
Сейчас пришла мама и велела сестрам идти за продуктами. По обыкновению не обошлось без ссоры, все трое ругались, кричали, а я сидела в своей комнате и молила бога, чтобы не вспомнили обо мне. Сейчас Женя и Ляля продолжают ругаться. О боже! Право, смешно и жалко на них смотреть и подумать, до чего мы не дружны между собой. И папа с мамой нередко ворчат, а уж мы и подавно.
Мы сошли с ума! Но кто же мог подумать, что сегодня в школе случится такая вещь? Итак, день начался самым обыкновенным образом, после второго урока мы с Ирой ходили по залу, разговаривая, вдруг перед нами очутился Левка с устремленными куда-то вперед глазами. Неожиданно он перевел их на нас, причем, мне особенно ясно бросилась в глаза их мутноватая густая голубизна. «Несите книги в класс». «Какие книги?» «Да, в класс». «Мы не библиотечная комиссия». И он, и мы засмеялись и смутились. Я неожиданно поняла, в чем дело, круто повернулась и, давясь от неудержимого смеха, бросилась в класс, произнося нечленораздельные звуки: «Левка определенно заигрывает с нами».
На русском я почти ничего не слушала, какая-то магнитная сила тянула мои глаза к первой парте у окна, к светлому профилю Левки, и я, быстро перебегая с предмета на предмет, вдруг неожиданно вскидывала на него глаза. Он все чаще смотрел в окно, иногда на учителя и редко в нашу сторону. Я взглянула на Левку, он смотрел на нас и шептался со Стаськой. Каждой из нас, то есть Ире, мне, Зине и Ксюшке казалось, что он смотрит на нее, я-то, вообще, об этом распространяюсь немного, а остальные, особенно Ксюшка, трубят об этом во все рога, поэтому меня всегда охватывало болезненное чувство неизвестности, тайной надежды и разочарования. На кого же он смотрит, когда поворачивается к нам? Сегодня неизвестности не было, я встретилась с ним взглядом, и мы довольно долго, улыбаясь, смотрели друг на друга, пока он медленно не отвел глаза.
Не знаю, каким образом, но мы с Ирой решили сегодня найти дом Левки (адрес мы знали), и решение возникло как-то само собой, втайне от Ксюши и Зины. После уроков мы вышли из школы, вокруг никого, кроме нас, не было. Было поразительно тепло. «Идем», – тихо сказала Ира, и мы свернули на Девичку[15]. Вдруг по улице пронеся знакоимый крик: «Луга! Подождите». «О, скотина!» – не оборачиваясь, шептала я, увлекая подругу в темную аллейку. Ксюша не унималась, но, наконец, как-то отвязавшись от нее, мы свернули в переулок и пошли прямо к цели.
Было немножко жутко, и приятное возбуждение разливалось по всему телу. На улице было грязно и темно. Мы свернули в какой-то переулок, узкий и извилистый, с многочисленными заборами и темными проемами дворов. Но вот и наш переулок, очень небольшой с двух- и трехэтажными домами. Вот и его дом, трехэтажный, каменный, с большими светлыми окнами. Мы раза два прошли мимо него, и я не могу передать того напряжения и возбуждения, охватившего меня там. На обратном пути на Пироговской улице мы встретили Альку, который, увидев нас, удивился: «Луга!» – и засмеялся. Отойдя на порядочное расстояние, я с досадой воскликнула: «Вляпаться так глупо!»
‹21 октября 1932›
Каждый раз я создаю в своем воображении что-то благородное и простое, и каждый раз этот образ разбивается о действительность, мерзкую, но яркую действительность. Насколько чисты в моем воображении мужчины и мальчики, настолько они пошлы и развратно-распущенны в действительности. О, жестокая действительность, как она грубо и бесцеремонно касается сердца. А все-таки мне Левка порядком нравится, с его поразительно тонкой и упругой фигурой.
Вчера нас вернули в класс за плохое поведение. Левка подбежал к моей парте и, схватив со стола ручку, воскликнул: «Луга ручку забыла!» Я схватила его крепко за руку и, отняв ручку, как-то иронично и насмешливо сказала: «Спасибо». Он молча сел на место, а я еще долго ощущала его тонкую и упругую руку. Теперь меня интересует один вопрос: обращает ли на меня Левка хоть немного внимания? Конечно, это трудно заметить, но все же у меня теплится в душе искра надежды…
‹22 октября 1932›
Попробую описать этот день с мельчайшими подробностями, не упуская ничего. Итак, из дому я вышла без трех минут час. На улице было холодно и сыро. Мелкий холодный дождик моросил с самого утра. Я подошла к автобусной остановке (обычному месту наших свиданий) и решила немного подождать Иру и Ксюшу. Одной не хотелось идти, но они не шли. Дождик все шел и шел, и, казалось, нет конца этой беспросветной осенней серой мгле.
В раздевалке было мало народу и почти не было пальто. Около нашей вешалки стояли ребята из класса и несколько девочек. Я молча прошла к другому концу вешалки, медленно разделась, вложила в рукав шапку. Не хотелось одной идти в класс, но делать было нечего. Около двери на столах стояли с одной стороны Стаська и Алька, с другой – Левка. Они одной рукой брались за провод, другие соединяли между собой. «Луга, попробуй, возьмись. Давай руку». Я положила портфель и, усевшись на кончик парты, подала одну руку Альке, другую Левке. Не странно ли? Ток легкой дрожью пробежал по телу, Левка тихонько пожал мою руку. Вдруг кто-то крикнул: «Шухер», – и все, как воробьи, быстро и шумно разбежались по своим местам. Водворилась выжидательная тишина. В двери показался мужчина, оглядел нас и, проворчав что-то, ушел.
«Левка! – закричал Стаська. – Садись здесь». «Сейчас». Он взял со стола свои тетради и пересел в наш ряд, наполняя меня счастьем и потребностью открыться перед кем-нибудь. Я выскочила в зал и пошла к раздевалке, в нее вливался поток учеников. Заметив среди них красную шапку Иры, я быстро подошла к ней и радостно шепнула: «Левка сидит сзади нас». «Как?». «Раздевайся скорее». «Ты знаешь, – заявила Ира, – я предчувствовала, что сегодня случится что-нибудь необыкновенное». Я молча улыбнулась.
Но вот начался урок. Стаська сел сзади нас с Алькой. Левки в это время не было. Позднее он сел в четвертый ряд и тоже сзади нас, приходилось, чтобы взглянуть на него, оборачиваться назад. Первый и второй урок была география, учитель делал опрос, а мы весь урок географии перекидывались с мальчишками записками, хотя легко сказать, а как трудно сделать. Мы видели, что девчонки смотрят на нас и смеются, но было поздно, мы пришли в такое состояние, когда ничто уже не может остановить от глупости, которую вы делаете, зная, что это глупость. Правда, я сама не помню, знала я или нет, что это глупость, в ту минуту, вообще, я ни о чем не думала, кроме Левки и нашего веселья.
Вечер.
Дома, когда уже пришла мама, Мария Федоровна[16] рассказала одну историю, что в каком-то переулке убили в шесть часов утра отца, мать и девочку. На меня мало впечатления произвел этот рассказ, и я час спустя за своим дневником забыла о нем.
Часов в 10 в дверь кто-то сильно стукнул. «Спроси», – предупредила я маму, которая пошла открывать. «Кто?» – спросила она. «Мы», – отозвались девочки. Она отперла, Женя и Ляля вошли с суровыми лицами. «Девочки, пойдите к бабушке[17], там мы оставили вам поесть». «Нет», – глухо ответила, не глядя на маму, Ляля. «В чем дело? Что вы такие печальные?» Девочки вошли в свою комнату, я и мама за ними. «Что случилось?». «Сейчас… Не могу сказать», – проговорила, морщась, Женя, а Ляля облокотилась на стол и заплакала.
«Да в чем же дело? Папу зарезали?» «Нет». «Так что же?» «Говорите же, ведь я волнуюсь», – настаивала мама. «Маму… Шурину… убили!» «Что? Клебанскую[18]?» – с болью воскликнула мама. «Да, сегодня утром, они еще были в постели. Отцу отрубили голову, мать ранили топором в голову до мозга, а Шура жива, но она наверно…» «Да, кто же убил?» «Какой-то сумасшедший, он в их квартире живет. Шура проснулась, закричала, бросилась к окну, но он ударил ее по лицу топором».
Я стояла со спокойным лицом, какое-то непонятное тяжелое чувство охватило меня, и злость, отчаянная безнадежная злость против этого мерзавца охватила меня. О, жизнь! На память мне пришел рассказ Куприна «Искушение». Как ужасно и отвратительно! Надо вникнуть в смысл этого рассказа, представить себе Шуру, ошеломленную при виде раненной матери и борющуюся с ним. Она вчера была у нас, веселая, хорошенькая, пятнадцатилетняя девушка с громадными карими глазами и такой мягкой нежной кожей на лице и руках, такая веселая и немножко легкомысленная. Мне припомнился их разговор с Женей. О, ужас! Что с ней теперь, она в больнице.
Меня как-то оскорбляла мысль, что жизнь пойдет после этой трагедии своим чередом. Женя собиралась рисовать, Ляля легла спать, мама еще что-то, как будто ничего и не было. Как ужасно, как будто ничего не случилось. Меня охватило острое желание убить этого мерзавца, которого, наверно, не убьют, потому что он сумасшедший. Даже не верится! Сейчас мне кажется такой ничтожной и мелкой моя радость и все события этого дня по сравнению со случившимся, ужасным, но ясным и важным.
‹24 октября 1932›
Как скучно, бесконечно скучно и пусто кругом. Левка, по обыкновению, ноль внимания, фунт презрения, глаза его устремлены куда-то мимо. Я несколько раз разговаривала с ним, это меня несказанно смешит и (зачем же врать) порядком радует, меня как-то приятно волнует, когда его глаза смотрят на меня. На уроках я все время дралась с ребятами и, вообще, очень хорошо себя чувствовала. На немецком Левка немилосердно мне подсказывал, и я, обернувшись к доске, еле сдерживалась от смеха.
Но когда мы пошли в мастерскую, я чувствовала себя уже неважно. Напевая арию Кармен и глядя перед собой, вяло пилила, боль и досада сжимала мое сердце. Ксюша, обняла и, чуть улыбаясь, смотрела на меня. Я всматривалась в ее ясные голубые глаза, вся отдавшись какому-то щемящему чувству, и тихо напевала: «Меня не любишь, но люблю я и берегись любви моей». Ксюша, слегка подняв свои тонкие брови и смеясь, говорила: «Нина, плакать хочется». Я понимала ее, и было нестерпимо приятно чувствовать, что есть человек, который видит, что творится в твоей душе, и пытается помочь.
Когда мы возвращались домой, нас всю дорогу занимал вопрос семейных отношений Ю.И. Так хотелось представить ее в домашней обстановке, да и не только ее, но и Левку. Когда мы расстались с Ирой, Ксюша спросила меня: «Что мы, с ума сошли?» «Да, совсем сошли, Ксюша. Ах, этот Левка, хоть бы его не было». «А что он чувствует? Наверно, ничего или же то же, что и мы?» «А он смотрит на нас». «Разве он так смотрит, как мы». На одной из перемен в драке с мальчишками Левка ушиб глаз, и мне было нестерпимо жаль видеть, как он, прикрывая его рукой и покраснев, шел в класс. Какая-то нежность зашевелилась в душе при виде этого тоненького миниатюрного мальчика со светлыми волосами и раздосадованным лицом.
‹27 октября 1932›
Ничего особенного в моей школьной жизни нет. Левка? Но у меня, кажется, все кончилось. Сегодня, не раз поймав его взгляд, я ничего не чувствовала, кроме легкого удовольствия, и, заметив его взгляд на других девочках, я почти не обращала внимания. В общем, довольно скучно. На последний урок пришла Ю.И. с Кирюшей (брат Левки). Ира рассказала мне, что Левка, увидев малыша, бросился к нему, поднял на руки и поцеловал. Я не могла этого видеть, но, когда я, уже одевшись, шла из раздевалки, то увидела Левку, стоящего около двери с Кирюшей. И опять назойливый вопрос всплыл в голове: «Каковы их семейные отношения?» По крайней мере теперь я знаю, что Левка любит Кирюшу.
Вчера я была в театре на «Сверчок на печи». Вначале мне эта вещь не очень понравилась, но оригинальная разведка дополнила картину. В антракте мы с Ирой пошли в фойе, смешиваясь с толпой шелковых и ярких платьев, и на меня неприятное впечатление производили эти тряпки, в которые с таким удовольствием облекались женщины.
‹31 октября 1932›
На четвертом уроке было пение. Мы, по обыкновению, сели так, чтоб видеть Левку. Он сидел рядом с пианино и посередине урока начал писать мелом на крышке: «Луга!» И так без конца писал, смотрел на меня и смеялся, показывая симпатичные продолговатые ямочки на щеках. Когда мы шли на четвертый этаж, Левка очутился впереди нас, но подождал, когда мы пройдем, и пошел за нами.
‹1 ноября 1932›
У меня сейчас появилось новое желание – это учиться играть на рояле. Недурная, конечно, идея, но невыполнимая. А как хочется! Сегодня вечером Женя и Ляля, придя из института, играли на пианино и пели, я присоединилась к ним. На душе было как-то легко и спокойно, я люблю такое состояние наплыва необузданной доброты. В общем, меня частенько тревожит мысль о том, что без умения играть я буду плохо чувствовать себя на будущих вечеринках. Да, я совсем не представляю, что буду там делать, и мне немного страшно и любопытно.
Тянет ли меня эта веселая жизнь? Да, тянет определенно. Под звуки фокстрота и тому подобной музыки мне невольно рисуется картина с оживленной молодежью, веселой, но не легкомысленной, и я мечтаю быть душою общества, но только мечтаю. Разум же мне говорит твердо и настойчиво, что я не гожусь, да, не гожусь в эту компанию остроумных людей с живым умом и высокими побуждениями. И, твердо веря в одно, я продолжаю думать о другом и рисовать блестящие перспективы в будущем. Мечты, мечты! О, неужели каждая девочка в моем возрасте мечтает также? Если да, то последние надежды гибнут, если нет, то, может быть, я еще буду жить, как мне хочется, познаю счастье жизни и молодости.
‹2 ноября 1932›
Только что написала три первых слова, как меня мама позвала пить чай. Оставив дневник на столе, я пошла к ним в комнату, была половина двенадцатого. Я маме весело рассказывала о школе. Мы вместе смеялись и шутили. Вдруг в дверь раздался резкий сильный стук. Бетька[19] неистово залаяла, я быстро вскочила, меня всю передернула нервная судорога, как это иногда бывает при неожиданном шуме. «Кто?» – спросила я, подходя к двери и беря одной рукой Бетьку за шиворот.
Грубый мужской голос крикнул: «Дворник». Я поняла, хотя в душе еще шевелилось сомнение и, отпустив Бетьку, с легким колебанием открыла дверь. В коридоре свет не горел, на лестнице тоже было темно, и я рассмотрела лишь неясные очертания мужской фигуры в потрепанном пиджаке, в фуражке и с большими усами. Дальше мелькнуло другое мужское лицо. Я, может быть, на секунду только приостановилась, размышляя: «Да или нет», – но потом отступила в сторону, пропуская мимо себя дворника, двух военных и двух простых красноармейцев.
В это время в дверях комнаты показалась мама. «Кто здесь живет?» – спросил первый мужчина (русский), в новой, с иголочки шинели. «Луговская». «А Рыбин живет?» «Да», – мама указала на папу. После ряда формальностей этот же военный вытащил из шинели два листа бумаги, развернул их и, передавая один папе, а другой маме, проговорил: «Это вам, а это вам». «Сколько вы комнат занимаете?» – спросил он маму. «Да всю квартиру». «Значит, все комнаты ваши?» «Вестимо, – вмешался дворник, – раз говорят вся квартира, уж значит вся ихняя».
В это время военный спрашивал у папы: «Есть ли у вас какая-нибудь переписка?» «Переписка? Нет, пожалуй, ничего нет», – отвечал папа спокойным голосом со слегка презрительным видом. «Ну, а литература?» «Вот вся, – он открыл небольшой желтый шкаф и указал на две нижних полки. – Ищите».
«Ну, а мы пока пойдем в следующую комнату», – заметил другой военный, в кожаной рыжей куртке, в такой же фуражке и в широких синих штанах. «Пожалуйста». Он прошел в Женину и Лялину комнату, снял куртку и, положив ее на стол, принялся ворошить книги и тетради. Я стояла в коридоре, грызла ногти и спокойно смотрела, как производился обыск, скрывая в душе злость и ненависть к этим двум людям.
Меня поразила в их лицах поразительная несимпатичность. Первый в шинели был блондин с серыми проницательными глазами, тонкими губами, при улыбке слегка растягивающимися вниз, что делало его лицо очень неприятным; второй невысокий, в куртке, оказался евреем невысокого роста с коротко постриженными черными волосами, типично еврейским носом и маленькими карими глазами, цвет лица его был ярко розовый, а на совсем гладкой коже неприятно обозначалась сбритая борода.
Я прошла в комнату и села на постель, продолжая грызть ногти и стараясь унять дрожь в ногах. Вдруг я услышала голоса девочек, быстро вскочив, я бросилась в коридор: «Девочки пришли». Они со спокойными лицами вошли в помещение и разделись. Мама взглянула на них и сделала многозначительную мину: «Хотите поешьте, хлеб в кухне». Мы прошли туда, и пока Женя и Ляля ели и пили чай, я рассказывала о происшедшем. Волнение тихонько закралось мне в душу, и дрожь в ногах усилилась. В комнате продолжался обыск. Ляля села и начала рисовать карикатуры, Женя принялась за какую-то книгу, а я, сидя рядом с ней, посматривала то на этого еврейчика, то на дворника, то на Лялю, то на маму, которая сидела на стуле с бледным лицом.
На каждое замечание военного мы отвечали какой-нибудь колкостью и посмеивались. Например, он достал копилку и, улыбаясь, заметил: «Большие, наверное, здесь сбережения?» «Очень», – поспешила ответить мама. «Можно ножичком вынуть», – выпалила Женя, и в ее голосе чувствовалось легкое презрение и насмешка. Или он слазил на шкаф и порылся там в пыльных бумагах. «Запылились, наверное». «Да, есть немножко. Надо предупреждать перед приходом». «Хорошо, в следующий раз предупредим». «Еще больше подсыпем», – заметила вполголоса мама.
Время шло довольно медленно. Ляля боялась за свой дневник, а я еще больше за свой – как вспомнила, что у меня там написано, так жутко становилось. Когда он перешел в мою комнату, напряжение дошло до последней степени. Мы остались втроем в комнате, дверь была открыта. Проходивший по коридору красноармеец посмотрел на нас и улыбнулся. Вскоре в мою комнату пришел и второй следователь. Папа ходил по коридору.
Покончив с комнатой, блондин перешел в коридор, он был без фуражки, и я заметила на его голове шапку густых волнистых волос. Он открыл шкаф для белья и расталкивал ногой грязную старую обувь, не нагибаясь. Потом перешел к сундуку и открыл крышку. Содержимое ящика оказалось не особенно чистым, и следователь, обернувшись к маме, сказал: «Переберите, пожалуйста». «Это не входит в мои обязанности», – отрезала мама. И дворник принялся выкладывать грязные валенки. Мы все собрались в коридоре и с усмешкой следили за действиями сыщиков. Но вот обыск окончен, и все собрались в маминой комнате (кроме нас троих). Я ходила мимо открытой двери и из отрывков слов составляла себе понятие о теме разговора.
Перед самым концом, около 3-х часов, мы, усевшись на кровати, напряженно ждали: «Возьмут или нет». Минуты проходили долго, в папиной комнате было совсем тихо. И вот послышались шаги, все пятеро гостей вышли в коридор. «До свидания!» «Заходите почаще». Они засмеялись и хлопнули дверью. «Ура! Все в порядке». Утром в школе мне нестерпимо хотелось рассказать о происшедшем Ире и только перед концом уроков я забылась.
‹5 ноября 1932›
Сегодня нас погнали маршировать по улицам, что меня разозлило донельзя, и еще больше раздражало бессилие, в котором я находилась. Идти по грязной холодной земле, в сыром тусклом свете осеннего дня, постукивать на остановках замерзшими ногами и ругать советскую власть про себя со всеми ее выдумками и хвастовством перед иностранцами… и морщиться от разноголосого и нестройного пения. Я твердо решила не идти на демонстрацию, и это отчасти немного успокаивало мое оскорбленное самолюбие.
‹8 ноября 1932›
Поразительное событие. Сейчас ко мне пришла Ира и никак не могла попросить меня, чтобы я рассказала ей о том, что случилось у нас 2-го ноября. О, ребенок! Я отвечала на ее вопросы, пока она не догадалась, и тогда случилось что-то невообразимое – какое-то другое выражение появилось на ее лице. Она боялась произнести это слово, хотя для меня оно не представляло ничего особенного. Да, она была мала еще, чтобы слушать такие вещи.
О, как мне было смешно смотреть на эту девочку, которая считает чем-то неприличным говорить об обыске. О бог мой, как могут быть наивны люди, Ха-ха! Она не ожидала этого, и, вероятно, с содроганием думает теперь, что ее папу возьмут за то, что она бывает у меня. У меня! У которой был обыск. Ха-ха!
‹12 ноября 1932›
За последнее время все вошло в свою колею и совсем нечего писать. Вчерашний день отличался только похоронами Сталинской жены Аллилуевой. Народу было масса, и немного неприятно становилось, глядя на веселую, оживленную толпу любопытных, с веселыми лицами толкающихся вперед, чтобы взглянуть на гроб. Мальчишки с криками «Ура!» носились по мостовой, топая ногами. Я ходила взад и вперед, прислушиваясь к разговору прохожих, и мне удавалось уловить несколько слов, в которых звучали удивление и немного ехидная ирония. Мне как-то не жаль было эту женщину – ведь жена Сталина не может быть хоть мало-мальски хорошей, тем более, что она большевичка. И зачем такой отчет, объявление в газете – это еще больше восстанавливало против нее. Подумаешь, царица какая!
Вообще, странно слышать, что у Сталина есть сын и была жена, я никогда не представляла его личной жизни и их семейных отношений. Вечером, когда пришли Женя и Ляля, я почему-то на всех немилосердно злилась, так действовали на нервы их оживленная болтовня, смех и нескончаемые восхищения катафалком Аллилуевой. Они начали рассказывать про свой институт, про рисование, и опять во мне заговорила зависть к ним, возможно, не зависть, а что-то в этом роде. Они умеют и рисовать, и петь, играть на рояле, танцевать, мало ли еще других вещей, которых я не умею и, знаю, никогда не сумею сделать. А чем я хуже их? Остается одно это несчастное писание, от которого ни пользы, ни проку нет, кроме пустой траты времени. А время так нужно, на все, за что ни возьмись, нужно время.
‹14 ноября 1932›
Вчера вечером я ждала маму, которая пошла в театр. Было уже половина первого, а она не шла. Наши все легли спать. Я поставила на керосинку чайник и, одевшись, влезла на окно и стала смотреть в открытую форточку. На улице было пустынно и тихо, редко когда по промерзшей земле начинали стучать чьи-нибудь ноги. Я прислушивалась к этому стуку, но мамы все не было. Замерзнув, я слезла с окна и села в коридоре на пол, укутавшись в пальто. Бетька была тут же, сидела рядом со мной и внимательно прислушивалась. В уголках ее карих глаз по временам вспыхивал и переливался красный огонек.
Я была почти уверена, что мама не придет, что она попала под трамвай. Я предполагала, что я буду делать без нее и стоит ли вообще жить. Стук парадной двери, гулко раздавшийся на лесенке, заставил меня вздрогнуть. Бетька приподняла уши, понюхала под дверью и кончик ее опущенного хвоста неуверенно закачался. Я подошла к двери и, приложив ухо к замочной скважине, напряженно слушала. До меня долетели чьи-то тяжелые шаги. Бетти села и тихо заскулила. Это была мама!
‹16 ноября 1932›
Вчера мне пришлось сидеть с Левкой почти рядом. Я уже, кажется, писала, что он в своих симпатиях очень непостоянен (как с девочками, так и с мальчиками), и это совершенная правда. Он, к величайшему смеху с нашей стороны, о чем-то заговаривал со мной и вообще дурил порядком.
Сегодня я маме сказала про вечеринку и, как я и думала, она не имеет ничего против и даже, кажется, одобряет. Я рассказала ей все откровенно, что относилось к делу. Сейчас выстирала платье, в котором пойду, оно у меня единственное, сушу его над керосинкой. Потом, одевшись, пошла сначала к бабушке, чтобы поесть, а там была Ляля, и она, слегка лукаво прищурившись, заметила: «Что, Нина, на вечеринку идешь?» «Да», – преувеличенно холодно и небрежно ответила я.
К Ире я пошла в половине шестого; она была, конечно, еще дома и, к моей радости, совсем не наряжалась. Проходили минуты, а Ксюша все не шла; я уже начала волноваться, но вскоре она пришла, и мы все тронулись в путь. На улице было приятно прохладно, тускло светили фонари, и я старалась не думать о вечеринке, наполняющей меня каким-то неясным волнением. Ксюша тоже боялась. Но вот мы у цели, подошли к дому Наташи, где должна быть вечеринка. Поднялись на пятый этаж, за нашей дверью чудился шум и смех. Ира позвонила, мы вошли в переднюю и огляделись.
В комнатах еще никого не было. «Неужели же мы первые?» Да, нет, были еще девочки. В большой комнате, куда нас пригласили, стоял рояль, а по стенам висели многочисленные зеркала. Мы сели, не зная, что делать и о чем говорить. Ксюша очень стеснялась и даже немного раздражала меня этим. К счастью, все скоро пришли, кто-то сел играть на рояле, а мы начали играть в лото, и я удивлялась, как развязно Алька себя вел среди девочек. Скоро пришли Ю.И. и Левка. Я, искоса оглянувшись, увидала обращенное на нас его лицо в модной фуражке с длинным козырьком. «Он опять в галифе», – шепнула мне Ира. «А, Левка! Я бить тебя буду», – закричал Алька, а когда тот разделся и сел рядом со мной, то он спросил Левку: «Что ты не приходил, я ждал тебя». «Я мать ждал, она меня одного не пускала».
Через некоторое время к нам подошла Ю.И.: «Бросьте эту игру, давайте бегать и смеяться». Она сложила карточки и погнала нас в другую комнату. Там, встав в круг, мы стали играть в «щетку». Сколько смеха! Я была не очень оживленная, сначала просто не освоилась, потом уже намеренно. Потом мы играли в шарады и в фанты, и мне досталось быть оракулом. Пришлось подчиниться, и когда ко мне подводили ребят с вопросом: «Что этому?» – то я старалась ответить с юмором, например: «Отрежет ноги трамвай». Все смеялись.
Сначала я отвечала ничего, потом пошло все хуже и хуже, я уже не знала, что придумать и что отвечать, чувствуя, что невыносимо краснею под шалью. Ю.И. пыталась подсказывать мне, и я так была ей благодарна. Ксюше досталось подойти к кому-либо и поцеловать, а она выбрала меня. Поставили ряд стульев друг против друга, посадили ребят и завязали Ксюше глаза. «Луга, давай поменяемся», – предложил мне Алька. «Давай». Я посадила его на свое место, накрыла его шалью, а сама села на его место. Вот подошла Ксюша, обняла его сильно и искренне, намереваясь поцеловать. Я с силой потянула ее назад, оттащила его и быстро села на свое место, но она Альку заметила. Боже! Сколько же хохота было! Алька слегка покраснел и, садясь на место, заметил: «А она обнимается».
За чаем мы сидели недалеко от Левки и Альки, и мне не было скучно. Я, как всегда, молча наблюдала за всеми, чувствуя себя вполне хорошо. Ира старалась острить, и эта разговорчивость с ее стороны оставляла во мне какой-то неприятный осадок. Потом были танцы, и как же я жалела, что ничего не умею: ни играть на рояле, ни танцевать. Левка тоже не танцевал и все время стоял около рояля, облокотившись рукой о крышку в артистической позе. Когда опять стали играть в лото, он встал рядом со мной, и я слегка касалась его колен. В общем, мы прекрасно провели время, и хотя я не люблю всякие игры, это не помешало мне хорошо повеселиться.
‹17 ноября 1932›
Ужасно сегодня в школе было скучно, совсем неинтересно. Это, кажется, первый день, когда я осталась недовольна школой. Сидя в солнечной комнате, мне вдруг вспомнилось летнее время, когда еще был перед ее окнами ресторан. Я вспоминала ряд ярких огней вдали и неясные силуэты людей, темный сад с узкими аллеями, молодые, так ласково трепещущие тополя, гирлянду синих и красных огоньков и фонтан, жемчугом разлетающийся в бассейне, в котором так очаровательно отражались фонарики и парочки. Какой-то неведомой, беспечной и заманчивой жизнью веяло на меня из этого сада, когда я стояла в темной комнате у открытого окна и вдыхала теплый ночной воздух с опьяняющим ароматом душистого табака. Тогда мое сердце неспокойно билось и волновалось.
В те дни, когда ночи были так прекрасны, я не раз, сидя в темноте на окне, начинала думать о Левке. Тогда этот образ вызывал во мне жгучую боль и краску на лице, тогда эта миниатюрная фигурка в смешных коротких брючках так ласкала воображение, и кажущиеся громадными голубые глаза переворачивали все внутри. Но это прошло. Ночи стали холодные, глаза поблекли, и сердце оставалось спокойно, когда они смотрели на меня. Я теперь равнодушна. И боже мой! Какое счастье было и что осталось. Поневоле поверишь, что любовь – великая вещь.
‹24 ноября 1932›
Любовь прошла, в душе осталась лишь слабая тень, отголосок этой любви. Меня уже не тянет в школу, и я не раз подумывала остаться дома. Зачем мне теперь школа? Как ни странно, она нужна мне была только для одного, а «это» прошло почти бесследно. Левка производит на меня впечатление только тогда, когда он рядом бегает, смеется, бузит. Но стоит скрыться этой фигурке, и обаяние проходит. Левка между тем вел себя сегодня немного странно, он не раз глядел в нашу сторону, чему-то смеялся и шептался с ребятами. Я все замечала, но так, что он этого не видел, чаще всего обо всем сообщала мне Ира, которая постоянно глядит на него. Ей, кажется, нечем рисковать, она и Зина думают, что он глядит только на меня, я иногда тоже так думаю, но не уверена. Может, с его стороны это просто шутка, насмешливая шутка! Я, как мне кажется, хорошо разыгрывала равнодушие, когда он отпускал всевозможные остроты, чтобы привлечь внимание (кажется, мое). Ира шептала мне: «Он все делает, чтоб ты на него посмотрела». Я или молча кивала головой, или коротко отвечала: «Знаю».
‹25 ноября 1932›
Сегодня в школе на втором уроке Гиря[20] начал бросаться хлебом, я в это время рылась в книжках, и вдруг сильный удар в висок заставил меня поднять голову. Мне не было больно, но как-то ошеломляюще подействовал на меня этот удар. Я, кажется, даже слегка выругалась и сердито осмотрела класс. Гиря стоял у доски со слегка поднятой рукой, его наглое лицо не смеялось, а было как будто удивленно. Левка сидел на скамейке около окна и смотрел на меня серьезно и даже с участием. «Гиря, ты очумел?» – тихо сказал он, и в его словах выражалось все то, что было написано на его лице. Я слегка столкнула большой кусок черного хлеба, который, отскочив от моей головы, упал к ногам, потом спокойно начала рыться в тетрадях. В голове пробегали обрывки мыслей, все внимание мое было устремлено на то, чтобы сохранить наружное спокойствие, но вместе с оскорбленным чувством в душу мою вливалась искорка радости и легкого, приятно ласкающего удовольствия от заступничества Левки, от его серьезного взгляда.
На уроках я почти не смотрела на него, лишь мельком или урывками, хотя один раз мы встретились с ним глазами. Раньше я не понимала выражения – встретились глазами, но теперь понимаю это чувство, будто сталкиваешься взглядами, и эта встреча легким толчком отдается в сердце. Как-то сильно и всем своим существом чувствуешь, что эта пара темных сероватых глаз смотрит именно на тебя. Когда мы пошли домой, шел сильный снег. Мокрые белые хлопья липли к одежде и кололи лицо. В воздухе стоял сырой туман, сквозь покров снега проглядывали черные следы ног и лужи, наполовину заваленные. Девичье Поле было все белое, лишь кое-где тонко вырисовывались на снегу силуэты березок и голые сучья кустов.
‹27 ноября 1932›
Зима, зима. Я, кажется, никогда так не наслаждалась зимой. Какая чудесная картина: снег-снег, белые рыхлые кучи стоят по бокам дороги, и светло-желтой дорожкой вьются тротуары. Небо серое и печально спокойное. И деревья, и дома, и земля – все находится под покровом снега. Идешь, разговариваешь и вдруг видишь группу деревьев, стоящих как-то особенно неподвижно, с растопыренными ветвями. Толстый белый слой на этих ветвях, сквозь их сетку просвечивает дом, большей частью такой же неподвижно спокойный, освещенное красноватое окно и эта паутина серебряных переплетающихся нитей деревьев, сквозь которые немного туманно очерчиваются здания. Поглядишь на синеватый сумрак, плавающий кругом в застывшем воздухе, на белую легкую пелену, и как-то особенно щемящее весело и радостно станет на душе.
Коньки, лыжи. Быстро представляешь себе блестящий гладкий лед, оживленную толпу, тихое поскрипывание коньков; или безразличное белое поле, лес, заваленный снегом, неподвижные деревья и легко скользящие по волнообразной горе тонкие лыжи. Странная вещь жизнь. Одно время я как-то свободно отдавала себе отчет во всем, а сейчас при всем желании не могу. Вот понимаешь, что это любовь, а вот это радость, а это еще что-то, но ко всему примешивается какое-то странное чувство, которое таится в самой глубине души. И не показывается вполне, а так, какой-то неясной тенью. И объяснить его я не могу, хотя не раз старалась заглушить его.
‹5 декабря 1932›
Боже мой! За последние дни я, наверно, раз десять успела проклясть школу. Ни минуты свободного времени. Как ни обидно, приходится отступать даже от намеченных мною правил и учить биологию. Ну, думаешь, все, а глянь, завтра география, потом математика. А так хочется писать, читать, играть на рояле, да и нередко и помечтать, и ни минуты свободного времени.
Сегодня я проснулась в восемь часов, надо было учить биологию. На улице еще не рассвело, я лежала в легкой полудремоте, уткнувшись в прохладную подушку и наслаждалась этими минутами покоя, которые так нестерпимо хотелось продлить, чего нельзя было делать. «А может быть остаться?!» – мелькнула в голове предательская мысль. Она росла. Я перебрала в уме уроки, которые должны были быть и сонно соображала, что мне делать? Один голос настойчиво говорил, что надо идти, что один день уже имеет значение, а другой, хотя и слабо, но так соблазнительно шептал: «Останься, останься». И в голове рисовались неясные картины покоя, ничегонеделания целый день или, вернее, занятия своими делами. Некоторое время я была целиком во власти второго голоса, но разум победил желание. Я встала и засела за учебу, но что-то все утро говорило мне, что опроса не будет, и хотя я учила, но как-то спокойно, не волнуясь и не торопясь.
В школе меня также не покидало спокойствие, хотя девочки и твердили, что опрос будет, но я как-то не верила в это и была совершенно спокойна и уверена, что со мной ничего не случится. Предчувствие оправдалось, и я в душе ликовала. Да, что-то случилось с Левкой, он стал такой хулиган, что даже мне, смотрящей на его выходки сквозь розовое покрывало личного расположения, становилось неприятно. Я как-то не смогла привыкнуть к тому, чтобы видеть его в куче хулиганов, не могла равнодушно смотреть, с каким дерзким и нахальным видом обращается он с учителями. Немного огорчало и обижало, что мой кумир начинал падать с той высоты, на которую его поставило мое воображение и благопристойный внешний вид.
‹8 декабря 1932›
Вот уже два дня сижу дома. Скучно, вернее не скучно, а как-то немного странно, как будто чего-то не достает… Прервана связь между прошлым и будущим, образовалась пустота, которую уже не заполнишь. Читаешь, а где-то в глубине мозга стучит и ползет нескончаемой нитью мысль о школе: «Вот не пошла в школу, а там занимаются, идут объяснения, совершаются события, которые я уже не увижу». В душе шевелится легкое сожаление и досада, и так целый день.
Я не особенно скучаю по школе, но как-то длинно идет время. Вчера я утешала себя тем, что пропускаю школу, мол, из-за болезни, но сегодня температуры у меня уже нет. Вечером, правда, сестры, попробовав мою голову, уверяли, что у меня жар, и я как-то смущалась в их присутствии, чувствовала на себе их взгляды и неожиданно невпопад начинала смеяться, краснела, вскакивала и ходила по комнате, невольно возбуждая их подозрения. «Ты что, влюблена, Нина?» – спрашивала Ляля, я отвечала шуткой, а в душе говорила себе, смеясь: «Ведь совесть моя чиста?» Сама все-таки не знала, чиста ли.
‹15 декабря 1932›
13-го Левки в школе не было, а без него так скучно и пусто; вчера же, когда я входила в класс и по обыкновению взглянула на парту у окна, я с удовольствием увидела его. Что ни говори, но я соскучилась, а может, просто привыкла, глядя на парту у окна, видеть светлый затылок, или сияющее хорошенькое лицо с хитрыми серыми глазами, или, гуляя по залу, следить за мелькающей фигурой в коротких смешных брюках, что вдруг не увидеть его в толпе ребят или не услышать его разбитного голоса кажется просто невозможно. На уроке физкультуры мы столкнулись с Зиной так, что я выбила себе зуб и сильно ушибла нос. В начале следующего урока, когда мы уже сидели, я заметила, что около нашей парты вертится Левка, который неуверенно топтался, потом медленно отходил, поглядывая на нас. Наконец, он подошел и спросил, показывая черную ручку Иры: «Чья это ручка?» Я не могла удержаться и, уткнувшись в парту, неудержимо смеялась, говоря себе: «Выдал, он себя выдал с ног до головы».
‹21 декабря 1932›
Командир взвода у нас Левка, в его обязанности входит приводить группу на четвертый этаж, построить ее и, отдав ряд приказаний, принимать рапорты командиров отделений. Я была командиром второго отделения, он подошел ко мне и, пока я говорила, смотрел в сторону, потом немного смущенно и растерянно спросил: «А где рапорт, ты мне должна письменный рапорт». «А у меня нет, я не успела еще». Он прошел мимо, а я, смеясь, смотрела ему вслед. Когда нам говорили отметки, Левка что-то сказал мне, но я по обыкновению не расслышала вопроса (я редко слышу, что говорит мне Левка) и, бессмысленно улыбнувшись, отвернулась. Меня постоянно интересуют его глаза: когда не видишь их, он мальчик, как мальчик, но стоит посмотреть ему в глаза на довольно близком расстоянии, то создается такое впечатление, будто они мерцают, и там в глубине загораются и гаснут огоньки. На немецком Левка сидел на первой парте, и я зорко следила, стараясь подметить в его поведении что-то особенное. Я теперь больше, чем всегда, боюсь смотреть на него; скорее, не боюсь, а не могу, стоит мне лишь на минуту взглянуть на него, как тотчас какая-то сила заставляет отворачиваться. Весьма любопытно и забавно – сижу на уроке и верчу глазами то на него, то от него.
‹30 декабря 1932›
Вчера распустили нас на каникулы. Желание, которое за последнее время целиком овладело мной, исполнилось. Какое блаженство не думать некоторое время о школе, не рыться в тетрадях, не зубрить древнюю Вавилонию или физические свойства почв, не откладывать больше писания дневника, за который я не бралась последнюю неделю. До чего приятно ощущение полной свободы: захочешь, будешь рисовать, захочешь – писать или читать, а то, подхватив коньки, уехать на каток, куда так манит матово прозрачный лед и мчащиеся стрелой фигуры. 9-го опять будет вечеринка у Ю.И., мне немного жутко, хотя я и стараюсь прогнать страх, но все же при воспоминании об этом в глубине души начинает что-то слегка покалывать.
Ровно с 24-го я не бралась за дневник, откладывая все на каникулы. Это был странный день, какого я не помню в своей жизни. Во-первых, был день моего рождения, и мне было неприятно больно мое равнодушие, с которым я отнеслась к подаркам, было немного стыдно перед мамой, и все это от того, что Ю.И. вздумала устроить вечеринку. Еще раньше я решила не идти, но когда появилась возможность сделать это, и я очутилась в положении добровольного заточения, чувства мои начали двоиться. К концу занятий мне уже так нестерпимо хотелось на вечеринку, что я еле сдерживала себя, старалась заглушить голос, который уговаривал остаться.
Я решила пойти, но мама оказалась против, и я должна была остаться дома. Весь день я была сама не своя, ничего не делала, ходила по комнатам и чуть не плакала от досады. К вечеру я все-таки вырвалась на несколько минут к Ире, и когда вернулась домой, настроение было веселое и спокойное – все как рукой сняло. Хотела написать много, но нет уже настроения. Хочется написать какой-нибудь рассказ, но нет сюжета. Порой проносится что-то в голове, но неясное и туманно-бесформенное.
‹4 января 1933›
Новый год прошел для меня совершенно обыденно. Как всегда, читала книгу и ждала маму, а около 12 часов ночи мы пошли домой. В двенадцать играли «Интернационал» и мощно пел хор. Ох, люблю я эту песню! Вот и начался новый год. Я два раза была на катке, и сейчас сильно болят ноги, по обыкновению занимаюсь ничегонеделанием и страданием о пропавших зря часах – к сожалению, это у меня бывает всегда и отделаться трудно.
Так жаль, например, сегодня было покончить со своим воображением, и я не покончила. Читала у бабушки Чехова только потому, что в комнате все время кто-нибудь находится, но и читая, ухитрялась думать о другом. У каждого есть свои недостатки. Например, как хочется сделать сразу и прекрасный рисунок, и написать что-нибудь хорошее, и хорошо играть на рояле, и много читать. Попробуй ухитрись. Мудрено! Кроме того, еще ходьба за картошкой в магазин, занятия немецким языком, поход на каток.
Скоро вечеринка у Ю.И., Ирина не идет, я тоже хотела не пойти, но заговорило вдруг самолюбие, мне стало стыдно, что без нее я не могу, так что решила идти, хотя и страшно. О Левке я почти не думаю, а думая, представляю его очень смутно и туманно, хотя это еще не значит, что я к нему равнодушна. Хорошие глаза у него и у Ю.И., люблю их и сама не знаю, у кого больше.
‹10 января 1933›
Вчера около пяти часов вечера я шла с замиранием сердца к Ирине: «Пойдет или не пойдет?» Сумерки незаметно сгушались, но что мне было до этого. Я вошла во двор, поднялась по лестнице, вошла в сени и постучала в дверь. Через минуту мне открыли. «Ирина дома?» «Дома, дома». Я прошла в столовую. Ирина была одета в белую блузку и красный джемпер, на груди она приколола изящную брошку. Я, уже не сомневаясь, спросила: «Идешь?» «Иду». Я была счастлива. Мы выскочили из дома и пошли к трамваю. На остановке по требованию мы слезли и пошли по улице к дому Ю.И. «Ой, страшно!» Но делать нечего, не стоять же все время на лестнице, я собралась с духом и постучала.
У дверей раздался голос Ю.И., она открыла, и мы вошли в длинный коридор. «Раздевайтесь, девочки», – сказала она, после чего провела нас в свою комнату. Какое-то время чувствовалась неловкость, и общий разговор как-то не вязался, но вскоре пришли другие девочки, с ними же появился Левка, впрочем, он вскоре скрылся, но нам стало уже как-то веселее (на меня удручающее впечатление произвела квартира Ю.И.; может быть, потому, что вокруг шныряли чужие люди или же виной была скука, которая сначала овладела всеми нами). Потом мы перешли в столовую, а оттуда в небольшую комнату. Постепенно мы разыгрались, а когда стали пить чай, настроение почти у всех было приподнятое и веселое, все ели с аппетитом. Перед уходом Ю.И. собрала нас в комнате и начала разговаривать о школе и о наших ребятах. Я, почти не моргая, смотрела в голубые глаза Ю.И. и внимательно слушала ее, а потом вышла на улицу с чувством тихого счастья.
‹18 января 1933›
Перед концом каникул, дня за два до начала занятий, мною овладело вдруг ужасное отвращение к учебе и школе. Так не хотелось идти туда, заниматься зубрежкой уроков, в то время как эти часы можно употребить на чтение интересных книг, которыми я за каникулы начала увлекаться. Теперь придется отрываться от этой жизни и заменить ее скучными уроками. Последнее время я живу, придерживаясь двух правил, до того улучшающих мое положение, что я нередко просто бываю довольна. Первое правило образовалось из пословицы, что «ученье горько, но плоды его сладки». Когда мне становится особенно невыносимо, моментально в голове где-то в глубине промелькнет эта фраза, и я успокаиваюсь. Другое правило заключается в том, что я живу сейчас будущим, например, захочется вдруг есть, сразу говоришь себе: «Ничего, в будущем будет лучше». Или нестерпимо захочется пить так, что начинает жечь в желудке, но, подавляя желание, скажешь себе: «Скоро появятся много конфет, тогда можно будет пить сколько хочешь чаю». Иногда мне так хочется читать, а надо делать уроки. Как быть? В душе поднимается досада, но… ничего, говоришь себе: «Ученье горько, но плоды его сладки, настанет время, когда можно будет делать только то, что самой хочется, не думая о школе».
В школу я пошла в новом платье. Сначала было неприятно, но я заставила себя думать по-иному и, отбросив предрассудки в сторону, не обращала ни на что внимания. Оба эти дня, которые я проучилась, в школе был невыносимый холод, такой, что ручка вываливается из посиневших рук и по телу пробегает мелкая лихорадочная дрожь. Левка постригся и стал такой смешной и нехороший. Глядя на него, я невольно вспоминала Женю и Лялю года три-четыре тому назад, когда они, смеясь, говорили мне, что ребята раз в месяц у них в школе становились страшными из-за того, что стриглись. Левка страшно изменился, обычно волнистая голова его и густо поросший затылок были теперь коротко пострижены, затылок обострился, а уши как будто выросли, и от этого лицо его как будто переменилось. Несмотря на холод, мне было очень весело эти дни, тем более что мы на третьем или на втором уроке надевали пальто и немного согревались, уткнувшись в воротник и прижавшись друг к другу.
А вчера нас распустили после четвертого урока. На улице еще не совсем стемнело, были голубые зимние сумерки. Ясное небо наверху было светло-синее и только к горизонту как-то серело как будто от неподвижных туч или застывших клубов дыма, и на фоне этой серой пелены, как извержение вулкана, ярко выделялась темная клубообразная громадина-туча, неподвижно застывшая в морозном воздухе. Фонари светлыми чистыми пятнами тянулись прямой линией вдоль улицы. Я с Ирой шла впереди, а Ксюша плелась сзади. Ира что-то трещала мне всю дорогу, и мне оставалось всю дорогу только молча удивляться, как это она ухитряется болтать, не переставая, и ведь это каждый день. Меня злила и раздражала глупая болтовня то о каких-то платьях, то о разведенных муже и жене, в общем, на любую тему, а ей всего двенадцать лет, что же будет в четырнадцать? Остается только пожимать плечами.
Вечер.
Часов в девять-десятом пришла мама и принесла мою шубу. Я надела ее и просидела так с час, пока папа о чем-то разглагольствовал, мама тоже говорила. Я молча слушала. Несколько раз (еще раньше) я начинала возражать, и папа часто осекал меня, заставляя помолчать. Уже позднее перед тем, как что-либо вставить, я долго думала, а когда вдруг забывалась и опять попадалась на удочку, уже не злилась на папу, а только смеялась в душе над собой и злорадно говорила: «А, попалась! Ну, в другой раз будешь умнее». Все-таки какая трудная штука – умение владеть собой, и я давно борюсь с собой, но достигла совсем незначительных результатов, правда, что умею – так это молчать. Но то, что обычно меня мучает, я никому не говорю. С какой стати? У некоторых людей дурная привычка выбалтывать все, что знаешь.
‹19 января 1933›
Вчера или позавчера на уроке обществоведения, когда учитель говорил что-то о кадрах и о том, что сейчас открываются новые институты, я начала подумывать, что неплохо было бы спросить его, а почему старые институты сейчас целиком распускаются. Пока я только собиралась спросить и сообщила об этом Ирине, я оставалась совершенно спокойной, но когда я уже решила, что спрошу обязательно, сердце так сильно забилось… Я сидела и ждала, когда кончит учитель говорить, и твердила своему сердцу: «Ну, замолчи же». Но оно не только не замолкало, а, наоборот, начинало биться еще сильнее… Конечно, после моего вопроса учитель меня засыпал, а возражать мне уже совсем не хотелось.
‹21 января 1933›
27 ºС ниже нуля. На окнах появились узоры и пушистый иней. Я собралась идти на урок к немке. Оделась и вышла на лесенку, в голове вертелись обрывки немецких фраз из стихотворений, которые весь вечер и утро зубрила. Спускаясь по ступенькам, я мысленно твердила их себе, напрягая всю память. Я повернула на лестницу первого этажа и вдруг остановилась. Немецкие слова мигом выскочили. Внизу, куда только слабо достигал дневной свет из окна и где царил легкий полумрак, я различила белые клубы пара, медленно поднимающиеся с пола и ползущие вверх по ступеням лестницы. Слышно было бульканье и как будто журчанье. «Ах, да это труба лопнула», – догадалась вдруг я и пошла дальше. В углублении между ступенями и дверью, ведущей на улицу, образовалась лужа теплой воды, через которую было бы трудно пройти, если б не батарея, которая лежала на полу, образуя мостик, и трубы которой обледенели. Кое-как открыв примерзшую дверь, я вышла на улицу.
Светло-розовое матовое небо было ясно; всюду, куда ни глянь, был размыт розовый свет – воздух был густо пропитан им, придавая всем предметам туманную неясность, заволакивая их розовой пленкой. Лицо охватил 27-градусный мороз и приятным холодком прошел по телу. Твердый снег звонко скрипел под ногами. Я спрятала руки в рукава и бодро зашагала по улице, опять начиная бормотать стихотворение. Мороз сильно хватал за нос, перехватывая дыхание. Вот и Ирин дом (я всегда заходила за ней).
Я вошла во двор и закрыла за собой калитку. Справа возвышалась глухая стена большого серого дома, слева стоял маленький одноэтажный домик с замороженными окнами. Солнце, поднимающееся розовым шаром, неясно освещало блестящий снег. Я вошла в теплые сени и, дернув за закрытую дверь, три раза сильно ударила по обитой кожей двери. Некоторое время никто не подходил, но вот послышались шаги. Отперла Луша[21]. «Дома Ира?» «Дома». Я пошла по коридору. «Нина?» – крикнула из комнаты Ирина мама. «Да, – отозвалась я и, войдя в комнату, громко воскликнула. – Здравствуйте!» Ира сидела за столом боком ко мне и что-то внимательно перебирала. «Что это ты делаешь?» Она не отвечала. Аленушка[22] молча покосилась на меня своими большими голубыми глазами.
«Слушай, Нина, – начала О.А.[23], – Ирина сегодня не пойдет… У нас арестовали папу…» Голос ее прервался, и некоторое время мы все молчали. Я тихо протянула: «А-а», – и стояла в нерешительности, не зная, что делать дальше. «Никому не говори и не объясняй учительнице немецкого языка, почему не пришла Ира». «Хорошо, хорошо», – твердо и уверенно ответила я. Я знала, что от меня никто ничего не узнает. Мысли вихрем носились у меня в голове. Эта безмолвно сидящая семья поразила меня: молчаливая Аленушка, Ирина и плачущая мать. «Пускай страдает и она, я ведь тоже страдала».
Мне вспомнилось и то, что было с нами четыре года назад, у нас тоже отняли папу. Я тогда проснулась утром, ничего не зная. Бабушка вошла и спросила: «Пойдешь в школу – папу арестовали?» «Нет». Когда она ушла, я сначала заплакала. В душе вдруг поднялась вся злость и досада на того, кто смел отнять папу.
И теперь у Иры отняли его, нарушили счастье и спокойствие, грубо разбили весь образ жизни, все привычки, все, что дорого сердцу. Мы тоже хорошо жили до папиного ареста, но… потом, как с неба свалились в омут лишений и волнений. И они, евшие по утрам сливочное масло, пившие кофе – потеряют все, если вдруг его сошлют куда-нибудь в Усть-Сысольск, в маленький северный городишко… Ира будет учиться и копить в душе злобу на них. О, сволочи! Мерзавцы! Как смеете вы делать это! Ходила по комнате, скрежетала зубами и, иногда останавливаясь, шептала: «А мать Иры не будет работать». Моя мама работала, а она не будет и за какие-нибудь года три постареет на десять лет, но работать не сможет. А Ира? Неужели после трехгодовой разлуки она разлюбит отца? Я разлюбила, долгое время не могла освоиться с ним и даже называла его на «вы».
О, большевики, большевики! До чего вы дошли, что вы делаете? Вчера Ю.И. делала нашей группе доклад о Ленине и коснулась, конечно, нашего строительства. Как мне больно было слышать это бессовестное вранье из уст боготворимой женщины. Пусть врет учитель обществоведения, но она, со своей манерой искренне увлекаться, и так врать. И кому врать? Детям, которые не верят, которые про себя молча улыбаются и говорят: «Врешь, врешь!»
‹21 января 1933›
Главное место во всех происшествиях занимает все-таки Левка. Я не преследую его своим взглядом, как раньше, а лишь втихомолку слежу за ним так, чтобы никто не заметил. Три дня назад мне показалось, что Левка бегает за Зиной. Меня неприятно кольнуло от подобного вывода, но что же делать? Я ругала себя, удивлялась, как я еще могу надеяться на то, что Левка ко мне неравнодушен, когда все ясно, но все-таки надеялась. Всегда влюбленному во всем мерещится что-то необыкновенное, и каждый поступок любимого вызывает у него надежду. Это странно, глупо, но что поделаешь.
‹6 февраля 1933›
В классе мой интерес давно уже вызывает Димка, маленький мальчик лет двенадцати, хотя по развитию можно дать и больше, с черными, тщательно расчесанными на косой пробор и приглаженными волосами, с дугообразными бровями, небольшими черными глазами и тонкими, почти всегда презрительно улыбающимися губами. Я следила за ним обычно исподтишка, в какие-либо отношения не входила, так как он с девчонками обращался особенно презрительно. Я давно заметила, что он развитой и очень умный парень, и это кололо мое самолюбие, в общем, я считала его за чудака, но на последнем собрании он высказался до того удачно, что просто удивил меня. А сейчас порылась в дневнике и до того мне теперь кажется глупым то, что раньше всю меня захватывало с головой. И почему так быстро летит время? Это просто непостижимо.
‹13 февраля 1933›
О, время, время! Что бы я дала, лишь бы оно замедлило свой бег. Иногда, лежа еще в постели, смотришь на черную стрелку часов, безжалостно поворачивающуюся, и думаешь: «Чтобы ей остановиться». Но нет, время идет, идет без остановок, без перебоя… Месяц или два тому назад, когда я была очень неравнодушна к Левке, я не замечала бега стрелки. Я носилась в каком-то вихре без времени и без часов, дни проносились стремительно, и от них оставалось лишь приятное смутное воспоминание.
А теперь я вошла в обычную колею и чертовски досадно, что уже не могу с трепетом душевным встречаться с Левкой и по целым урокам смотреть на него, не сводя глаз. Хотя я, правда, иногда посматриваю туда, но почему-то не могу долго смотреть, и только он повернет голову в мою сторону, сразу отворачиваюсь. В общем, у меня сейчас довольно сносное душевное состояние, я даже, кажется, начинаю иногда увлекаться занятиями. Не преувеличивая, у меня сейчас нет ни одной свободной минуты, учусь и учусь, редко читаю и совершенно не гуляю. Я стала в последнее время до смешного равнодушной ко всему окружающему.
Иногда мне очень хочется уйти в бесконечное снежное поле, затеряться среди белых легких снежинок и гулять, наслаждаться природой. Но времени нет. Последнее время я даже перестала надеяться на будущее, я ни на что не надеюсь и решительно ни о чем не думаю, лишь иногда мечтаю. Это совсем особенное чувство: я переношусь совсем в другой мир, конечно, в будущее, но без надежды, как будто начинаю читать книгу. Раньше, когда я была меньше, я называла это «игрой».
‹15 февраля 1933›
Сейчас я читаю биографию Лермонтова… Вообще, я, прочитывая биографию какого-либо писателя, ищу в первую очередь чего-нибудь одинакового между ним и мной. Это желание появилось у меня уже довольно давно и, когда я нахожу общие черты (что бывает весьма редко), бываю всегда рада, как будто это дает мне большие надежды стать писателем. Но все-таки я не умею писать. Разве это талант? Когда не могу, как следует, написать хотя бы одной страницы и приходится сидеть над каждой фразой и соображать, как написать ее. С этим далеко не уедешь, иногда думаешь, что с годами все это придет, плюс еще и то, что я начала писать с малых лет, хотя Лермонтов начал писать с тринадцати лет, причем сразу же писал очень хорошо.
Ну, в общем, о будущем загадывать трудно, ведь раньше, с год тому назад, сомнение в себе сильно отражалось у меня в душе, а теперь как будто чувства притупились, и всякие неприятности действуют на меня в два, а то и в три раза меньше прежнего, отчасти это и хорошо…
Странно, даже дневник я пишу как будто не для себя, а для кого-то другого, и нередко боюсь написать чего-нибудь не так. Я стараюсь задавить это чувство, но не тут-то было, чувства, вообще, очень непослушная штука: ты говоришь им одно, а они тебе совсем другое.
В школе особенных новостей нет. Я продолжаю следить за Левкой, ничего, конечно, нет особенного и необычного. Сегодня мне пришла в голову интересная мысль: насколько различны мои отношения с Левкой и с Алькой. Алька мой друг, а Левка… как сказать, любовник что ли? Это, конечно, не точно, но суть в том, что к двум ребятам у меня совершенно разное отношение. Вчера я стояла на перемене у батареи одна, из класса вышел Левка и, проходя мимо, посмотрел на меня и спросил: «Что, Луга, тепло?» Я ответила: «Тепло». А когда он отошел, не без удивления и радости подумала, что по отношению к нему попала в совершенно такое же положение, и в этом ничего особенного, но… И как скверно, что Левка младше меня, хотя это, конечно, глупое самолюбие, но на самом деле, не обидно ли? Равнять этого мальчика со мной, ведь я уже не совсем ребенок.
‹24 февраля 1933›
Много я за это время передумала и перечувствовала. Иногда ужасно хотелось все это записать, но паршивое время… ни одной минуты. А что теперь писать! Я становлюсь все замкнутей и молчаливей. Хорошо это или плохо? Иногда я начинаю искать различные доводы, опровергаю их, опять нахожу, чтобы сделать себе все ясным и понятным, и все-таки перевес остается на последнем моем решении – быть как можно скрытней. Я уже не смеюсь и не шучу с родными и постепенно удаляюсь от них.
Но у меня, кажется, нет и внутреннего мира, в котором я могла что-либо созерцать. Я живу как во сне, спокойно, тихо, без всяких событий. Событий нет, конечно, никаких, но есть внутренние переживания и подчас довольно сильные. Что такое внутренний мир? Возможно, я и ошибаюсь, говоря, что у меня его нет, но не все ли равно, внешний мир или мои переживания? Странная человеческая душа – она способна надеяться в любом положении. Кажется, уже все кончено, но где-то робко начинает шевелиться надежда, постепенно увеличиваясь, нарастая и в конце концов захватывая все сердце. В последнее время мне несколько раз пришлось испытать на себе это умерщвление и возрождение надежд, а как мучительно и больно чувствовать, что надежда (особенно долго лелеянная) вдруг пропадает, и в сердце становится пусто и тяжело.
Первый случай произошел в школе по отношению к Левке – меня вдруг оставила всякая надежда, что он меня любит (как странно и смешно произносить это слово). Случилось это на уроке рисования, я, вероятно, показалась смешной мальчишкам, они заржали, потом начали кричать «дура», и мне даже показалось, что Левка кричит «косая». Я вспыхнула и, продолжая спокойно рисовать, почувствовала вдруг, как что-то рушится в душе моей и, смешиваясь с оскорблением, исчезает надежда. Как неприятны такие минуты… Теперь я, конечно, нашла ряд доводов и восстановила мир в душе, хотя, рассуждая здраво, то все это самообман. Но самое сильное разочарование, постигшее меня в эти дни, так это конец веры в мой литературный талант, веры, которую я грела в своем сердце в течение нескольких лет. Я бездарна, так что теперь в душе нет ничего, кроме непередаваемой тоски и пустоты. Эти обстоятельства заставляют меня не раз шептать с горечью: «Жизнь, если взглянешь с холодным вниманием кругом, такая пустая и глупая шутка».
‹12 марта 1933›
Веет весной. В каждом порыве ветра чувствуется запах весны. В каждой струе воздуха есть что-то новое, свежее и молодое. Весна… Незаметно и неслышно подкрадывается она, и лишь изредка долетает ее теплое дыхание. Вчера таяло, солнце уже довольно сильно припекает, и на мостовой образуются мокрые черные полосы. Весна проникла мне в душу, и так нестерпимо тянет куда-то, «туда», ближе к ней, в лес и поля.
В прошлом году в конце апреля я ходила с Лялей на Воробьевы горы. О, как я наслаждалась весной. Шла и как будто старалась захватить как можно больше весеннего воздуха в свои легкие; глядела на светлое голубое небо с легкими весенними облаками, на холодную веселую темную речку, по которой проносились тонкие льдинки, на чуть зеленеющие деревья, и в каждом звуке ударяющейся о берег льдины, в каждом крике веселых воробьев, в каждом возгласе ребят, копошившихся на том берегу, в каждом дуновении ветра мне чудились тысячеголосные крики: «Весна!» Природа ликовала и приветствовала приход долгожданной красавицы. И я стремилась в чащу кустов, на высокие крутизны, в сырые болота, чтобы слиться в одно целое с природой и присоединиться к громкому крику… И помню, когда мы возвращались домой в десятом часу вечера, и я с восторгом вспоминала прошедший день, к моему наслаждению присоединялось еще какое-то чувство, от которого я старалась освободиться, которое не понимала и не могла высказать… и которое давило на меня. Чувство какой-то неудовлетворенности, тоски о чем-то.
В прошлый выходной я перебирала свои бумаги и наткнулась на рукопись о моей прогулке на Воробьевых горах и другие. И опять вдруг так нестерпимо захотелось писать. Неужели же это все самообман? Неужели у меня нет таланта? Неужели каждый в моем возрасте может при желании написать кучу рукописей разного содержания и довольно ничего? Недавно задумала написать вещь под названием «В погоне за счастьем», в голове нет ничего определенного, и я не стараюсь сейчас вывести яркие образы, нарочно оставляю все в тумане до каникул. Иногда в голове под каким-либо впечатлением проносятся быстрые и яркие, как молния, сюжеты, но нет возможности записать их вовремя. А день спустя они тают, тускнеют и бесследно пропадают, как облака в голубом небе.
‹15 марта 1933›
Сегодня не пошла ни в школу, ни на немецкий язык, потому что плохо себя чувствую, а, вернее, такое дурацкое настроение, что ничего не хочется делать, даже за чтение не принималась. Недавно Женя и Ляля посоветовали мне записывать книги, которые я прочитываю. Довольно интересная идея и главное, это, вероятно, развивает, так как я стараюсь книги критиковать.
Димка начинает меня порядком злить. Смешной парень, если бы он был немного попроще, ведь на него нельзя смотреть без смеха: маленький джентльмен (он любит употреблять это слово), всегда в чистом, аккуратном костюме, с презрительной и немного надменной улыбкой, с умными, часто насмешливыми темно-карими глазами. И главное, с большим запасом знаний и сообразительной головой. Дурачится ли он? Или это у него совершенно естественно? Вот что меня занимает, ведь вместе со смешным в нем есть и хорошие черты. Иногда он так по-детски и заразительно хохочет, что, глядя на него, остается только удивляться.
Вчера он принес в школу свою стенную газету, в которой высмеивал некоторых ребят, газета получилась очень смешной и веселой. Когда все сбежались читать ее и кругом слышался смех, он прохаживал рядом, изредка косясь на свое произведение. К несчастью, я все чаще и чаще начинаю думать, что я – простая смертная, и виной этому отчасти наш Дима, ведь именно в нем я увидела не совсем обыкновенного мальчишку и ярче поняла себя. Однако, трудно примириться с тем, что я обыкновенная, досадно думать, что у каждого есть такой же сложный внутренний мир, что каждый так же глубоко переживает, как и я. В общем, это скорее всего, но все же, читая про подростков в книгах, я ни разу не встречала моих черт, хотя у взрослых я их встречаю – это придает мне некоторую гордость.
‹24 марта 1933›
Вот уж прошла половина каникул… Скучно, глупо и неинтересно. Хожу с каким-то неприятным осадком в душе и через каждые пять минут спрашиваю: «Что такое жизнь? Есть ответ, ответ достаточно верный и простой: «Жизнь – это пустая и глупая шутка». Легко сказать, но не хочется верить, что на самом деле жизнь – это шутка, да вдобавок глупая. Вчера вечером я шла по улице, смотрела в голубые сумерки, прислушивалась, как на бульваре крикливые няньки громко окликали своих детей, смотрела на высокие большие дома, на темные мелькающие фигуры людей и думала: «Ну, что такое жизнь?» Ходить в лавки, кричать на детей. Зачем построены эти дома, эта мостовая, так хорошо вымощенная? Сегодня утром ходила к Ксюше, спрашивала, пойдет ли она со мной в театр, а сама думала с какой-то щемящей тоской: «Ну зачем это все, и театр, и все, все… Что такое жизнь?»
Женя и Ляля сидели в своей комнате и пели, я долго ходила по коридору, слушая их, потом вошла в комнату и села у окна. Из открытой форточки до меня иногда долетал свежий ветер, комната была освещена солнцем, и на Жениной спине колыхались темные трепетные тени цветов. Я стояла, слушала, смотрела на коричневый джемпер Жени, на легкие тени и думала уже как-то с досадой – что такое жизнь? Недавно пришла из театра, где был концерт, и выступали ученики музыкальной школы. Вначале я слушала внимательно и немного завидовала всем этим девочкам и мальчикам, но потом… Потом устала, слушать стала рассеяно. Как удручает меня всякая забота о школе, хочется совершенно забыться и провести хоть несколько дней, ничего не делая и ни о чем не думая. Усталость это что ли сказывается? Не знаю.
А тут папе отказали в паспорте[24]. Какая буря шумела у меня в душе. Я не знала, что делать. Злость, бессильная злость наполнила меня. Я начинала плакать. Бегала по комнате, ругалась, приходила к решению, что надо убивать сволочей. Как это смешно звучит, но это не шутка. Несколько дней я подолгу мечтала, лежа в постели о том, как я убью его. Его обещания, диктатора, мерзавца и сволочи, подлого грузина, калечащего Русь. Как? Великая Русь и великий русский народ всецело попал в руки какого-то подлеца. Возможно ли это! Чтобы Русь, которая столько столетий боролась за свободу, которая, наконец, добилась ее – эта Русь вдруг закабалила себя. Я в бешенстве сжимала кулаки. Убить его, как можно скорее! Отомстить за себя и за отца.
В тот день, когда решалась папина судьба, я не могла сидеть дома, оделась и вышла на улицу. Было сыро, холодный туман стелился по темным улицам, иногда прорывались отдельные клочки серой живой пелены, и на минуту можно было отчетливо различать предметы, а потом опять все заволакивалось туманом. В его сырой мгле то и дело скользили неясные человеческие серые фигуры и пропадали во тьме. Я с омерзением смотрела в серый тусклый туман, и тогда мне впервые пришла в голову мысль: «Что такое жизнь?» И как судьба жестоко смеется и издевается над людьми.
‹29 марта 1933›
Конец. Папы нет. Он ушел сегодня утром. Куда? Это страшно писать: стены увидят и донесут. Но его нет больше с нами. Не все ли равно, куда он пошел?[25] Папа уехал – больной, слепой на один глаз, а я здесь сижу и пишу дневник.
Вечер.
Событий произошло как будто совсем немного, но все это пролетело с такой невероятной быстротой, так ярко и живо, что кажется, будто их было очень много. Как вихрь… неудержимым потоком хлынули в меня новые мысли, новые чувства и переживания. Если я начну описывать все по порядку, то не получится того полного и верного впечатления, которое бы мне хотелось дать. Очень плохо, что я уже остываю, и что то чувство, чего-то высшего, не обыденного, которое доставляло мне такие странные минуты мучительной тоски, уже пропадает. Я чувствую, что опять въезжаю в обыкновенную жизненную колею. Фи, как становится все гадко и глупо!
Я жажду переживаний, сильных нравственных переживаний, от которых в душе может происходить какая-то работа и борьба. Я начинаю жить нравственно. Эти душевные переживания я черпаю во многих и разнообразных вещах: в музыке, в красоте как природы, так и людей, в жизни – но не в той, которой я живу и многие другие, а в деятельной, полной смысла, борьбы и страданий жизни, опять-таки основанных на переживаниях. Таким образом, создается неразрешимый круговорот, может быть, тот круг событий и переживаний и называют жизненным водоворотом. Возможно, я еще не начинала жить. Если детство лишь приятное предисловие к жизни, то я могу надеяться на будущее, в котором для моей ненасытной на переживания душе найдется много пищи. Но я, кажется, совсем заболталась, и все это вздор. «Человеку свойственно надеяться». И я считаю, что это правда, нет человека, который бы жил, не надеясь, ведь надежда не покидает нас даже в самые безнадежные минуты жизни.
Часов в пять, когда я сидела у бабушки и читала книгу, пришел папа. Я, как и всегда за последнее время, посмотрела вопросительно на него: «Ну, что?» Дальше этого вопроса я редко заходила. Да и зачем? За последние дни я сильно полюбила папу. Раньше ведь я немного питала к нему чувств, но теперь, после того, как ему отказали в паспорте, то есть, другими словами, велели убраться в десятидневный срок из Москвы, совсем другое дело. Я люблю его, когда он революционер, люблю его человеком идеи, человеком дела, человеком, стойко держащимся своих взглядов, не променявших их ни на какие блага жизни. За последнее время он сильно осунулся, пожелтел, морщины стали резче вырисовываться на хмуром суровом лице.
‹30 марта 1933›
Вчера не хватило терпения написать все, что я хотела, скажу только вкратце, что папа пошел в милицию узнать, позволят ли ему по бюллетеню от врача пробыть в Москве лишних два дня. Мы с нетерпением ждали его возвращения. Прошел час, его не было, потом еще полчаса. Между нами был уговор, что в случае отказа он пойдет прямо к маме на работу. Тетя смотрела в окно, взволнованно ходила, что-то говорила, а бабушка лежала и лишь иногда посматривала на часы. Думать было нечего уже о его возвращении, но… человеку свойственно надеяться, и я надеялась, как надеялись и остальные. Около восьми часов кто-то открыл дверь, я подняла голову от книги и стала прислушиваться. Он или не он? На этот раз надежда не обманула, и я опять принялась за чтение, чутко прислушиваясь к его шагам. Но когда дверь, не спеша, отворилась, щеки мои горели, и я чувствовала, что медленно краснею, радуясь этой незначительной отсрочке на два дня.
Папа сел, весело улыбаясь, и начались незначительные расспросы. «Наконец-то пришли – говорила бабушка, – а я думала, что у меня сердце разорвется. Раньше хоть заснуть могла, а теперь…». Голос ее дрогнул, задрожал и оборвался на высоких нотах. Она заплакала и с судорожными рыданиями упала на постель. Папа начал оправдываться, а Соня достала какие-то капли. Я взглянула на отца, лицо его не было мрачно, и на нем остановилась как будто немного растерянная улыбка. Он был смущен и, как мне показалось, в глазах его блеснуло что-то похожее на слезы. Я сказала ему что-то в осуждение и сама удивилась своему звонкому голосу, слегка неуверенно прерывавшемуся на каждом слове, как будто мне что-то мешало в горле и приходилось с усилием выдавливать слова.
Бабушка скоро успокоилась. А я сидела, нагнувшись над книгой и думала: «Что за человек. Это ангел, а не женщина. Какая же она была в молодости, если сейчас в шестьдесят семь лет имеет такое чудесное сердце. Обычно люди к старости приобретают привычку ворчать, вздыхать, вечно жаловаться, но от нее я за всю вместе с ней прожитую жизнь не слыхала ничего подобного. Как я, да и другие мало ценили ее раньше, да и сейчас мало ценят! Я испытывала к бабушке сильную любовь и нежность, смешанную с жалостью…
Сейчас я читаю «Анну Каренину», и какое сильное впечатление производит на меня эта вещь. Истинно Толстой был художником, если мог так живо и мастерски, а главное, верно описывать людей и их переживания. Года два-три назад я начала читать «Анну Каренину» и, не дочитав, бросила, я тогда еще не понимала того, что так ясно и понятно мне сейчас, некоторые места в ней я даже перечитываю по два, по три раза.
‹31 марта 1933›
Завтра в школу. Чувствую, как будет трудно учиться эту последнюю четверть, хочется впасть в усыпление, чтобы не отвлекаться, ходить, как заведенная машина, делать уроки и хоть на время не желать ничего. И кажется, так скоро пронесутся эти два месяца, а там! Там открывается широкая и счастливая жизнь, полностью забудется школа и ученье.
Эх! Надо блестяще выдержать эту последнюю решительную борьбу, и сейчас все кажется таким легким и даже интересным. Но я чувствую, что пройдут первые две недели, наступит весна, и так невыносимо потянет в поле, куда-нибудь дальше от обыденной жизни. Интересно, как будет после начала занятий. Я уже составила в голове план проведения последней четверти. Неужели нет у меня настолько силы воли, чтобы прожить каких-нибудь два месяца так, как я должна, как говорит мне мой рассудок? Надо заставить себя руководить желаниями.
Сегодня папа опять пойдет в милицию, что-то ему скажут там. С ним собирались идти Соня[26] и Носкова, очень симпатичная простая женщина, хорошая Сонина товарка и член Московского Совета. Они, как в шутку говорит папа, взяли его на свое попечение. В милиции есть у них какой-то знакомый, при помощи которого они надеются выхлопотать отцу хотя бы незначительную отсрочку. Все относительно успокоились после первого взрыва негодования и отчаяния.
В доме почти все пошло по-старому, по крайней мере, с внешней стороны: папа вечерами занимался, утром читал газету, шагал по комнате и куда-то уходил; мы перестали нападать на него, и те незначительные ссоры, которые происходили между нами, совершенно прекратились. От этого ли или от чего-то другого я стала почти с удовольствием исполнять домашнюю работу, изредка морщась, когда уж очень надоест. Сейчас папа опять ушел. «Ну, прощай, Нина, может быть, не увидимся!» Он сделал мне последние незначительные наставления насчет цветов и ушел, но сказал, что отсрочку дней на пять ему, возможно, дадут. Если отец надеется, то это уже много значит. А все-таки я его люблю, и мне самой приятно чувствовать эту любовь, в которой я однажды сомневалась, и эти сомнения заставляли меня мучиться и страдать.
‹1 мая 1933›
Сегодня я не ходила на демонстрацию. Не было ни одного года, когда на первое мая я оставалась бы дома. Но… нет ничего вечного, и я изменила своему обычаю. Обычно я всегда ходила с мамой, но она уехала на эти праздники к папе в Можайск, и я осталась одна. Какая тоска! Как пусто и пасмурно кажется все кругом в отсутствии мамы. Как тоскливо и грустно на сердце.
Когда я вышла сегодня на улицу, то меня поразило одно явление. Кругом было совершенно пусто, как будто все вымерло. Лишь изредка проходили медленно и вперевалочку празднично одетые молодые парни. Одиноко стучали мои башмаки, и гулко отдавался их стук в пустой улице. Странно было видеть в солнечный теплый день, полный невидимой жизни, мертвую освещенную улицу. Я на минуту зашла к Ире. Во дворе у нее всюду начинались распускаться деревья, и из открывающихся почек робко вылезали молоденькие светло-зеленые листья, такие нежные и ласковые. Когда я пришла домой, по радио передавали Красную Площадь. Слышался оркестр, играющий марш, где-то вдали кричали «ура», и такими милыми и знакомыми показались мне эти звуки.
‹2 мая 1933›
Завтра в школу. Я даже немного рада этому, слишком уж все тошно и гадко дома. Если б не уроки, я бы не пожелала идти в школу, я бы нашла себе развлечение и удовольствие, но теперь… теперь хочется куда-нибудь убежать от этого свободного времени, которое необходимо занять учебой. В школе время пройдет не так заметно. Эх, хоть бы скорей приезжала мама! Мама! Как пусто и дико кругом без тебя, как сердце сжимается сильно и больно! И жить расхотелось. Что удерживает меня от смерти? Почему я сейчас же не отравлюсь? Почему? «Жизнь! Зачем ты собой обольщаешь меня, если б силы дал бог, я разбил бы тебя». Но я почему-то не могу разбить свою жизнь. Или еще не так гадко жить, или правда бог не дает силы. Хочется скинуть с себя эту ипохондрию, и я скину ее, но не совсем, освободиться от нее совсем я не властна.
Вечер.
Как не хочется заниматься. Боже мой! Хочется все бросить, все оставить и жить. Ведь я хочу жить. Жить! Я не заводная машина, которая может работать без перерыва и отдыха, я человек. Я хочу жить! Хорошо, что завтра школа, немного отдохну от себя, но зато, правда, не буду знать общество. Да черт с ним в конце концов! Это только Генка[27] может увлекаться им и часами читать, что сказал Ленин и Сталин, и какие достижения сделал наш Советский Союз. Эх, жизнь, жизнь! Подрали бы тебя собаки. И опять задаю себе вопрос: «Кем стал для меня Левка?»
‹5 мая 1933›
Сегодня весь вечер читала «Дым» Тургенева. Давно я не читала его произведений. Сколько новых достоинств нахожу я в том, что год тому назад казалось мне скучным и гадким. Я с наслаждением прислушивалась к красивым мягким переливам его звучной речи и, восторгаясь красотой и плавностью его слога, я все больше уверялась в совершенном отсутствии у меня таланта. Но странное впечатление осталось у меня в целом о прочитанном, каким-то тяжелым темным комком легло на меня воспоминание о нем. Я никак не могу понять этого отсутствия воли у влюбленных. Или я еще сама не была влюблена или это особенный уж такой склад людей. Не знаю, но я не могу прямо переносить равнодушно собачью покорность, которая появляется у героя после того, как он влюбился в Ирину. А как у меня плохо еще развита речь, ведь я не могу даже передать самые простые впечатления и чувства.
‹13 мая 1933›
Как будто совсем недавно был январь, и я с ужасом думала, что осталось учиться еще так много, а теперь? Теперь осталось только полмесяца. Только полмесяца! И я буду свободна. Иногда меня начинают разбирать сомнения: буду ли я счастлива, когда кончу учиться? Прекратятся ли эти страдания, которые измучили меня? Не останется ли все по-старому? Но это было бы ужасно!
Последние два-три дня я совсем гадко себя чувствую, ощущение того, что я страшная, мучает меня, как никогда. За сегодняшнее утро я столько раз подходила к зеркалу и не могла смотреть без отвращения на свое лицо. Я не могу выйти на улицу, так противна кажусь самой себе, так ужасно больно ходить со всеми этими простыми, обыкновенными людьми, дышать с ними одним воздухом, смотреть на них и чувствовать, что не одна пара глаз глядит на меня, может быть, с затаенным отвращением. Года два назад я начала уже удивляться, как могут Женя, Ляля, мама и папа, все наши знакомые и мои подруги смотреть на меня, разговаривать и смеяться со мной, как и с другими; как могут выносить мой взгляд, уродливый и гадкий; ведь я сама не могу смотреть без отвращения на косых. Всякое уродство плохо, но это, по-моему, одно из худших.
Когда я была поменьше, лет одиннадцати или двенадцати, я особенно сильно чувствовала насмешки мальчишек и обижалась на их крики. Одно время это начало сглаживаться, да и сейчас я на них обращаю меньше внимания, но само ощущение ужасно. Хочется иногда не думать об этом, забыть и не обращать внимания, но последнее время я почти никогда не забываю об этом. А с этим счастье невозможно… Юность со своим весельем закрыла для меня дверь. Я же не могу находиться среди веселой, счастливой молодежи и чувствовать, что порчу их настроение своим присутствием. Сижу, бывало, в школе, как будто ничего, весело и хорошо смотришь, наплевав на все, в глаза девчонкам, но вдруг вспомнишь про себя и с болью отвернешься.
Вчера я почти весь день думала, что удерживает меня от того, чтобы отравиться. Есть выход простой и легкий. И кончатся все мои мучения. Что удерживает меня? Что заставляет меня ходить по этим улицам, украдкой взглядывая на прохожих, что заставляет учить ненавистные, постылые уроки, что заставляет молча с горькой болью в душе слушать, как Левка, который все-таки нравится мне, проходя мимо, нет-нет да и крикнет сквозь смех вполголоса: «Луга косая». Есть средство избавиться от всего этого, есть возможность покончить со всеми страданиями. Неужели же серьезно обольщает меня эта противная, переполненная мучениями жизнь? Неужели может привлечь меня «пустая и глупая шутка»? И я еще мечтаю о чудесной юности, двери которой закрыты для меня навсегда. И я еще мечтаю быть хорошенькой девушкой со своими косыми глазами. Ну, разве это не глупо?
‹18 мая 1933›
А жизнь… эта пустая и глупая шутка! Но она, кроме того, еще злая шутка. Последняя моя надежда погибла. Еще так недавно я с наслаждением думала о лете, о том, что я была счастлива. Но теперь я не жду его. Как я могу успокоиться, когда знаю, что через три месяца начнется опять совершенно та же глупая и скучная жизнь. Опять, как и теперь, буду я дрожать перед опросом по биологии и часами зубрить совершенно мне ненужные вещи. Опять, неизвестно зачем, буду стремиться догнать кого-то и, чувствуя, что это на недосягаемой высоте, опять страдать и злиться. И зачем все это? Для чего? Вероятно, просто так, потому что надо же что-то делать, вот и решили пичкать нас разными науками. И вот со всем этим хламом в голове попробуй-ка провести спокойно лето. Я не могу.
Как бы я была счастлива, если бы меня оставили совершенно одну, дали бы книги, позволили бы уйти совершенно в себя и забыть, что делается на свете, тогда, может быть, я была бы совершенно спокойна и счастлива. Позавчера вечером пропали мои очки, пропали в нашей квартире и пропали совершенно. Как нестерпимо раздражает меня это, ищешь, ищешь, а их нет – не знаю, на кого и думать. Как будто все сговорились ухудшать мое настроение: кто-то очки взял, кто-то мячик спрятал, или Ксюшка взяла, не знаю.
А тут еще подвернулся заем «Первый год второй пятилетки», который просто бесит меня. Вчера я не вытерпела и сорвала с двери плакат с лозунгами. В школе вчера биологичка задавала нам уроки на лето и велела всем их выполнить, потому что, мол, правительство приказало. Правительство! Да как оно смеет приказывать! Собралась какая-то кучка подлецов и вертят всем народом, как будто бы мы обязаны им подчиняться, как будто бы мы должны слушаться всякую сволочь и благоговеть перед Сталиным. Сегодня Женя заявила, что идет на демонстрацию по поводу выпуска займа. «Ты идешь?» – удивленно воскликнула я. «Велят. Я не стала спорить, не стала, потому что это бесполезно». «Идите, требуйте займа. Я бы ни за что не пошла». «И мы такие же были в школе», – спокойно возразила Женя, как будто даже с легкой иронией. О, подлецы! И они еще могут спокойно, равнодушно говорить: «Велят». Какая гадость и низость!
Эх, русский народ, что уж говорить о темных крестьянах и рабочих массах, когда вполне образованные люди, студенты, делают такие подлости и совершенно спокойно. И даже, наверное, назвали бы того человека дураком, который воспротивился бы правительству. «Иду, чтобы косо не смотрели», – заметила между прочим Женя. Ха-ха! Испугаться потери расположения со стороны начальства. И это говорят студенты, что же думать о народных массах. Нет, русские не могут завоевать свободу и не могут жить свободно. С самого того момента, когда славяне позвали править варягов, они находятся под чьей-нибудь властью. И всегда будут под властью. Приходится согласиться со словами Тургенева, что «русскому народу свобода нужна меньше всего», и не нужна потому, что он не может ее удержать.
‹21 мая 1933›
Настроение меняется часто и очень резко… Я теперь решила не загадывать на будущее, решила не думать о том, что будет через три месяца, не думать, как мы будем жить без Ю.И. Не надо, глупо и неразумно думать об этом – все равно это ни к чему не приведет, я хочу сейчас только одного – кончить школу. Не все ли равно, как я проведу лето, буду ли счастлива? Я хочу закончить все отношения с людьми, за исключением, конечно, своих, от которых нетрудно отделиться и от которых я уже отделилась.
Последнее время меня раздражает и злит решительно все: и оживленные беседы Жени и Ляли, и их ссоры, и отношения наших к политике, и весь теперешний невыносимый строй. До чего я дошла, даже не могу хладнокровно отвечать на расспросы домашних о школе и о том, как я сдаю экзамены. Моя замкнутость дошла до последней степени. Мне больно и трудно переносить даже малейшие попытки посторонних проникнуть в мой внутренний мир. Чувствую, что обижаю всех, так заботящихся обо мне, но не могу по-другому. Не то, что не могу, мне сказать не трудно, но позднее боюсь почувствовать такой разлад и неразбериху в себе… боюсь, что мир, построенный мною, рухнет.
Я этого боюсь ужасно, потому что разрушь мой мирок, и я разрушу то относительное спокойствие, которое, несмотря на все страдания, все-таки больше по душе мне. И, кроме того, я так привыкла ко всему этому, что просто не могу представить себе, как можно жить по-другому. Мне бы совсем хорошо было, если бы не эти надоедливые, несносные люди, точно мухи жужжат, лезут, невыносимо раздражают, ползая по тем местам, которые я стараюсь уберечь от всякого неаккуратного прикосновения.
‹24 мая 1933›
Вчера вечером мы долго сидели с мамой у бабушки, дожидаясь приезда папы[28] . Я, к удивлению своему, заметила, что в глубине души не хочу, чтобы он приезжал, и была неприятно удивлена этим. Как гадко, как нехорошо! Теперь я просто не могу понять, почему ко мне забралось такое чувство. Я спокойно сидела в кресле за столом, читала и знала, что если приедет папа, я уже лишусь этого спокойствия. Придется оторваться от книги, заставлять себя улыбаться и, что еще хуже, пожалуй, рассказывать про себя. Папа приехал около двенадцати часов, когда мы уже почти не ждали его. Я, стараясь заглушить в себе досаду, встала и пошла в переднюю. Начались разговоры, расспросы. Он рассказал, как там хорошо и звал меня прямо после окончания школы к себе. Я, конечно, согласилась, но… мои планы на лето – неужели мне так и не суждено будет исполнить свои мечты?
По папиным рассказам, там у него была черемуха, сирень, рядом река, а кругом небольшие лесочки, где береза, орешник, кустарники, а в них – сотни соловьев. Я гоню от себя эти мысли о природе у папы, потому что боюсь, что воображение мое представит мне слишком все хорошо, так что стараюсь совершенно не думать об этом. Уже на опыте я узнала, как легко обманывает воображение, и как потом больно разочаровываться и расставаться с чудесными картинами, созданными воображением, заменив их скудной действительностью. Я это слишком хорошо знаю. Но и теперь уже перед моими глазами мелькают кусты сирени, белые прозрачные легкие цветы черемухи, молодые кудрявые березки и маленькие серенькие поющие птички, которых я, кажется, никогда не слыхала.
‹25 мая 1933›
Вчера, только я поднялась с постели, даже не успела слезть на пол, в глаза мне бросился нижний ящик моего стола, где обычно лежал дневник и белье. Ящик был не совсем плотно вдвинут и из него торчали белые клочья материи, вероятно, всунутые впопыхах. Я бросилась к нему и открыла. Дневник лежал с самого краю и почти не был прикрыт бельем. «Однако, это подозрительно. Неужели кто-то брал его?» При мысли, что все вокруг узнают мою внутреннюю жизнь, мои желания и стремления, узнают мои сокровенные мысли и чувства, в душе поднялась буря негодования. «Неужели они могли это сделать?» Через некоторое время Женя принесла мне шелковую небольшую красную наволочку, на которую была надета еще вязаная. «На, Нина, это, кажется, твоя?» «Да», – проговорила я и спокойно взяла ее.
Но стоило только ей уйти, я с остервенением бросила наволочку на стол и, схватившись за голову, воскликнула: «О, мерзавцы! О, подлецы!» Наволочка эта лежала как раз в нижнем ящике, так что теперь не было сомнения, все ясно. Я присела на пол, не зная, что предпринять, но потом вспомнила, что на окне уже несколько лет валялся старый ржавый ключ. «Вдруг подойдет?» Я схватила его и после некоторых усилий мне удалось повернуть его, ящик был закрыт.
Я уже почти не злилась на того, кто взял дневник: «Теперь уже не возьмут, теперь я в совершенной безопасности». Однако, когда я вечером пришла в свою комнату, то опять заметила следы покушения, видно было, что ящик пытались открыть, но ключ меня спас. Я решила разузнать, кто и зачем лез ко мне в ящик, и спросила у Ляли: «Ты не лазила ко мне в ящик, там все перерыто?» «Перерыто-не перерыто, но я хотела открыть. Ты чего, закрываешь его?» «Да». «Зачем? Мне надо было взять гербарий». Против этого я ничего не могла сказать.
Тоска грызет и гложет мое сердце. Что мне делать? Так скучно и неинтересно жить. Целый год я не бралась за рисование, за музыку и за перо, с радостью ждала лета, когда я смогу и рисовать, и играть, и писать. Ха, ха! Я решила, что я какой-то гений, и вот ни с того, ни с сего возьмусь за карандаши и начну чудесно рисовать. Сегодня вечером мне пришлось расстаться и с этой мечтой. Я совершенно разучилась рисовать.
И вообще, все надежды мои гибнут. Все, чем я жила весь этот год, все, что возбуждало и поддерживало меня, вдруг рухнуло, и остались какие-то убогие развалины. Скверно! А тут еще Женя и Ляля играют и поют, и весело болтают. Сердце ноет, что-то подходит к самому горлу и сосет. Ужасная жизнь! Хочется иногда сказать кому-нибудь все, все, что давит меня, хочется прижаться к маме или к девочкам и расплакаться по-детски горько и навзрыд. И облегчить себя немного. Что же, что делать? Не могу я так жить. Если б был под рукой яд…
‹27 мая 1933›
Пыл мой и оживление, в котором я находилась, постепенно стал спадать, я опять стала чувствовать себя плохо. Невольно начала разбирать все чувства свои и мысли, все оживление мое в последние дни казалось мне глупым и ненужным, главное же меня злило то, что в эти минуты я забывала контролировать свои поступки. Минуты, когда я ухожу от себя, я считаю лучшими и счастливыми минутами своей жизни, но, к сожалению, они бывают очень редко, и после них я отвратительно себя чувствую. Замолкнувший на некоторое время рассудок начинает действовать с новой силой и неумолимо и жестоко начинает рассуждать, овладевая всем моим существом, а в душе чувствуется унылая пустота. Начинается даже что-то вроде головной боли, и так скверно все становится, поднимается злобная досада на себя и других и напрягаются нервы…
‹2 июня 1933›
Вот я опять в Москве. Я приехала вчера к вечеру, а уехала 30-го утром. Разочаровалась ли я в природе, которую увидела у папы? О, нет! Я была потрясена и поражена. Выехали мы с мамой из Москвы девятичасовым поездом. Народу в вагоне было довольно много, поезд ехал раздражающе медленно, тяжело громыхая колесами. В окно дул холодный порывистый ветер, небо, покрытое сплошными низкими тучами, было серо и пасмурно. Мимо пробегали поля, леса и небольшие деревушки, у самого полотна бесконечной вереницей тянулись низкорослые, густо насаженные елки. Их темная зелень странно перемешивались с небольшими кустами светло-зеленой нежной акации.
Я смотрела в открытое окно, на мелькающие березы, ели, иногда буроватые тонкие осины. Разве можно изобразить словами природу, описать ее так, чтобы можно было представить ее в ярких и естественных красках. О, нет, это «нечто», недосягаемое и недостижимое, не изображается словами, лишь гениальный художник сможет изобразить это. С того времени, когда я начала писать, моей целью было изображение природы, я много билась с этим, но… не добилась ничего. Решила попробовать писать не ручкой, не карандашом, а кисточкой, ведь я умела когда-то рисовать. А после школы можно было бы пойти в Текстильный институт на художественное отделение. Конечно, придется много работать и трудиться, ну так что же? Когда есть цель, тогда легче жить, и я твердо решила добиваться этого.
После «Голицыно» поезд поехал немного быстрее и иногда так разгонялся, что я не могла даже разглядеть версты на быстро мелькающих столбах. Между прочим, в поезде мне в голову пришла оригинальная мысль: «Почему бы мне не перевоспитать себя? Почему бы не сделать себя счастливой?» На опыте я уже знала, что сделаться счастливой, оставаясь такой, какая я есть, теперь нельзя, поэтому надо перемениться. В своих мечтах я представляю себя веселой и жизнерадостной девушкой, полной веселья и огня, полной жаждой жизни и счастья, а главное, хорошенькой (не смейтесь, пожалуйста).
Как видите, я нарисовала полную противоположность себе. Но это ничего, это еще полбеды, если я перестану думать о бесполезности своей жизни, если я забуду ряд неразрешимых вопросов-загадок, я могу стать такой, какой хочу быть. Но как же не думать обо всем этом? Правда, я смогу забыть все это на два-три дня, может быть, на неделю, но не более. Как бы то ни было, а в вагоне я твердо решила переродиться. «Если ты, – говорила я себе, – могла заставить себя сделаться несчастной, то заставь теперь себя сделаться счастливой».
Ведь я не всегда была такой молчаливой и суровой букой, было время, когда я была, как и большинство детей, довольно веселой, самолюбивой и немного болтливой девочкой. Как-то осенью (я хорошо помню этот день) я разговаривала с Лялей. Мы сидели на окне, и осеннее теплое солнце заметно склонялось к горизонту – помню, было так тепло и приятно, так легко и весело на душе. Речь шла о том, что все люди в минуты горя с кем-нибудь да поделятся им, да и не только в минуты горя… Каждую, иной раз и незначительную новость они стремятся скорей рассказать другому, и я тогда много этому удивлялась и решила для себя, что я никогда не буду такой.
Первое время я сильно страдала, многое хотелось иногда рассказать и время от времени я все же позволяла себе это, но меня не слушали внимательно, часто я замечала, что то, что интересует меня, ни капельки не занимает других. Научившись молчать путем стольких страданий, я в редкие откровенные минуты требовала напряженного внимания от своих слушателей, но, не получая его, еще больше замыкалась в себе, ведь болезненно обостренное самолюбие не допускало этого невнимания. Итак, к нашей станции я подъехала с твердым намерением измениться.
‹3 июня 1933›
Пройдя несколько шагов по многочисленным железнодорожным путям, мы увидали папу. Он медленно шел нам навстречу, опираясь на толстую белую палку. Во всей его, слегка сгорбленной исхудалой фигуре, в загоревшем и обросшем бородой лице проскальзывала сильная усталость. Время брало свое. Мы вошли с ним в одно из отделений вокзала, где висела табличка «зал» и «буфет». Справа у самого входа продавались газеты и журналы, здесь собралась небольшая очередь, и папа встал в конце. Я и мама подошли к одному из столиков, положили на стулья вещи и стали ждать. Через несколько минут подошел папа с газетой, и мы тронулись в путь. Пройдя через весь город, мы пошли по глинистой сырой дороге среди бесконечных зеленых полей и бурых пашен.
Серое небо угрюмо нависло над холмистой землей, ветер сильными порывами налетал и несся дальше. Я постепенно начинала разочаровываться в своем решении стать веселой и счастливой, пришлось удовольствоваться только самим решением, не злиться и не раздражаться по пустому. За небольшим холмом мы увидели блестевший изгиб небольшой реки. На одном берегу тянулись небольшие березовые лесочки и перелески, покрытые кустарником. Спустившись с холма, мы увидели небольшой поселок, окруженный деревьями, у ног вилась быстрая и извилистая река, перерезаемая небольшими островками, покрытыми кустарником и травой, между которыми желтел песок.
По небольшому мостику мы перешли на другую сторону и стали подниматься по скользкой дороге. Перед нами стояли два одноэтажных каменных домика, соединенных полукруглой аркой с обвалившейся кое-где штукатуркой, под которой проходила дорога. Войдя во двор, мы поднялись по шатким и прогнившим ступенькам и вошли в коридор. Папа открыл крайнюю дверь, и мы вошли в комнату. Первое впечатление, несмотря на немного затхлый воздух, было очень приятным. В комнате царил приятный полумрак от небольшого окна, в бутылках стояли пушистые ветки черемухи с белыми свисающими цветами.
У окна стоял стол, покрытый белой бумагой, вдоль стены – простая железная кровать, покрытая темно-синим стеганым одеялом, за ней в углу висела широкая полка с мелкими вещами, другая такая же полка висела против окна. Здесь же стояла тумбочка, покрытая белой бумагой. Целая куча ореховых удочек лежала в углу. Справа у двери была небольшая кирпичная плита. Эта убогая маленькая комнатушка со своей бедной обстановкой была на самом деле грязна и непривлекательна, если бы не белые листы бумаги на столе и тумбочке, не душистые грозди черемухи, не голубой полумрак, в мягкой синеве которого все предметы становились красивей и изящней.
‹4 июня 1933›
Я еще никогда не проводила так хорошо время, как в этот приезд к папе, чем-то особенным, необыденным и поэтическим пахнуло на меня из этой глуши. Как было приятно, вернувшись с реки, промерзшей, промокшей и голодной, растопить печь, согреться и, бросившись на постель, отдыхать: и физически, и нравственно. Как хорошо и легко было на душе, как спокойно билось сердце, когда я вечером со смыкающимися от сна глазами сидела за столом рядом с дремлющей мамой, дожидаясь папу. Как приятно было читать рассказы Тургенева и прислушиваться к однообразному плачу гитары за стеной, слушать легкое равномерное постукивание фабричной машины и дробный глухой звук падающих капель. С каким наслаждением я ложилась на жесткий сенник и, укрывшись теплым ватным одеялом, засыпала крепким здоровым сном без сновидений.
К вечеру следующего дня мы опять, несмотря на дождь, решили пойти на рыбалку. Быстро несла свои прозрачные воды Москва-река, светлой извивающейся лентой бежала она по полям в кустах плакучие ивы. В этих кустах мы и расположились на ловлю, за спиной нашей сквозь ветки деревьев белела фабрика, а впереди расcтилалась река, когда же путь ей преграждали небольшие острова, она, как бы сердясь и негодуя, с шумом несла свои воды, плескаясь в узких рукавах. Я сидела на небольшой корзинке, укутавшись в кожух. Дождь сердито барабанил по брезенту, ветер, холодный и резкий, порывами налетал на деревья. Я смотрела, как он широкой волной катился по кудрявым верхушкам берез, тонкие стволы которых покорно сгибались и жалобно шумели листвой. Домой мы возвращались, когда было уже совсем темно. Мелкий холодный дождик сменился крупным летним ливнем, и было приятно идти под его бодрящими ударами.
На другое утро мы с мамой начали собираться к отъезду. Ветер несколько стих, дождь не шел больше, и вместо тяжелых темных туч небо было покрыто желто-серой, плотной, неподвижно висящей в вышине пленкой. От реки поднимался густой белый туман. Часов в десять мы вышли из дома, и я особенно горячо поцеловала папу на прощанье, так как мне было немного стыдно перед ним за то, что я не остаюсь. Желтая грязная дорога бесконечной лентой потянулась перед нами. Через несколько часов мы увидели Можайск. Через задворки и огороды мы выбрались на дорогу в предместье города, где малые ветхие домишки стояли по сторонам улицы. По очень грязной и ухабистой дороге мы поднялись на крутой холм, там находилась центральная часть города. Мы прошли площадь и по небольшому бульвару направились к вокзалу. Тощие деревца, редко торчащие среди травы, да одинокая клумба близ памятника Ленину украшали его.
Этот памятник был, вероятно, одним из достопримечательностей города Можайска. Строивший его стремился, вероятно, изобразить карикатуру и никак не ожидал, что его произведение попадет на такое почетное место. На разрисованной в виде мрамора подставке стоял маленький человек-карлик с непомерно короткими ногами и большой лысой головой. По этой голове, по небольшой торчащей бородке и еще по позе оратора можно было догадаться, что человечек, похожий сзади на плохо обтесанную глыбу камней, был не кто иной, как Ленин. Еще не было двенадцати часов, когда мы пришли на вокзал, порядком уставшие, и сели в поезд на Москву.
‹10 июня 1933›
Дни идут однообразно, скучно, но непомерно быстро, так быстро, что я чувствую, что эти три летних месяца пройдут бесследно, что я не успею освоиться с новым своим положением и войти в новую колею. Я чуть ли не жду с нетерпением начала занятий, чтобы уйти от себя, забыться и не думать ни о чем. Вчера вечером, когда я уже собиралась ложиться спать, пришла ко мне Ляля. «Ах, ты профессор! – с притворной важностью сказала она. – Все мы поражаемся, какой ты профессор». «Кто это все?» – спросила я, немного заинтересованная. Я была несколько удивлена, что обо мне так говорят и приятно удивлена, что ни говори, а у меня чертовски большое самолюбие. «Что это из тебя выйдет? – продолжала Ляля, не отвечая на мой вопрос. – Растешь ты, такая серьезная, молчаливая». «Не знаете вы, наверно – думала я, уже лежа в постели, – что профессор ваш страдает день и ночь». Смешно кому-нибудь постороннему прочесть это слово: «Страдает», – после чего он полуудивленно и полупрезрительно спросит: «Какое там страдает, притворяется». Притворяюсь ли я? Я сама не знаю. Знаю только, что мне тяжело, что камень на сердце нестерпимо и постоянно давит. Что мне мечтать о будущем? В нем не видно ничего хорошего, никто ведь не снимет с сердца тяжелый камень, а с этим камнем я не могу быть счастливой. Можно стать веселой, живой, это все можно, но нельзя ведь стать счастливой.
‹20 июня 1933›
Целых девять дней не бралась я за дневник – не потому, что не было происшествий, просто было лень браться за него и все время я чем-то отговаривалась. «Как ты скучно проводишь свой отдых», – сказала мне сегодня Ляля. И она совершенно права, такого скучного лета и такого однообразия у меня не было никогда, никогда не жила я такой серой, будничной и неинтересной жизнью. С каждым годом и каждым месяцем мне становится все хуже жить, желания мои, чувства и даже ощущения притупляются и я, кажется, впадаю в безысходную тупую апатию. Как иначе назвать отсутствие всякого интереса к окружающему? Апатия ли это? Я не колеблясь бы ответила «да», если бы… по временам в моей душе не поднималось жгучее стремление жить, вырваться из своей клетки, улететь на волю и… жить! Что я подразумеваю под этим? Я и сама хорошо не знаю, но что-то прекрасное. Как иногда бывает трудно быть одной, совсем одной, непонятой, отверженной и нелюбимой. Как тяжело быть среди людей совсем другого склада души и мыслей, зависеть от их резких, уверенных и оскорбляюще ошибочных суждений. Иногда мне хочется иметь друзей истинных и любящих, я мечтаю о них.
‹4 июля 1933›
Можайск – Марфин Брод
Погода сегодня отвратительная, и признаться, мне порядком скучно. Совершенно нечего делать. Женя и Ляля рисуют, а я бы сейчас с удовольствием почитала, да нету книг: все осталось в том злополучном свертке. Хорошо еще, что мы теперь переехали в другую большую комнату, она кажется раза в три больше прежней и имеет прекрасный вид: стены и потолок побелены, два больших итальянских окна выходят в поле и из них виден парк, а по вечерам заходящее солнце бросает сквозь стекла теплые лучи на пол и белые стены.
Несколько раз мы (я и Женя, Ляля) начинали спорить о настоящем времени, о теперешнем состоянии рабочих, о культуре и о многом другом в том же духе. Они всеми силами старались защищать настоящее, а я, наоборот, опровергала его, даже тогда, когда, не имея больше аргументов, переставала спорить, неизменно оставалась при своем мнении. Я никогда не могу согласиться с ними, признающими в настоящем строе социализм и считающими теперешние ужасы в порядке вещей.
‹8 июля 1933›
5-го вечером уехали в Москву папа и мама. Как тоскливо мне, как странно смотреть на опустевшую мамину постель, и, слушая жуткий безумный совиный хохот, или протяжный ее крик, думать, что моя дорогая мама далеко-далеко. Последние два дня идет почти непрерывно дождь, делая лишь небольшие передышки. Мы вчера и сегодня шныряли по мокрому лесу в поисках грибов, мокрые и продрогшие в почерневших от воды юбках пробирались между березками под ярко-зелеными ветвями, с которых при малейшем ветре сыпались тысячи холодных капель. Выглянувшее вдруг солнце яркими снопами разбросало по лесу свои лучи, тысячами огней загорелись дождевые капли, повисшие на листьях и сочной зеленой траве. Все вокруг осветилось и из глубины чащи, из мохнатых от мха стволов смотрели на меня десятки маленьких и ярких солнышек.
Как-то я назвала всю теперешнюю молодежь, Женю и Лялю, в частности, тряпками. Разве можно сравнить бывшее студенчество с теперешним. Есть ли какое-нибудь сходство между грубыми, в большинстве случаев совершенно неразвитыми людьми, способными из-за малейшей выгоды на всякую подлость, с полными жизни, умными и серьезными (за небольшими исключениями), готовыми в любую минуту пострадать за идею, молодыми людьми прошлого века. Я решила вести себя теперь по-другому, во-первых, быть жизнерадостной, всегда оживленной и веселой, и, во-вторых, хоть отчасти быть похожей на последних. О, я смогу быть такой! Я знаю. Надо только маленькое усилие и… я совсем другая.
‹12 июля 1933›
Вот уже два дня я мучаюсь в нерешительности: ехать ли мне в Москву 15-го вместе с мамой или оставаться жить до 17-го здесь у папы. И то, и другое так заманчиво, что право не знаешь, на что решиться. Вчера вечером сестра Женя, находясь в отчаянно ворчливом расположении духа, что, признаться, с ней бывает очень часто, со всеми ругалась, на всех злилась и особенно была невыносима со мной. Брань, едкие замечания так и сыпались на мою голову. О, как я злилась! Как клокотало у меня в груди и просилось наружу накипевшее за время житья здесь негодование, оскорбленная гордость и самолюбие. Но я молчала, и, затаив обиду, с нетерпением ждала того времени, когда можно будет не промолвить ни одного слова с Женей и почти не видеться с ней. «Буду стараться с ней быть как можно холодней и сдержанней, – думала я, – ни о чем не спорить, поменьше иметь общих дел».
Однако, это только одни мысли, как можно было исполнить все это, живя в одной комнате, проводя ночи на одной постели и находясь в тесном соприкосновении между собой во всех домашних обязанностях. Все это лето прошло в бесконечных ссорах. Мы доходили до такой мелочности, что не подавали друг другу чашки и на малейшую просьбу отвечали только: «Сделай сама». Признаться, я особенно преуспевала в этом, но сестры сводили меня просто с ума, постоянно требуя: «Подай», «Принеси», «Закрой» и т. д. В конце концов, мы стали просто на ножах друг с другом, и особенно плохо стало без мамы, когда мы жили все вместе. В эти дни было что-то невероятное, мы ругались с утра до вечера, в воздухе висело: «Скотина», «Дура», «Идиотка».
До чего можно огрубеть! Даже теперь, когда стычки все-таки продолжаются, я не могу без ужаса вспоминать наше житье-бытье там без мамы. Чему приписать эту распущенность, это неумение себя сдерживать и эти ужасы мелочности? Как жизнь коверкает людей! Разве мама в наши годы была такой? Да мы сами раньше неужели такими были? Конечно, нет. Да и не мудрено, как быть не мелочными, когда приходится считаться из-за куска хлеба, как не ругаться и не злиться, когда невыносимый голод сосет и точит что-то в желудке. Передумав все это вчера, я решила уехать 15-го в Москву. «Пора отдохнуть, довольно я мучилась летом», – говорила я себе. И так потянуло в Москву, в привычную старую обстановку, в свою комнату, к старому и милому времяпрепровождению.
‹13 августа 1933›
Да, вчера вечером я почти решила ехать в Москву. Холодная августовская ночь нисколько не тянула к себе, а наоборот, пугала и отталкивала, возможность бессонной ночи не покидала меня. Но сегодня природа опять начала брать верх, о, как она притягивала меня, не покидала бы вовек! Что за проклятущая жизнь! Вероятно, ни разу мне не придется делать то, что хочу сама я, а лишь всегда исполнять чужую волю. Ехать в Москву, когда хочется жить здесь; жить здесь, когда хочется в Москву; сидеть дома, когда тянет куда-нибудь в лес, под густые тенистые ели; ходить в школу и зубрить немецкий, когда так хочется забыть все это, наплевать на науку. На что мне наука, когда я не стану от нее ни лучше, ни счастливей. Я, кажется, все же прихожу к убеждению, что лучше ехать в Москву. Однако, если будет хорошая погода, и Женя останется, то и я сделаю то же. Впрочем, трудно решить, что я сделаю завтра, но постараюсь быть готовой к отъезду. Сегодня с мамой решили ловить рыбу. Как можно отказаться от этого, если на улице так хорошо, ветра нет, солнце тепло греет, река не шелохнется, застыв в созерцании? Видеть, как рыба медленно прогуливается по дну реки, шевеля плавниками, и не ловить ее – это свыше моих сил.
‹20 августа 1933›
Вот уже третий день я в Москве. Кончились мои сомнения и нерешительность. И что же? Неужели я рада этому переезду? Четыре дня тому назад мне так хотелось попасть в свою комнату, уединиться и отдохнуть от людей и передряг житейских. Собираясь сюда, я забывала, что не найду и здесь покоя, я стремилась уйти от жизни, запереться в себе, но что я нашла? Я нашла тех же людей, те же ссоры, те же разговоры, ту же ужасную мучительную жизнь… Что бы я сейчас дала, чтобы прожить хоть лишний денек там, в чудной глуши у папы.
Встали в то утро мы с Женей довольно рано и принялись за основательную уборку. На улице светило холодное утреннее солнце, длинные синие тени лежали на мокрой росистой траве и влажной дороге. Я тогда не чувствовала ни сожаления, ни радости, но, когда мы с Женей пошли в парк, легли на теплую зеленую травку среди кустов и яркой зелени листьев с пестрыми солнечными пятнами, когда солнце пригрело мне лицо и руки, я вдруг с особой остротой поняла, чего лишаюсь и что теряю. С горечью смотрела я на луг, красивую белую лошадь, что паслась там, на противоположный берег реки.
На станцию мы с Женей вышли в первом часу дня. Хорошо помню широкую извилистую дорогу, тонкий слой пыли, бесконечный прямой ряд столбов, убегающих вдаль. Кругом были необъятные желтые поля, на горизонте синели полоски лесов, а между холмами виднелся изгиб реки и высокий овраг, розовой каймой огибающий ее. Вдали виднелись неясные очертания деревень, окруженных полями, и стога сжатой ржи выделялись на светло-желтом фоне…
В Москву мы приехали часов в шесть. Жара уже спала, не было ни духоты, ни пыли. И город не произвел на меня никакого удручающего впечатления. Нас встретила мама и, взяв часть вещей, поехала на трамвае, а мы с Бетькой пошли пешком. Темнота сгущалась и розовая полоска на западе медленно тускнела и постепенно сливалась с темным небом. Как эта ночь была непохожа на ночи в деревне.
‹21 августа 1933›
60 коп. – кило белого хлеба! 50 коп. – литр керосина! Москва ворчит. В очередях злые, голодные, усталые люди ругают власть и проклинают жизнь. Нигде не слышно ни одного слова в защиту ненавистных большевиков. Скачут вверх рыночные цены, от повышения цены на хлеб и на другие предметы широкого потребления захватывает дух. И невольно в голову приходит мысль: что же будет дальше, когда сейчас вдвое подорожал хлеб, и картошка на рынке стоит 5 рублей осьмушка[29] , в то время как в государственном магазине ее вовсе нет? Что же рабочие будут есть зимой, когда сейчас нет ни овощей, ничего?
Все магазины Москвы делятся на несколько разрядов: коммерческие магазины, в которых есть очень много всяких продуктов, отпускающиеся всем желающим. В этих магазинах всегда чувствуется оживление: у прилавков толпятся разукрашенные и намазанные, нарядно одетые барыни, так называемая советская аристократия (по секрету, конечно), состоящая в большинстве случаев из евреек, жен коммунистов и ответственных работников. Здесь совсем нет простого люда и большие помещения магазинов пропитаны запахом разнообразных духов.
Коммерческие магазины находятся на шумных центральных улицах Москвы. Большие их витрины богато разукрашены, и никому с первого взгляда не придет в голову мысль, что все это стоит сумасшедших денег и что по этой-то очень простой причине в них не видно рабочих. Уже около двух лет государство занимается подобной спекуляцией и, безжалостно уничтожая частников-нэпманов, создает государственного нэпмана.
Рядом с этими шикарными магазинами почти незаметны маленькие скромные лавочки с небольшими, но полными всяких продуктов витринами, и не раз соблазнившийся прохожий пытался заходить во внутрь, но неизменно останавливался у входа, прочтя вывеску «закрытый распределитель». Не все могут получать оттуда продукты.
Вдоль Тверской и особенно Петровки среди пестрых разнообразных вывесок можно встретить крупное объявление над входной дверью «Торгсин»[30]. Это своего рода музеи и выставки довоенных времен. Здесь есть решительно все, и коммерческие магазины покажутся против этих совсем низшими. Торговля с иностранцами идет очень бойко, так как в сущности торгуют прекрасно и с советскими гражданами: тащи только золото и серебро. Эти «Торгсины» наглядно показали, насколько упали наши деньги и что наш рубль равен одной копейке золотом.
И, наконец, четвертый и самый многочисленный разряд магазинов – это государственные кооперативы, палатки и т. д. Они рассыпаны на обширных московских окраинах вдали от шикарных городских улиц. Большую часть времени в них совсем не видно людей, за исключением тех дней, когда рабочим и служащим выдают их жалкие пайки. Тогда здесь толпятся громадные очереди, слышатся брань и крики.
Вечер
Какое ужасное настроение было у меня в первые два-три дня. Я с ужасом спрашивала себя: «Что же будет дальше, если сейчас я дошла до этого». Целыми вечерами, полными бездействия и тоски, я слонялась из угла в угол, из комнаты в комнату и временами думала, что схожу с ума. Каким отчаянием и безнадежной щемящей тоской наполнялось сердце! Звуки рояля и заунывные песни раздавались в комнате. «Господи! Да что со мной? – спрашивала я в тоске. – Неужели так будет каждый день?» И мысль об опиуме вновь и вновь приходили мне в голову. Негодование и злость душили меня, казалось нервы каждую минуту собираются лопнуть. Я задыхалась в этой ужасной и тягостной атмосфере, грызла пальцы, хватаясь за голову, мне хотелось плакать, рыдать… Но я терпела, со спокойным лицом разговаривала с мамой, а отвернувшись, мучительно кусала губы, еле сдерживая слезы. Появилось непреодолимое желание броситься кому-нибудь на шею, прильнуть к чьей-либо любящей, все понимающей груди и расплакаться, не сдерживаясь и по-детски. О, какой одинокой чувствовала я себя в эти минуты, какой покинутой и ненужной.
‹28 августа 1933›
Жизнь – это вереница сплошных разочарований. Что встречало меня с самых пеленок? Разочарования, разочарования, разочарования. С тех пор, как я помню себя, они сопровождали мою жизнь. Сначала разочарование в людях, а потом горькое и мучительное разочарование в жизни. Я помню то время, когда мир казался мне прекрасным. В те дни я не задумывалась о всей странной несправедливости жизни, не знала, как подлы люди, я видела только красивую лицевую сторону жизни и не заглядывала за кулисы. И это было такое счастливое время! То было детство с его быстрыми радостями и горестями, веселое и беззаботное детство. Но оно прошло…
Я продолжаю разочаровываться решительно во всем. В маме, в папе, в сестрах… Я все уже вижу в настоящем свете. И с горечью убеждаюсь, что нет ничего прекрасного на этом свете. В одном еще не разочаровалась – это в себе. Ха-ха! Не странно ли? Но верю еще в себя, верю в возможность своего счастья. Но придет время, когда и эта вера растает, придут дни еще более мучительного разочарования, разочарования в себе.
‹31 августа 1933›
Странные дела творятся в России. Голод, людоедство… Многое рассказывают приезжие из провинции. Рассказывают, что не успевают трупы убирать по улицам, что провинциальные города полны голодающими, оборванными крестьянами. Всюду ужасное воровство и бандитизм. А Украина? Хлебная раздольная Украина… Что сталось с ней? Ее не узнаешь теперь. Это вымершая, безмолвная степь. Не видно золотой высокой ржи и волосатой пшеницы, не колышутся от ветра их тяжелеющие колосья. Степь поросла бурьяном. Не видно на ней обширных и веселых деревень с их беленькими украинскими хатками, не слышно звучных украинских песен. Там и сям виднеются вымершие, пустые деревни. Украина разбежалась.
Упорно и безостановочно стекаются беженцы в крупные города. Не раз их гнали обратно, целыми длинными составами туда – на верную смерть. Но борьба за существование брала верх, люди умирали на железнодорожных вокзалах, поездах и все же добирались до Москвы. Но как же Украина? О, большевики предупредили и это несчастье. Те незначительные участки земли, засеянные весною, убираются Красной Армией, посланной туда специально для этой цели.
‹4 сентября 1933›
Вот и опять учение. Я пока с радостью принимаю его. Новые надежды, новые планы роятся в голове. Этот летний отдых много значит для школьников: обновленной и бодрой приходишь учиться, с новой жаждой борьбы и завоеваний. Я вспоминаю сейчас мое настроение к концу прошлого года. И… улыбаюсь. Не слишком ли далеко я зашла тогда? Не попробовать ли мне соединить учение с развлечением? О, эти счастливые мечты, но вряд ли удастся их осуществить. Пройдет несколько месяцев и опять наступит разочарование, ничто не будет мило, в душе будет одна горечь, злость и бесконечное отчаяние. Но сейчас хорошо! На душе спокойно и весело. Разнообразие, наступившее со школой, затянуло меня, меня интересуют и новые педагоги, и сами ученики. Да, я люблю школу. Бегать, бузить! Вот школьный девиз. И никто из моих домашних не предполагает, как преображаюсь я в школе. С каким удовольствием выскочишь в сад после занятий, как приятно стучит сердце от беготни.
‹5 сентября 1933›
Первый приступ пессимизма с начала учения. Не очень сильный и быстро минувший, но не в этом дело, это доказательство того, что я не выдержу и месяца. Скорей бы кончить школу. Как это Жене и Ляле удается все делать? И прекрасно учиться, и играть на рояле, и петь, и танцевать, и рисовать. Без сомнения, они родились под более счастливой звездой, им все удается, их все любят, ими нередко восхищаются. А я? Что такое я? В последнее время я начинаю убеждаться, что я совсем не способная, и если и добивалась иногда первенства, то только своей громадной усидчивостью.
Как природа жестока и как она умеет смеяться! Наградить желанием, усидчивостью, поразительным и редким терпением и даже немалой силой воли и позабыть главное – способности. Как я жестоко раньше заблуждалась? Как я могла считать себя наравне с сестрами? Как я могла думать об этом? Не смешно ли? Быть глупенькой и со своей глупостью быть уверенной, что умна до гениальности. У меня ведь и лицо глупое, вы только посмотрите на это тупое, ничего не выражающее лицо, загляните в эти сердитые глупые глаза, никто же не скажет, что с таким лицом можно быть умной. Почему создатель так посмеялся надо мной? Зачем я не умерла раньше? А Женя и Ляля! Они всего за месяц прошли весь девятый класс и сдали экзамены в институт на «отлично»! И в школе они ничего не делали, а все-таки шли всегда первыми там. А я? Кто может поверить, что я только один экзамен по биологии учила до головокружения, до тошноты? И что все биографии я вызубрила наизусть?
‹22 сентября 1933›
Боже мой, что за мука!.. Да будь проклят день моего рождения, когда я впервые увидала свет. Я теперь понимаю, почему взрослые люди так любят вспоминать свое детство, так жалеют его, ведь года два назад я не понимала этого. Что хорошего в нем? Мне казалось, все было так плохо, а теперь что бы я дала, чтобы воротить его. Да пойди вороти! Его не воротишь, а пройдет еще несколько лет, я кончу семилетку, поступлю в институт… О, тогда я буду жалеть еще больше, тогда я буду жалеть по-настоящему школу, веселье и свободу. Да, свободу, потому что это все-таки свобода против того, что будет потом.
В школе я забываю про себя, про свои мучительные безысходные мысли, начинаю жить и действовать. Уроки не так скучны и невыносимы, как дома, – кругом люди, свои люди, с которыми живешь одними интересами и мыслями, чувствуешь себя большой и сильной, чувствуешь, что в тебе живут все «они», а в них ты – все за одного и один за всех. Лиза[31] вчера на сборе пионеров пустила про наших девчонок, выписавшихся из пионеров, и про меня гнусную клевету. Не любимая никем раньше, она стала еще более противной. Долго и оживленно мы говорили на переменах и решили объявить ей бойкот, почти все сегодня согласились с нами и поддержали нас. О, мы отомстим ей! Мы не дадим смеяться над нами, мы заставим пожалеть ее о своем остром язычке. Всеобщий бойкот – не шутка!
‹28 сентября 1933›
Уроков, боже мой, как много уроков. Мерзавцы-большевики! Они вовсе не думают о ребятах, не думают о том, что мы тоже люди. Какой-то Бубнов[32] , черт знает что, а не человек, плетет себе, что в голову взбредет. Пишет статьи в газеты о школе, что надо повысить учебу, дисциплину, а никто из них не понимает самой простой вещи – ведь они только снижают успеваемость. Я сама чувствую, что стала учиться куда хуже, сейчас всякий интерес к учебе пропал, все опротивело и надоело. «Скорей бы вырасти и уехать из страны варваров и дикарей», – думала я сегодня утром.
‹17 октября 1933›
Сегодня мы с Ксюшей пошли гулять к Новодевичьему монастырю. Когда мы подошли туда, то на несколько минут на повороте нам пришлось остановиться, чтобы пропустить заворачивающий автомобиль. Это была странного вида машина, издали несколько смахивающая на скорую помощь или перевозку больных, большие окна и ярко освещенная внутренность… Она медленно и совсем близко проехала мимо нас, так что я ясно различила сидящих вдоль стен людей. Их было человек пять-шесть, двое были в штатском, а остальные – в военном.
Они сидели молча, неподвижно, как-то странно напряженно и пристально всматриваясь в прохожих. Сидящий у окна ближе к нам военный долго смотрел на нас, проезжая мимо, и даже повернул голову. Не может быть, да не ошиблись ли мы? Неужели это он[33] ? Я не верила, я и теперь не вполне верю. Мы ускорили шаги. Скорей, скорей! Надо во-время прибыть к монастырю, где мы могли бы застать его.
Мы почти бежали, у конечной остановки было много народу. Редкие фонари тускло светили, покрывая мраком улицы. Мы с Ксюшкой подошли к кладбищенским воротам[34]. Сквозь узкую калитку в чугунных воротах виднелась асфальтовая дорожка входа, по которой редко проходили темные фигуры людей, справа неясно виднелись деревянные бараки для рабочих. Перед нами сплошной чернотой зиял спуск к пруду, вдоль которого тянулась толстая монастырская стена. Черные кривые ивы наклонялись над водой, вдали виднелись широким рядом светлые огоньки, там была набережная.
Безлюдность и темь неприятно бросались в глаза. Мы стояли на мостовой у больших ворот и вполголоса, почти шепотом, разговаривали. «Автомобиль может быть там, за стеной, у пруда, там никого нет». Но там было так темно, что мы не решились углубляться в жуткую темноту и долго стояли, тихо разговаривая и дожидаясь, когда кто-нибудь пойдет по этой дороге. Наконец, какой-то мужчина прошел мимо нас и направился к пруду.
Мы тронулись за ним, спускаясь по крутому спуску. Страшной казалась темная облезлая стена, вода была спокойна и неподвижна, кое-где в ней отражались фонари, да далеко на берегу ютились дома. Сзади слышались звонкие голоса не то женщин, не то детей, и, ободренные этим, мы довольно быстро продвигались вперед, пока не дошли до поворота. Городской свет не проникал сюда, и все тонуло тут в полном мраке. Впереди я услыхала выкрики и мужской говор. «Идем обратно! Все равно ничего не добьемся». Рысцой бежали мы обратно.
Гулко отдавались наши шаги под каменными сводами ворот. Густые елки тесными группами стояли вдоль аллеи, могил и крестов не было видно. Все здесь было разорено. На темном фоне ярко вырисовывались высокие колокольни белой старинной церкви и блестели позолотой своих куполов. Несколько стройных голубых елей окружали небольшой белый склеп с золотым куполом. В сущности, чего мы хотели?
‹18 октября 1933›
Сегодня мы с Ксюшкой часа в три пошли на Воробьевы горы. День был тихий и теплый, подернутый голубой дымкой тумана. У перевоза мы долго сидели на пристани, закинув головы и смотря в небо. Особенно запомнился мне маленький деревянный мостик, внизу скачущий веселый ручей и звонкие всплески воды, бегущей с крутизны. Слева широкая дорожка, усыпанная листьями, и высокие прозрачные березы с розовато-желтыми листьями за оградой. Всюду этот синий сумрак.
Странная штука жизнь – запутанное сплетение невероятных обстоятельств и противоречий. Но еще более странная вещь человек: он страдает, мучается, изнывает в тоске и злобе, умирает с голода и холода – и все-таки живет. Зачем он живет? Для того чтобы в один прекрасный день на заре осуществления всех своих заветных надежд попасть под поезд или, сделавшись стариком, быть свидетелем смерти дорогих ему существ и умереть потом одиноким и ненужным. Найдите мне человека, который мог бы сказать чистосердечно и откровенно, не вспомнив ни одного темного пятнышка в своей жизни: «Да, я прожил счастливо». Я не понимаю жизни. С какой стати создали людей и дали им способность мыслить лишь для того, чтобы страдать. Я слушаю сейчас музыку, слушаю и наслаждаюсь и… становлюсь еще более несчастной. Тоска, вдруг появляющаяся в сердце, непонятная, глупая и мучительная. Нет счастья, есть только покой. Когда пройдет детство и юность, пора надежд и желаний, то наступит этот покой, но он-то еще хуже, еще ужасней, ведь в нем уже не унесешься в рай на чудесных крыльях фантазии. Как странно – несчастлив бедняк, несчастлив и богач, страдает урод, страдает и красавица, проклинает свою жизнь и молодой, и старик, у каждого свое, непонятное другому, но сильное горе.
‹29 октября 1933›
Плохая у меня особенность – с течением времени обида на кого-либо остывает, и я иду на компромисс. Так теперь я опять разговариваю с Алькой, хотя в прошлом году думала по-другому. Однако сейчас я все-таки стараюсь сдерживать себя и не заводить слишком дружественных отношений. Какие в последнее время ребята наши стали хулиганами, почти все, включая и Левку. У меня все-таки к нему другое чувство, чем к остальным, совсем уже не то, что было год назад, но все же… ведь он красив, подлец!
Как-то на физике он и Алька что-то нарисовали и бросили бумагу на мой стол. Ксюша передала мне, а я, недолго думая, разорвала ее. На переменке Алька подошел ко мне и спросил: «Луга, ты прочла наше произведение?» «Вот еще! Я разорвала ее». «Ну, и хорошо сделала» – вставил Левка, хитро улыбаясь. Черт возьми, а ведь он красивый парень! Надо сознаться, к величайшему стыду моему, что я еще до сих пор краснею, когда разговариваю с Левкой. Не так давно он вдруг на уроке обернулся ко мне, взглянул пристально и долго, и так хитро и лукаво, с таким задором прищурил левый глаз. Я, как будто не обратив внимания, отвернулась, а потом все смеялась про себя да вспоминала пару серых блестящих глаз. Все-таки Левка порядочный подлец и хулиган, а я почти и не замечаю этого.
‹30 октября 1933›
Сегодня выходной… Я ждала его, ждала всю пятидневку и вдруг… Этот день мне совсем испортили. Надо идти к девяти часам в школу, через десять минут придет Ксюшка, и я тронусь в путь. Ужасная вещь человеческая жизнь, комок сплошных противоречий. Нет в жизни истины и справедливости, все ложь, все обман. Обман даже в самой правде, во всем, во всем, и всегда он будет существовать. Никогда люди не увидят того времени, когда на свете все будут равны, когда один не будет иметь право принуждать и оскорблять другого, когда не будет сильных, правящих всем, и слабых, не имеющих прав. Жизнь – это борьба. В борьбе всегда выигрывает сильный, и сильный возносится до небес, а слабый пресмыкается у его ног. А что такое женщина? Женщина – это собака, которая стремится подняться до хозяина, занять с ним одинаковое положение и не может достичь этого. Что такое освобождение женщины? Это мираж, просто галлюцинация.
‹8 ноября 1933›
Лучше бы не было этого отдыха и перерыва, держали бы уж все время в клетке, а то выпустили, дали расправить крылья и вздохнуть полной грудью, а потом опять засадили. Как странно и смешно мне вспоминалось настроение, с которым я шла в этом году в школу, все казалось так легко и интересно. Сколько было планов и надежд у меня, только подумать, до чего же я была наивна два месяца назад. А теперь? Что со мной делается теперь? За ученье взяться нет сил, а не учиться нельзя. Почему? Почем я знаю, я не знаю, все учатся, ну так и я буду.
Опять на меня находит прошлогодняя хандра, но в этом году мне как будто легче, потому что я не молчу уже целыми днями, морщась от боли, а иногда даже подолгу говорю маме и папе о школе и проклинаю перед ними свою жизнь. Я в последнее время стала страшно несдержанная, постоянно ворчу и ругаюсь. Что же делать? Ведь так тяжело жить молча, да и ни к чему. Ах, как ужасно жить! Хоть бы школа сгорела, и нас бы распустили, право, я была бы рада. Не могу я ничего делать, запустила уроки и продолжаю запускать. Как переменить эту ужасную жизнь? Иногда позавидуешь старине, когда не надо было учиться и целый день можно было делать что хочешь.
Эти Октябрьские праздники странно прошли для меня. Шестого ноября я и Ляля пошли в Малый театр на «Любовь Яровую». Я давно не ходила в театры и в последнее время так отвыкла от них, что просто не тянуло, а теперь так хочется туда. Да, поистине я не видала еще никогда до этого дня настоящих артистов, играли хорошо, но так, как в этот раз – никогда не играли. Просто чудо и прелесть! Жизнь наша обычно пошла, скучна и неинтересна, слишком она переполнена мелочами. Но зато на сцене, там, где нет этих мелочей, она прекрасна, причем прекрасна и в минуты отчаяния, и в минуты безумного счастья. Там ты видишь ее во всех характерных ее проявлениях, не загаженную и испачканную, там сама начинаешь жить и, смотря на чужие человеческие страдания, чувствуешь себя счастливой и действительно живущей. Забываешь обо всем, решительно обо всем и видишь перед собой лишь этих интересных новых людей, полных чего-то неведомого и увлекательного, что называется жизнь.
Только и можно жить чужой жизнью. Уже не принадлежать себе, не быть собой, а чувствовать и переживать то, что чувствует другой. Я никогда не предполагала, что люди могут так играть, ничего неестественного и деланного. Нет, я не могу описать, какое сильное впечатление произвела на меня эта вещь. В антракте сидела безучастная и странная, и все представляла себе Любовь Яровую, ее голос, в котором слышались слезы и страдания. О боже мой! Как хорошо она играла! А поручик Яровой? Как дрожал его голос, когда он, схватившись за голову, говорил: «Люба! Я не могу уйти от тебя».
Я страдала вдвойне, глядя на них, страдала вместе с ними и страдала за них. «За что боролись эти люди? – спрашивала я. – За что портили, губили свою жизнь и умирали?». Нередко так было горько, обидно за них, за этих благородных, идейных людей. Как над ними жестоко надсмеялись наши подлые большевики, превратив их идею и мечты в ужасную карикатуру, построив на их страдании, на их жизнях, которые они клали за великое дело, свое благосостояние, богатство Сталина и страдания народа. А после театра еще отвратительней и гаже показалась мне наша жизнь… Вчера с Женей пошла на «Демон». Мне везло в эти дни, второй раз бесплатно попадаю в театр. Эта вещь была совсем в другом духе, и я даже кое-где не слушала, а вспоминала все ту же «Любовь Яровую».
‹9 ноября 1933›
Сегодня я не пошла в школу и целый день сижу дома. На улице снег, и меня тянет погулять, но нельзя, некогда… За что я мучаюсь, за что сижу целыми днями и получаю «отлично», ведь все, что проходили в прошлом году, забыла. Что стоит сейчас плюнуть на все и получать «удочки», и тогда… целый день я свободна: хочу гуляю, хочу играю и рисую, хочу пишу. Как хорошо! Но… я чувствую, что не смогу бросить ученье, не позволю себе стать ниже других. Это слишком вросло в меня – непреодолимое стремление добиваться первенства во всем, я чересчур честолюбива.
При этом все думаю устроиться так, чтобы и заниматься мало, и учиться хорошо. Может попробовать делать все уроки в школе, что возможно, поменьше зубрить и меньше дурачиться. Месяц, другой, а там привыкнешь к этому и втянешься. В прошлом году я хоть спала вволю, а теперь и это не успеваю делать, и с каждым новым днем я все больше ненавижу школу и ученье, мечтаю освободиться от них, но незаметно для себя так сильно втянулась в эту скучную и однообразную жизнь, что не смогу уже бросить ее, если даже и представится возможность.
Иногда так хочется гулять, валяться в снегу, но я знаю, что меня в действительности это даже не обрадует, так отвыкла я от всего этого. В прошлом году я была страшно глупа, записывая про Левку, как это было наивно и в то же время старо; сейчас читаю и удивляюсь, как я могла писать эту чушь. Пройдет года два, и я, пожалуй, перечеркну эти строки. На демонстрацию я не ходила, накануне поздно легла спать и не хотелось рано вставать. Утром слушала радио: крики «ура» и оркестр. И было больно и досадно чувствовать, что ты не принимаешь участия во всеобщей жизни.
Молодость хороша стремлением к борьбе, стремлением к справедливости, она ищет правду, добивается ее, а потом, как наберется опыта и узнает жизнь, охота бороться с ней пропадает. Она смиряется с людьми и с ложью, врастает в них сама, ее уже не удивляет и не коробит подлость, то, что вокруг «все не так». Я теперь уже во многом смирилась с жизнью и то, что раньше возмущало меня, теперь уже не трогает. Я сначала радовалась, что спокойней стала жить, а выходит, ничего хорошего нет.
‹11 ноября 1933›
Любить как свою родину, так и любить ее людей, но еще ужасней жить среди дикарей, необразованной, некультурной народной массы. Среди грубого, дикого русского народа, ничего не понимающего, ни в чем не разбирающегося, свирепого, стихийного, как зверь, признающего только жратву и подачки, не знающего ни чести, ни гордости. Жить с нескончаемой злостью на все и на всех, начиная с самых низов, с темных крестьян, ненавидеть глупую, но до смешного покорную, то ужасающе бунтующую толпу, и стремиться всеми силами помочь ей. Нет ни одного государства на свете, равного по своей обширности, даровитости и темноте – нашей бедной и «немытой России».
‹12 ноября 1933›
Через полтора месяца мой день рождения, но он уже не радует меня, уже прошло то время, когда я подолгу думала о нем и высчитывала дни и часы до него. Заставляю себя радоваться и не могу, несколько лет тому назад я думала, что 25 декабря будет для меня вечно счастливым днем, но… До прошлого года я любила этот день, ждала его, и вдруг все переменилось, я стала другой, непохожей на прежнюю Нину, у меня появились новые желания и интересы, а все старое, доселе интересное, опостылело.
Старые радости уходят навек, страшно и жутко думать, что с каждым днем и годом они все больше и больше уходят, и грустно станет жить. Счастлив тот, кто любит и кого любят, вернее, счастлив тот, кто родится под счастливой звездой. Такие же, как я, «неудачники», могут только страдать и плакать. «Пусть неудачник плачет». Для меня любовь – это лишние мучения, ведь я люблю, люблю маму, люблю Ю.И., но все же как-то мучительно, порывами.
Проклятье быть уродом и иметь человеческую душу. Если бы у меня были деньги. Деньги, деньги! Что вы можете сделать?… О, я бы каждый день ходила в театры, пересмотрела бы все вещи там. Мне не нужна была бы тогда моя жизнь, я бы смотрела на чужую и жила бы ей. Я ничего не потеряла бы, ведь несчастной я не стану, а, может быть, стану счастливой… Зачем же я стала читать книги и учиться? Для чего я стремилась научиться думать и понимать? О, если я была необразованной, темной, крестьянской девчонкой, то я была бы счастливой, пусть много работала бы, зато хорошо бы и веселилась. Настанет когда-нибудь день, когда я прокляну минуту своего рождения.
‹14 ноября 1933›
Настроение у меня страшно быстро меняется: то безнадежно тоскливое, то вызывающее, полное странных мечтаний и надежд. Эти перемены очень раздражают, злят, заставляют нервничать, хотелось бы всегда быть одинаковой: или радостной и сильной, или ненавидеть жизнь. Но весь ужас в том, что душа моя не слушает разума и воли. Сегодня у меня настроение одно, и я мучаюсь, проклинаю жизнь и готова всех растерзать, а завтра взгляд мой вдруг круто переменится, жизнь покажется не такой уж гадкой. С удовольствием возьмешься за ненавистные уроки и построишь вдобавок блестящий и грандиозный замок желаний о своем будущем. Но цели, определенной и реальной цели у меня нет. Зачем я живу? Во имя чего? Одному богу известно, просто копчу даром небо.
Даже мои писания, о которых так много думалось и говорилось раньше, пошли в отставку, просто нет времени заниматься ими, и постепенно пропадает желание. А было ли по-настоящему у меня когда-нибудь желание? Не иллюзия ли это была, пустая погоня за совершенством? Я любила сочинять только в голове, на бумаге же дело поворачивалось в другую сторону, пыл проходил, и ничего не получалось. Сейчас я и не мечтаю стать гением, ни о чем не мечтаю, даже обычная моя «игра» нейдет на ум.
Интересно иногда рассмотреть мое прошлое, разобрав его по ниточкам. С малых лет у меня появились в характере некоторые слабости: подозрительность, доходящая иногда до нелепости, и мечтательность. О чем думала, что представляла, или, вернее, во что «играла», как я называла это, вероятно, не решусь никому рассказать. А в последние годы я любила по целым часам сидеть в комнате и сочинять различные вещи, разговаривать, изображать и переживать, на разные лады переделывая одно и то же.
Когда мне было семь-восемь лет, подозрительность моя дошла до болезненности, я в каждом слове чувствовала скрытый смысл и заговор против себя, всего боялась и, оставшись одна, осматривала все углы и закоулки – нет ли кого. В те годы мне часто снились поразительно яркие и страшные сны, которых я с ужасом ждала и от которых просыпалась в холодном поту и с сильным сердцебиением. Один сон, часто повторяющийся, сам по себе не представлял ничего особенного, но он внушал чисто физическое и тошнотворное отвращение. Несколько лет это ощущение повторялось уже наяву, и я пыталась понять, внимательно изучая его, что же это такое, но не могла…
‹18 ноября 1933›
«Проклятье быть уродом!..» В прошлый выходной я встала очень поздно, хмурая, сердитая и готовая заплакать… Настроение было ужасное. И вдруг, совсем неожиданно, как с неба свалилась, пришла в голову мне обаятельная по своей новизне мысль: «Бросить все и заниматься дома». Мое дурное настроение как рукой сняло – целый день я дома и одна. Я представляла себе всю прелесть этой неожиданно перевернувшей меня жизни: играть на рояле, гулять, писать, рисовать, читать вдоволь и, конечно, учиться. Весь выходной я думала только об этом, эта новая мысль так затянула. А когда потянулись скучные, однообразные и будничные дни мне уже не было тяжело и горько, я ложилась и просыпалась с неизменной мыслью: «Скоро, скоро». По временам приходили сомнения: «А может это невозможно? Что за чушь я придумала?» Невесело тогда становилось на душе, школа мне стала невыносима, до того там было все противно и гадко, опротивели педагоги и ученики, боязнь перед опросом – опротивело все.
‹29 ноября 1933›
Как и когда это случилось… Не все ли равно! Только я уже пятидневку не хожу в школу. Сижу дома одна, настроение все дни хорошее и веселое: подолгу смеюсь, сидя одна, или же начинаю бегать по комнатам, улыбаясь, часами играю на рояле и немного читаю. Каждый день приходит Ксюша, принося известия из школы, оттуда, с чем так хотелось бы совсем покончить. Как злит и раздражает эта неволя и связь с тем миром, гадким и противным, который хотелось бы совсем забыть, но хорошо, что хоть часть моих желаний исполнена. Время идет быстро и незаметно, занимаюсь теперь гораздо меньше и с большим удовольствием, сегодня только немного омрачился мой отдых. У Жени ужасное и тяжелое настроение, которое часто бывало у меня, и я вновь им заразилась, опять появилась какая-то неудовлетворенность, какая-то злоба на жизнь.
Папа за обедом мне в шутку сказал: «Пойдем, Нина, путешествовать по России. Паспорт все равно мне не дадут». «Пойдем», – воскликнула я, так и вздрогнув вся от неожиданной радости. И в уме уже рисовались пленительные картины… Леса, поля, новые лица, новые города… Шумные потоки и широкие, спокойные реки. Темная сеть ветвей и листьев, пахучая и душистая трава, влажная хвоя, бесконечно широкое море колыхающейся ржи, ветер, милый летний ветер и над всем этим небо, синее, далекое, то сердитое, то ласковое, покрытое тучами или ясное, чуть смеющееся вечером и бирюзовое по утрам…
Лечь где-нибудь в лесу там, где не ступала нога человека, у мохнатых зеленых стволов берез, прильнуть телом к теплой земле, уткнуться в пахнущую здоровьем и весельем яркую траву и, заложив под голову руки, долго смотреть вверх, где сплетаются, образуя живой трепещущий шатер, гибкие ветки, где бьются зеленые листочки, шумят и блестят на солнце, где плавно раскачиваются стройные верхушки белоснежных берез и виднеется синее небо, вымытое и ликующее, залитое лучами солнца. На что мне книги, ученье? Я не создана для душной комнаты и людской толпы. Свободы! Свободы жаждет сердце… Слиться с природой хочется мне, взлететь высоко над землей вместе с вольным ветром и лететь… в далекие и неведомые страны. А меня держат в тюрьме, мучают, пытают и отравляют мне жизнь.
‹5 декабря 1933›
Вторая пятидневка прошла быстро и незаметно. Такой ужасной кажется возможность опять идти в школу, а придется и очень скоро, уже начались четвертные зачеты, и мама говорит, что мне их надо сдать. Больше пяти дней не просижу, пожалуй, школа мне сейчас не кажется такой отвратительной, как прежде, но боюсь, что вскоре все пойдет по-старому. Сейчас я чувствую себя прекрасно, настроение спокойное и веселое, ведь я совсем не вижу людей, ни с кем не общаюсь, все одна и одна, и некому напомнить про мое косое безобразие.
Сама же забываю я про него, но стоит мне только увидеть постороннего человека, промолвить с ним два-три слова, как с мучительной ощутимостью начинаю представлять свой взгляд, противный и неприятный. Стараюсь не глядеть в лицо собеседника, отворачиваюсь и наклоняю голову, и тупая злость против всех и себя появляется в моей душе. Ужасно ощущать свое безобразие, но еще ужаснее находиться с ним среди нормальных людей, чувствовать, что все видят его. Они думают, что я по натуре такая молчаливая, дикая. Да, нет! Никогда не узнает никто, что такой сделало меня мое собственное уродство. И теперь я урод вдвойне: урод физический и урод нравственный. Одно создало другое. Одно – это физическое уродство исковеркало, переделало на свой лад мою душу, сделало из нее какой-то ужасный комок противоречий, неуживчивый, мучительный. Заставило меня молчать, злиться, заставило страдать. А там, в самой глубине души все-таки иногда прорывается пламенное желание быть человеком, таким, как Женя, Ляля, мама, все. А сознание, что это невозможно, так невыносимо.
‹15 декабря 1933›
Дни идут и идут… Не то, что быстро, а как-то незаметно. Но 19 декабря мне необходимо идти в школу, и это будет еще ужасней, чем раньше, ведь я так отвыкла от людей, стала такой дикой и странной. Чего я требую? Только одного – жить одной и все, я раньше не думала, что счастье для меня заключается в таком немногом. Мне это временное уединение совсем не принесло пользы, наоборот, я так отвыкла от людей, что даже в присутствии своих родных чувствую себя отвратительно и решительно не знаю, куда девать себя.
Все кажется у меня смешным и безобразным: большие красные руки в непомерно коротких рукавах, сутулая фигура, которую я стараюсь выпрямить и которая от этого становится еще более неестественной и некрасивой. Все время находясь у бабушки, я не забываю об этом – о своем лице, о глазах и фигуре. Может быть, это легкомыслие? Не спорю. Но так тяжело думать, что вещи, которые приносят такую боль и мучение, не что иное, как только легкомыслие. Наверно, это действительно мое болезненное и обостренное самолюбие, хорошо бы мне побольше находиться среди людей, приучая себя не обращать внимание на свое безобразие. А я делаю наоборот.
Мама была права, говоря, что после перерыва мне еще трудней будет среди учеников в школе, но я все-таки не променяю обыденную жизнь среди людей, даже привыкнув к ней, на краткие периоды моего одиночества. Зато как блаженны бывают дни, когда я остаюсь одна, и тогда я бываю счастлива (почти всегда). Папа, смеясь, говорил, что мне самой скоро надоест мое отшельничество, но он глубоко заблуждается: чем больше я нахожусь одна, тем милее мне мое одиночество. Да, не всякому, конечно, понравится такая жизнь: каждый день ничем не отличается от предыдущего и будущего, а в то же время он так хорош.
В эти дни я много играю на рояле, жаль только, что не могу еще разбирать трудные вещи. Но я должна научиться, я серьезно взялась за это. За окном голубое небо, белые неподвижные облачка, а внизу снег и яркое солнечные блики. А у меня на душе тихо и спокойно – словом, рай земной. Ну разве можно променять это на школьный шум и гам, на бесконечные волнения или томительно скучные часы уроков?
Мне очень часто хочется узнать, что думают другие женщины и девочки, тогда бы я окончательно поняла себя. Мы, женщины, не знаем себя, потому что нам не у кого подучиться. Все великие писатели – это мужчины, и, описывая женщин, они смотрят исключительно со своей точки зрения, они нас не знают. А мне так необходимо часто знать мысли женщин, их желания и потребности. Я лично представляю собой бесконечную путаницу и хаос всех желаний и потребностей, как мужчин, так и женщин. И (надо поставить в заслугу) страшно презираю последних за их глупость и бессилие выйти из-под власти мужчин и перестать быть рабынями, за что-то специфически женское.
‹16 декабря 1933›
Нынче Ксюша предложила мне вдруг не ходить в школу до каникул. Я сидела и думала, а в душе все громче и смелей звучал голос, говоривший «останься». Я теперь почти уверена, что останусь. Все равно решение зависит только от мамы и папы, хотя перед ними немножко стыдно, что так быстро меняю свои решения, но зато как пленительно манят эти десять дней. А там еще пятнадцать, свободных и беззаботных дней.
Сегодня я взяла свои старые тетради 1928-29 года с сочинениями и, читая их, не могла не смеяться. Как они наивны и по-детски просты. Однако, в 1929-30 годах появляются в рассказах некоторая идейка в связи с коллективизацией и разорением крестьян, я начинаю выступать против большевиков, ругая их от лица своих героев. Вообще, появляется серьезность и кое-что похожее на теперешнее мое писание.
‹20 декабря 1933›
Сижу дома… Погода теплая и тихая, тучи сыплют мелким и легким снегом, даже не холодным, а приятно освежающим лицо, подернутое пленкой синее на западе небо, в тумане виднелась неясная даль. А я сижу дома, по временам так тоскливо становится, я скучаю по морозному воздуху, по голубой дали и синеющему светлому небу. Я дала себе слово каждый день на каникулах гулять и гуляла бы, если б Ксюша осталась в Москве, ходили бы вдвоем на каток и бегали по Воробьевым горам. Но она уезжает в деревню, единственный человек, с которым я могла бы гулять. А теперь? Ходить одной, оглядываясь каждую минуту по сторонам – нет ли рядом хулигана. Ну нет, это невозможно.
Я как-то услыхала случайный разговор мамы и папы обо мне и папины слова: «Она настолько ограниченна, что не интересуется ничем, ее не касающимся, и даже разговаривать разучилась». Горько и обидно стало мне от этих слов. Хотела вначале поговорить с папой, а потом раздумала. С какой стати унижать себя лишний раз. Трудно будет мне жить на свете. Куда я гожусь? Быть или конторщицей и корпеть всю жизнь над бесконечными цифрами, или учительницей непокорных, противных учеников, которые издеваются над тобой и дразнят. Незавидная судьба! А большего я не достигну, но может к тому времени меня покинут мечты и угаснут мои надежды. Но жить будет, я знаю, еще тяжелей, недаром же старики с таким волнением и грустной радостью вспоминают молодость. Чем все это кончится? Моя тоска, моя хандра…
‹21 декабря 1933›
В странных ненормальных условиях протекает моя жизнь. Меня можно сравнить с пожизненным заключенным, у которого нет никакой надежды на освобождение и который, не надеясь, все же мечтает об этом освобождении. Все время я думаю об одном. И эта единственная вещь – есть я. И правда, если взглянуть на мой дневник, то нет там ничего, кроме меня. Все я, да я. Правда, я как-то давно ничего не писала, пожалуй, с весны прошлого года, то есть перед этим летом.
Как я кляла школу и ученье в прошлом году! А все-таки тогда было легче, чем теперь. В общем, я теперь знаю, что ни за что не решусь оставить школу. Тогда меня удержала Ю.И. и отчасти в начале года Левка, теперь Ю.И. ушла, а Левка стал просто хулиганом. И я опять ненавижу школу, как и раньше. «И скучно, и грустно!» В душе пусто и нерадостно, тоска в сердце. В начале прошлого года было совсем не то, но лучше или хуже – не знаю.
Сегодня я порылась в дневнике, почитала про Левку и… стыдно стало. Боже мой! Какая я была дура, как я могла быть способна на такую глупость? Вся эта история с Левкой отвратительна, а мы были только в пятой группе. Пожалуй, всю кашу заварила я сама и как вспомню об этом, начинаю презирать себя: и за глупое увлечение, и за то, что не могла скрыть его от девчонок, от Иры и Ксюши. Какой позор! Бегать за ним, краснеть от одного его взгляда и счастливо улыбаться на каждое его слово.
‹22 декабря 1933›
Недавно, часа в четыре, вышла из дома с Бетькой гулять. Было еще светло, в поле пусто и тихо. Выйдя на дорогу к реке, пошла, не отставая, за какой-то женщиной. Стыдно сознаться, но мне было страшно своего одиночества, которое я так люблю. Ведь это была моя первая прогулка, самостоятельная и без провожатых, поэтому понятно, что я чувствовала себя странно, не находя рядом знакомого человека.
К счастью, дорога была оживленна, изредка навстречу мне попадались пешеходы, за мной шел какой-то мужчина, раз проехал извозчик на чудном вороном рысаке. Если б почаще устраивать такие прогулки, я, пожалуй, перестану бояться всякого встречного мужчину. Эти мужчины, пожалуй, испортили мне жизнь и в дальнейшем испортят ее еще больше. И кто виноват? Мама. Зачем она мне с ранних лет внушала этот постыдный страх перед ними, не позволяя ходить одной?
Как мучительно было сознавать свое бессилие и ничтожество, невольное и полное подчинение мужчине. Как вырваться из этого подчинения, когда ты всегда находишься в их власти? Из-за этой боязни я теряла прекрасные минуты и даже часы уединения в лесу и поле. Я боялась возможности встретить «мерзавца», который вдруг возьмет и оскорбит. Есть еще время переделать себя, и я буду бороться, как только представится возможность. Я уже не боюсь выходить одна ночью на улицу, ходить по пустым полутемным лестницам, и это уже шаг вперед.
‹24 декабря 1933›
Так тянет на улицу гулять, дома скучно и ничего не хочется делать. Последние дни я начинаю запускать уроки, никак не могу собраться, чтобы взяться за них, опять появилась неудовлетворенность, смутные желания. Можно ли вести отшельническую жизнь в пятнадцать лет? В самую лучшую пору жизни, чтоб никаких удовольствий и развлечений, одна бесплодная скучная и ненужная наука, пахнущая мертвечиной и гнилью? А мне всего пятнадцать лет!
Правда, я уже отвыкла от другой жизни и нет мучительных резких порывов к веселию, но однообразие, отсутствие интересов и одиночество долгих дней и месяцев вылились в бесконечную тупую тоску. Интересно, что меня сейчас ничего не интересует: ни живопись, ни музыка, ни какая-то наука, ни писание. Все скучно и неинтересно, все представляет лишь необходимые в жизни и скучные обязанности. Даже спорт, коньки и гимнастические упражнения, не доставляют удовольствия.
С некоторых пор, за что ни возьмусь, твержу себе «так надо», а не говорю, «я так хочу». Излюбленными моими занятиями теперь, да и раньше было лежать по утрам в постели по несколько часов, время от времени дремать и мечтать об одном и том же, но на разные лады. И это удовольствие я старалась доставлять себе как можно больше, хотя и говорила себе, что надо вставать. Как тянет иногда мечтать, хотя невольно и думаешь: «Зачем это только мечты?» Мечтать я могу подолгу, целыми часами, ярко все представлять себе и разговаривать, заменяя несколько лиц. Что мне еще хочется – это читать, читать без конца, но и тут противное слово «надо» не дает покоя, запрещает читать романы и велит копаться в скучных, сухих историях. А как я люблю романы… Забываешь про все, живешь интересной чужой жизнью, переносишься в неизвестный чудный мир.
‹26 декабря 1933›
В начале этого месяца я очень просила маму записать меня к глазнику в больнице, мне не давало покоя мое уродство, было еще свежо воспоминание о школе и общении с людьми. Каждый день я напоминала маме, но она не обращала внимания на мои просьбы, отговариваясь, что нет денег, а, в сущности, считая это лишним. Она отчасти права, потому что об операции, конечно, нечего и думать, но я тогда еще надеялась и ждала. Теперь же, находясь все время дома и никого не видя, я забыла о своих глазах и перестала говорить о них с мамой.
Вдруг она сама вчера и сегодня напоминает об этом и просит отца записать меня, и отец, раньше неодобрительно относящийся к моей просьбе, без возражения соглашается. Мне показалось очень странным это их внимание, уж не прочли ли мой дневник? Только из него они могли узнать что-либо, и это вполне возможно, хотя я и не очень огорчилась. Бог с ними! Пускай читают, не все ли равно? Лишь бы не заговаривали, а если заговорят, то я не буду молчать и выругаю их, как следует.
У меня отвратительные отношения с родными. Привыкнув к одиночеству и обособленности, я стала не в меру самостоятельной и не терплю, чтобы мне делали замечания и читали нотации. Я не хочу быть такой, но стоит только кому-нибудь на что-либо мне указать, я начинаю ругаться и резко обрываю. Наиболее обостренные отношения у меня с папой. Почему? Не имею никакого представления. Мы с ним более-менее одного характера и от этого, наверное, все и происходит.
Разговариваю я с ним очень мало, да и вообще я до смешного мало говорю, но уж если мы с ним заговариваем, то обязательно поругаемся. Какое-то непонятное, но неудержимо сильное раздражение появляется у меня против него. И что за чертовщина! Никак не могу с собой сладить. Папа всегда был немножко ворчлив, но к старости (как это большей частью и бывает) эта слабость усилилась. Он ворчит решительно на все: на радио, на маму, на нас и больше всего, пожалуй, на меня, я ведь все время под рукой верчусь. Это для него необходимая вещь, как еда и спанье.
Однако это не мешает мне уважать его и уважать очень сильно. Если у меня есть авторитет, на который я почти во всем могу ссылаться – так это отец. Его слова для меня все (надо сделать оговорку, что только в политике и в науке). Насыщенные злостью и сарказмом слова отца я принимаю за правду, и чем более они резки, тем приятнее мне. Папа – молодец, из простого крестьянина стать образованным, умным и поразительно развитым человеком нелегко, и мы ему, конечно, не чета.
Мы сами о себе невысокого мнения, но еще более низкого мнения о нас отец. Он, вообще, ругает всю советскую молодежь, а мы для него самые глупые, неразвитые и ограниченные во всем люди. Этому еще способствует и то, что мы женщины, а все женщины для него дрянь, да и не только для него, но и для многих мужчин. Хорошо еще, что у меня нет брата, разница обращения с ним и с нами была бы колоссальной.
‹1 января 1934›
Недавно пошла с Ирой на улицу, Мне было неинтересно и чуточку смешно слушать ее совершенно меня не касающиеся и легкомысленные похождения. Возможно и ей было невесело, но она с большим удовольствием описывала свою жизнь и времяпрепровождение в обществе очаровательных друзей пятнадцатилетней хорошенькой своей подружки с ее поклонником, тридцатилетним греком. Целый вечер у них фокстроты и флирты.
Если бы я услыхала это от кого-нибудь другого, то не поверила бы, что Ира в свои тринадцать лет занимается этим, и в этом отношении она кажется куда старше меня. Сейчас уже в ней видна девушка, интересная, тоненькая и веселая, умеющая поговорить с любым кавалером и потанцевать. И хоть она и говорит, что ей сначала было неприятно, зато потом ей понравилось там. Вот какими должны быть девушки! А не такие уроды, как мы, думающие о каком-то равенстве, требующие, чтобы нас считали за людей. Кто внушил нам эти глупые мысли? Почему нам стыдно, когда за нас мужчины платят в трамвае, когда надо ходить на чужие деньги в театр? Что за глупости! Надо, наконец, понять что мы только женщины и ничего более и ждать другого обращения с собой смешно и глупо.
Я уверена, что Ира не удивится, а будет польщена, когда в один прекрасный день грек подаст ей пальто или бросится помогать застегнуть ботики. И она будет права. Ляля и теперь уже считает нормальным, что в трамвае мужчины должны освобождать место женщине, хотя для меня это еще позорно. Как только я пойму, что мужчина неизмеримо выше меня, так брошу стремление встать с ними на одной высоте и буду даже рада подачкам, которые дают нам мужчины.
Словом, стану женщиной и буду замечать особой полунасмешливой и оскорбительной улыбки при разговоре с женщиной, их изысканно преувеличенной вежливости. Сегодня папа сильно дал мне почувствовать себя женщиной, заявив: «Куда вам до ребят. Ребята молодцы, а вы ведь девчонки». И я стояла, чуть-чуть улыбаясь и не сердясь; конечно, он прав, разве можем мы равняться с ребятами. И вспоминались мои мечты и стремления, которым не суждено сбыться.
‹7 января 1934›
В квартире я была одна, и это было счастье. Я говорила себе: «Есть два выхода: один – это как-то изменить свою жизнь, но это невозможно; другой – это вообще покончить с жизнью, но он также невозможен. Остается только одно». И я смеялась над невольной нелогичностью выхода: «Остается только продолжать жить, ничего не изменяя. Но ведь это невозможно? У нас три невозможности, и последняя является самой возможной невозможностью». Мне было тяжело, тяжело от своего бессилия. Если б мне кто-нибудь догадался в шутку предложить пузырек опиума, я бы не отказалась и спокойно б выпила. Но… так, чтоб не знал никто… не могу. Как-то странно и страшно, а что подумает мама, что с ней будет, и со всеми другими, но особенно с мамой.
Мучает меня все, что неизбежно, а то, о чем мечтаю, невозможно. Страшно мучает меня мое одиночество, но… почему я не могу расстаться с ним? Да мне некуда, некуда убежать от него! Вчера ходила с Женей и Лялей на Воробьевы горы. И это был за последние дни первый счастливый час забытья, мне было весело и ни разу я не вспомнила о своей роже, меня просто не было со мной. А потом, когда вернулись домой, опять все пошло по-прежнему, все злило и раздражало – и сестры, и отец, а иногда и мама, но больше всех я сама. Ах, если б я могла быть без себя!
Чаще и сильнее меня мучает мое лицо и мой пол. Я – женщина! Есть ли что-либо более унизительное. Но я все же человек, и мне обидно и стыдно ухаживать за папой и Колей[35], когда они обедают. Какое они имеют право сидеть, разговаривать и смеяться, заставляя меня приносить им ложки, тарелки и отрывая от своей еды? Пускай я хуже их, ниже, ну и что? Я все-таки человек, свободный человек! Я хочу быть свободной! Но нет, они сломят меня, добьются своего, отец и сейчас упорно стремится создать из меня именно такую, униженную рабу. Он хочет, вероятно, чтобы я не задавала себе рокового вопроса, которому сам меня учил: «Почему они имеют это право?» Неужели я сдамся? Нет, никогда!
‹11 января 1934›
Сейчас сидела в кухне, рисовала. В квартире никого нет, кроме меня и Бетьки. Вдруг в дверь раздается стук, стук не наш[36] , но страшно настойчивый. Некоторое время я продолжала рисовать, не обращая внимания. Я уже привыкла к этому, открывать я не собиралась, знала, что это чужие. Если бы не нелегальное положение папы – бояться было нечего, но так как он живет у нас без паспорта, всего ожидаешь. Вдруг придет милиция. Теперь перед 17-м съездом всюду ищут без паспортов. Чего они боятся? Неизвестно…
Долго звонил и стучал незнакомец. Я отложила в сторону карандаш и бумагу, сняла башмаки и неслышно вышла в коридор. В это время из соседней квартиры вышла женщина и проговорила громко: «Да их, наверное, дома нет». «А что же собака здесь?» – ответил мужской голос. Человек еще некоторое время стучал, Бетька сидела на своем сундуке и звонко лаяла, а я стояла около нее с сильно бьющимся сердцем. Наконец, Бетька перестала лаять, поэтому я решила, что человек ушел. Однако, минут через 25 раздался уже более тихий стук в дверь, постучали, кажется, три раза, но я не уверена в этом.
Опять залаяла собака, а я стояла, боясь пошевелиться, и думала: «Надо удирать, как только можно будет. Но и удирать-то ведь нельзя: каждую минуту может прийти папа, я должна быть дома, чтобы открыть ему дверь. Впрочем, жду только до четырех часов, а там захвачу Бетьку и тихонько убегу к бабушке. Придет или не придет этот человек опять?» До четырех часов оставалось полчаса, не знала, как заполнить их. Жутко было, не могла ни на чем сосредоточиться. Проклятые большевики, как я ненавижу их! Все лицемеры, лгуны и подлецы…
‹17 января 1934›
Вечером в двенадцатом часу, когда мы пили чай, пришел папин знакомый и тихим шепотом сообщил, что домоуправление решило сегодня ночью делать облавы. «Уезжайте сию минуту», – сказал он папе. «Сейчас, сейчас». Папа был спокоен и даже несколько добродушно настроен, вероятно, от необычности своего положения. Он начал допивать чай, закусывая хлебом, но я все же подметила в его действиях некоторую поспешность и сдерживаемое волнение. И невольно подумалось: «Какое надо иметь самообладание и волю, чтобы в подобных случаях оставаться спокойным». Я и то чувствовала себя не по себе, сердце как будто чуть колыхнулось.
‹18 января 1934›
Сегодня выходной, а вчера и позавчера я ходила в школу, и как я и ожидала раньше, эти два дня показались мне интересными и веселыми, бузили мы вовсю. Но ведь это было и в начале года, я теперь себя знаю и не ошибусь, что через две недели опять все надоест и опротивеет, и опять я захочу домой. Но пока все ново, с удовольствием рассматриваю педагогов и ребят, с удовольствием слушаю объяснения, так приятно чувствовать себя неотъемлемой частицей большого, сильного организма. Немного обращала внимания на Левку, разумеется, без прошлых глупостей, внимательно всматривалась в него, поскольку с ним был связан ряд забавных воспоминаний. Он красив, теперь я в этом не сомневаюсь, и когда вырастет, будет очень красивым. Уже сейчас его лицо ярко выделяется на фоне разнообразных ребячьих лиц.
‹31 января 1934›
Что со мной сделалось? Всего три-четыре дня назад я была весела и довольна, смеялась в школе, много болтала. И вдруг все перевернулось, опять скука и тоска, но я хочу понять причину этой перемены, хочу и не могу пока. До 28-го все было хорошо, в этот день я в школу не пошла, мне надо было ехать в больницу – папа записал меня к врачу. Странное дело, на каникулах перед школой я страшно страдала из-за своих глаз, боясь, что в школе после такого большого перерыва я буду себя чувствовать свое уродство особенно болезненно. И вдруг… ничего подобного! Ничего не тревожит и не волнует, про глаза совсем забыла, не хотелось даже идти к врачу, ведь меня «это» уже не тревожит.
Врач сказал, что надо делать операцию, и я не удивилась и не испугалась, потому что давно привыкла к мысли о ней, но и не обрадовалась. Вначале меня даже забавляло, что я на несколько дней попаду в больницу, и я была прекрасно настроена: то, что раньше было несбыточной мечтой, воплощалось в жизнь; то, что казалось раньше невероятным и тревожным, теперь стало обыкновенным и естественным. Та мечта была хороша, потому что была мечтой, и я свыклась с ней, любила ее, но… когда появилась возможность ее осуществить, я испугалась, почувствовав, что этого делать не надо.
Я представляла себе, что стану нормальной, но я ведь знаю, что счастливей от этого не стану. Так почему же испортилось настроение? Не могло же на него повлиять собеседование в школе? Нет, дело совсем не в этом. Чувствую всю бесплодность, все безобразие современной жизни и это страшно тяготит. Видеть эту несправедливость, ложь и жестокость и чувствовать, что ты бессильна. Но что делать? Неужели никогда человек не будет совершенно свободен? Неужели свобода – это только иллюзия? Неужели вся та бесконечная многовековая борьба, которую ведет человечество за свободу – погибла даром?
Вчера утром поднялся стратостат в честь XVII партийного съезда. Трое смельчаков[37], невзирая на плохую погоду, с риском для жизни, понеслись к суровым облакам и скрылись в сыром тумане. По сведениям, полученным со стратостата, было известно, что они поднялись на высоту 20,6 км. Последние известия долетели до земли между 3-мя или 4-мя часами дня – стратостат стал спускаться и вошел в полосу сгущающегося тумана. А потом все кончилось; ночь и сегодняшнее утро не принесли ничего нового, и только днем мы узнали, что были найдены щепки от гондолы и ни на что непохожие человеческие трупы. Это были не те трое смельчаков, которых воздушный шар унес накануне в далекую стратосферу. Они были там далеко-далеко, одни в безвоздушном и бесконечном пространстве, потом ощутили в ушах ветер, когда с невероятной быстротой неслись к земле, дыхание захватывало, а там внизу их ждала неминуемая и ужасная смерть.
‹10 февраля 1934›
Мне пятнадцать лет, и говорят, что это лучшие годы в жизни. Я это не нахожу. Когда я была ребенком, я была такой счастливой от своей детской глупости и наивности, счастливой, потому что не читала книг и ничего не знала еще. Теперь я поняла, что счастье – вздор, его нет на свете, его не найдешь. Иногда покажется, что оно тут рядом, сидит и дразнит, и только руку протяни и сможешь обладать им. Но это обман, мираж. Что такое счастье? Это солнечный зайчик, видишь, как скачет он по стене, сидит на ладони, стоит только сжать кулак и… он вдруг выскользнет из рук и желтым пятном беззвучно носится по лицу и пальцам.
Как теперь мне жить? Невозможно же жить так, как я живу! Что же мне делать? Если б нашелся такой человек, который помог бы мне найти дорогу. Я похожа на ребенка, заблудившегося в большом незнакомом городе. Он ходит день, ходит два, спрашивает: «Где мой дом?» Но кому какое дело, где его дом, откуда он, кто может знать, где его дом? Каждый занят только своим делом, своей думой, а ребенок может проходить неделю, две и месяц по чужим улицам чужого города, пока кто-то не расшибет ему голову камнем или пока тяжелые колеса трамвая не раздавят его. Но мое положение еще хуже, я запуталась совсем, не могу даже идти наугад, так как зашла в тупик. Кто даст мне руку, кто поможет найти «дом» ребенку. Меня никто не понимает, мной никто не интересуется, меня не хотят учить жить! У каждого так много своего, все так заняты, чтобы интересоваться мной. А сама? Что же, мне стыдно сказать, что я страдаю, мне стыдно открыть свою душу? Но кому я скажу?
Папе, который презирает нас, вечно ворчит, называет каждый день бестолковыми, ничего не понимающими, чуть не дурами. Ему, который, когда я, плача, просила взять меня из школы, хотел успокоить мои слезы тем, что обещал часто ходить в музеи и в кино. Как будто они были вызваны мимолетным детским капризом, как будто я могла из-за пустяков настолько унизиться, чтобы плакать при нем. Мне и так стыдно, что я не смогла удержаться от слез и дала ему повод называть меня легкомысленной, глупой девчонкой. И этому человеку вверить всю свою душу, все свои тревоги, все свои мечты? Он, пожалуй, и теперь предложит сходить в Политехнический музей. Можно рассказать все маме. Но что пользы? Она, может быть, и поймет, как мне тяжело, как я страдаю, но она не поймет из-за чего я страдаю. Она пожалеет меня, но не укажет дороги, а на следующий день забудет весь разговор в хлопотах о хлебе насущном.
Девочкам (сестрам) я не скажу вовсе, они вряд ли пожалеют меня и ничему не научат, им самим только 18 лет. А одна я дорогу не найду, я запуталась в своих мыслях и желаниях, меня мучают сомнения, и я не понимаю себя, чувствую только, что одна, совсем одна во всем мире. А так хочется друга, хочется ласки, хочется любить. Кого любить? Я не говорю о каком-нибудь молодом человеке, этого я не хочу, я просто хочу любить. Почему у меня тоска? Я и сама не знаю. О чем у меня тоска? Она не говорит, она пришла и сосет и рвет душу, и кроме нее нет ничего. И я хочу освободиться от нее, почувствовать в одно прекрасное утро, что у меня внутри легко и светло. Эх, жизнь! Не сбудется это никогда, загубит мою молодость тоска-кручинушка. Папа говорит, что жизнь – борьба, что надо бороться, но как бороться, за что бороться, чего добиваться! Бороться ли с тоской, бороться ли за деньги, я не знаю. Я понимаю только одно: я несчастна, я страшно несчастна, изныло сердце. Если б я имела цель, любила эту цель, жила бы ради нее, тогда б не страшна была бы борьба!
‹17 марта 1934›
Уже с четвертого марта я нахожусь дома, не раз меня тянуло к дневнику, да все не могла собраться. Глаза болят и страшно быстро утомляются, а тут надо еще переписывать мои больничные записи. Как долго я находилась в больнице, целых пятнадцать дней. Странная новая жизнь понравилась и полюбилась мне, помню смутно, как приятный сон, время моего выздоровления, когда я с закрытыми глазами целыми днями лежала в постели, иногда прислушиваясь к тихим разнообразным разговорам больных, а больше находясь в состоянии полусна и дремотной слабости. Я быстро свыклась со всеми, и совершенно чужие люди, на которых вначале смотрела с неприязнью, стали близкими и понятными. Сблизило нас общее горе, общие страхи, общая жизнь в одном помещении, одни и те же желания и интересы. Теперь я даже жалею, что не написала ничего раньше еще в больнице: теперь стало забываться, все превратилось в громоздкую, хаотическую кучу смутных и неясных воспоминаний.
‹18 марта 1934›
Не так давно я сказала Жене: «Можешь ли ты подать мне пузырек опиума, зная, что я отравлюсь?» «Почему же нет? Конечно, могу». «А я бы не смогла… Жень, ты серьезно говоришь?» «Конечно». «Так подашь мне?» «Подам, только сама достань опиум». «Идет. Хорошо, но только не обмани». После этого, нет-нет, да и вспомню о нашем разговоре. Надо отравиться, – говорю себе. Глупо жить, когда знаешь, что впереди не будет никаких изменений, что вся эта долгая жизнь будет, как сегодняшние и прошедшие дни, сплошным мучением, безысходной тоской о чем-то. Глупо и смешно так жить.
А как покончить с этой жизнью? Мне еще столько осталось сделать, мне еще так хочется пожить, и все мои желания связаны с этой жизнью. «Кончу ли я эту тетрадь к концу марта?» – думаю я, а через минуту опомнившись, говорю себе – «Ведь для тебя теперь уже не существует конца марта». Да, трудно умирать, когда еще не все счеты покончены в жизнью. А перебороть себя надо, довольно я уже пожила и узнала все, а, не сделав это теперь… как пожалею я потом.
Сейчас мама крикнула мне: «Не пиши много, а то глаза заболят». А что мне, на что они мне нужны теперь. Но зачем же я делала операцию? Ах, да ведь я думала понравиться! Но нет, мне не повезло и тут. Сегодня, когда смотрела на девочек, с трудом старалась сделать глаза прямыми, и особенно невыносимо было чувствовать, что один из них смотрит в сторону. Сейчас подошла к зеркалу и долго смотрела на себя: «Нет, все такая же! Умереть пора… Довольно, довольно». А умирать не хочется. Смогу ли я перебороть себя в последний и решительный раз. Надо сходить за опиумом к бабушке. Пойду-ка сейчас… Эх, как трудно…
‹21 марта 1934›
В этот день я не отравилась. Почему? Ведь я пошла за опиумом к бабушке, но спросить у нее не удалось по некоторым обстоятельствам. В сущности, я бы уже не отравилась, если б даже и взяла его, я это чувствовала и шла туда только затем, чтобы оправдать себя в собственных глазах. Все равно я бы не отравилась, я еще слишком хочу жить.
Но собираясь умирать, мне надо подумать об участи моего дневника. Что будет с ним? Понятно, не найдя никакой записки, все бросятся к нему, как к единственной разгадке столь странного поступка, начнут читать его, судить и рядить. И знаю я, сколько улыбок и усмешек вызовет мое самое сокровенное, то, что я прятала ото всех и любила по-своему, то, что доставляло мне так много мук. Не дай бог, если мой дневник попадет под папину критику. И хоть я и умру, а неприятно все же знать, что тебя начнут хулить, называть глупой, ограниченной девчонкой, сентиментальной мечтательницей и хандрой. Все это может и правда, но они не поймут меня, не поймут моей тоски, не поймут, что я хоть и из-за пустяков, но страдала по-настоящему, как не всякий из них страдал. И спустя десять-пятнадцать лет сестры будут рассказывать своим детям с чуть презрительным сожалением о странной своей сестре Нине.
Последние дни мне иногда так хочется высказать кому-нибудь все, открыться полностью, закричать им: «Я жить хочу! Зачем вы меня мучаете, заставляете учиться, учите приличиям? Мне ничего не надо! Я жить хочу, смеяться, петь, быть веселой. Мне ведь только пятнадцать лет, ведь это лучшая пора жизни. Я жить хочу, научите меня жить!» Но я никому правды не скажу, они не поймут и посмеются надо мной. Мне даже не надо, чтобы понимали, но я требую, чтобы к моим мыслям относились серьезно и с некоторым уважением. А то как-то не так давно сказала я отцу, что скучно мне, так он несколько раз так смеялся надо мной и говорил: «Ненавижу таких людей, которые говорят без конца: скучно мне, скучно мне!» «Ну, так знай, никогда не буду тебе говорить это», – зло сказала я. То же самое было и с мамой.
‹24 марта 1934›
Начинаю втягиваться в старую привычную жизнь, опять та же неразговорчивость, тоска, мечты… Опять на улице опускаю глаза перед прохожими и болезненно ощущаю всякий, иногда и случайный взгляд, стараюсь быть незаметной, сутулюсь, наклоняю голову. Пока еще и это не очень тяжело, но пройдет полмесяца и как начнет нервировать все это… Как подумаю, что всю жизнь надо мучиться из-за этих глаз, так прямо жутко становится, они погубили половину моей жизни, наверно, и остальную погубят. Чего могу я добиться с ними? Чему посвятить себя? Стать музыкантом… или художником… или писателем?
Я все уже перепробовала. Музыка, признаться, больше всего у меня хромает: во-первых, я не чувствовала к ней влечения и, кроме хорошего слуха и способности быстро запоминать, не имею никаких музыкальных талантов. Так что ее придется бросить. Рисовать я начала очень рано, хорошо помню свой первый рисунок – крестьянская хата, срисованная с пенала и увеличенная в несколько раз. После этого я полюбила рисование, много срисовывала, фантазировала сама и не без успеха, в шутку даже мама говорила, что я буду портретистом. Но мне не удавалось писать красками, с первых шагов я не владела ими и поэтому особенно возненавидела, игнорируя их совершенно.
Стать писателем тоже привлекательная будущность. Стихи я начала писать семь-восемь лет назад, потом постепенно стала переходить на прозу, так как не удавались большие поэмы, а сидеть по часу над каждой строчкой, подбирая рифму, было так скучно. Я с увлечением стала писать повести, рассказы и отрывки. Удавались ли они – трудно сказать. Что могла написать хорошо совсем еще маленькая девочка, мало читавшая и еще менее жившая. Произведения мои были наивны и подчас глупы, я их не показывала никому и поэтому не слыхала серьезной критики. Надо было, конечно, выбрать что-то одно, если б я хотела, чтоб из меня что-то вышло. Но что? Я не знала. А в последние годы я забросила все, потому что потеряла ко всему интерес.
‹26 марта 1934›
Почему-то мне вспомнилось лето, когда я несколько дней гостила у тети. Как хорошо там было! Узкая извилистая река с небольшими березами по берегам и неизменными ракитными кустами; кое-где раскиданные деревушки. Я все время была там одна, и боялась всего: каждого шороха листьев, каждого поскрипывания сосен. Но все же тянуло на волю, в лес, в глушь, и с жутким страхом я решалась пойти туда. Дом стоял на опушке небольшого леса, поднимающегося на пологий склон. Сосны росли вперемешку с низким и густым кустарником. Вниз к болотцу вела узкая аллея, по бокам которой росли густые молодые елки, уходящие под откос. Я часто бродила в причудливых узких коридорах, застревая в чаще колючих цепких ветвей, переплетенных паутиной и не пропускающих лучи солнца. Иногда со страхом и тайным удовольствием забиралась на высокие сосны и сидела там подолгу, далеко от земли.
Как-то я пошла по дороге, которая пересекала в конце аллею, по бокам ее росли березы и целый день по сочной траве скакали резвые солнечные зайчики. Она постепенно перешла в тропинку, затерявшуюся в болотце, и ноги мои вязли в мокрой траве, а кругом все блестело и искрилось в ярких лучах солнца. Я внимательно глядела в темные тени кустов и на трепещущие листья, стараясь все запомнить. Но больше времени я проводила на кладбище, где пробиралась среди заросших и забытых крестов, рассеянных среди сосен и увитых цепкими, удивительно разросшимися кустами малины, где я часами собирала спелые ягоды. А по вечерам я ходила на косу, глядела на длинные синеватые тени деревьев, освещенные низким бледно-розовым солнцем. Не раз ходила и на широкий пруд и прыгала там через канаву или собирала нежные и влажные незабудки в мокрой траве.
Вот кончается мой дневник… Наконец-то. Я почему-то с большим нетерпением ждала этого. Теперь возникает вопрос, куда спрятать его? Вдруг нагрянет обыск, и его возьмут случайно, наткнувшись на совершенно нецензурные слова о Сталине. И он очутится в руках шпиков. Будут читать его, смеяться над моим любовным бредом. Надо спрятать.
11
Старшая сестра Нины.
12
Старшая сестра Нины.
13
Одноклассник Нины.
14
Юлия Ивановна, учительница математики и классный руководитель. Левка был ее сыном от первого брака.
15
Девичье Поле, сквер близ Плющихи.
16
Тетя Нины со стороны отца.
17
Анна Петровна Самойлова.
18
Приятельница матери Нины. Ее дочь Шура была дружна с Ниной, Женей и Лялей.
19
Пудель.
20
Одноклассник Нины.
21
Домработница в семье Ирины.
22
Младшая сестра Ирины.
23
Ольга Александровна, мама Ирины.
24
Имеется в виду московская прописка в паспорта отца. Не получив ее, он должен был в десятидневный срок выехать из столицы.
25
После этого вопроса тщательно зачеркнуто в дневнике двенадцать строчек, которые невозможно расшифровать.
26
Софья Васильевна, тетя Нины.
27
Одноклассник Нины.
28
Отец Нины проживал под Москвой, в деревне Марфин Брод Можайского района.
29
Имеется в виду ведро, в котором было 8 кг картофеля.
30
«Торгсин» расшифровывалось как торговля с иностранцами.
31
Одноклассница, самая активная пионерка.
32
Речь идет об Андрее Сергеевиче Бубнове, наркоме просвещения и ответственном за школьные реформы 30-х годов.
33
Имеется в виду Сталин, который, по слухам, посещал могилу своей жены Аллилуевой, похороненной на Новодевичьем кладбище.
34
Зачеркнута одна строка.
35
Двоюродный брат.
36
С лета 1933 года в семье было договорено о специальном стуке, которым должен был предупреждать всех о своем приходе отец Нины, появлявшийся в Москве нелегально.
37
Астронавты Васенко, Федосеенко и Усыскин.