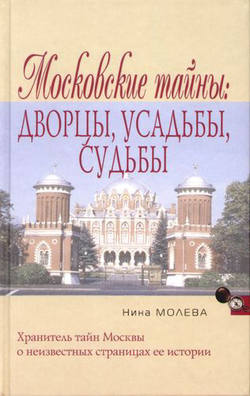Читать книгу Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы - Нина Молева - Страница 7
Сады московские
ОглавлениеДокументов было множество. Ходатайств. Обращений. Заключений. Титулованных подписей еще больше. Шел затянувшийся на годы спор об установке памятного знака – надгробия Степану Разину на территории… Центрального парка культуры и отдыха. Там, и только там. По словам автора (одновременно директора ООО «Фирма Колибри – Ч»), «предлагается готовый памятный знак Степану Тимофеевичу Разину (1630–1671 гг.), выполненный из камня красного цвета (сюксю-янсааре), общим размером 3×3 м, высотой 0,64 м, на котором, как на подиуме, размерена остроконечная, как топор-колун, призма, размером в основании 1,5×1,5 м, высотой 1 м, в камне черного цвета, из габро». Иными словами, образ воткнутого в плаху топора.
Безапелляционной выглядела и мотивировка: «В России имеется народный герой, которого любят люди, неравнодушные к нашей многострадальной истории. За 100 лет до Великой французской революции С. Т. Разин в беседах с В. Усом предлагал парламентскую республику (управление Россией казачьим кругом), чем опередил свое время. Его называют русским Кромвелем, хотя он гораздо его значимее для нашей страны, в историческом смысле, по мнению историков. Памятник С. Т. Разину в 1919 году был открыт на Красной площади, в центре Лобного места. Вот почему увековечивание памяти С. Т. Разина находит отклик в сердцах людей разных политических взглядов». Одним из таких энтузиастов стал председатель Российской товарно-сырьевой биржи Константин Боровой.
Не увидело никаких препятствий к установлению надгробия и руководство ЦПКиО, подобрав подходящее место – «вблизи кафе «Времена года» и эстрады, рядом с забором парка.
Не вдаваясь в сравнительный анализ значения английского Кромвеля с русским Разиным, нельзя не начать с того, что место «погребения» последнего не установлено никакими источниками. Волей-неволей приходится вспомнить обстоятельства смерти Степана Тимофеевича: на Красной площади его четвертовали – лишили рук и ног, а уж потом головы. Голову и конечности, по приказу царя Алексея Михайловича, воткнули на высокие шесты на Болоте «до исчезнутия» (возможно, на месте нынешнего памятника педофилам и наркоманам), туловище бросили на съедение собакам. Шесты продолжали стоять на Болотной площади еще пять лет спустя, куда их ездили смотреть иностранные гости, уже после кончины царя. Что же касается отданных голодным собакам останков, то, что от них осталось, не могло ни по каким тогдашним условиям найти себе место на кладбище, будь оно мусульманским, по утверждению автора знака, или православным.
Но все это относится к далекому прошлому. Куда удивительнее настоящее. Положим, возникает сама по себе идея и начинает бурно развиваться в январе 1992 года, иначе говоря, на волне нашей демократии. То, с чем сталкивается сегодня Комиссия по монументальному искусству, дважды единогласно отклонившая предложение, рецидив. И как дань изменившимся обстоятельствам в проекте появляется знаменательный абзац: «Памятный знак С. Т. Разину предлагается вместе с озеленением (проект имеется), причем после озеленения этот памятный знак будет окружен специально подобранными деревьями, которые будут прикрывать этот памятный знак. Этот небольшой уголок парка им. А. М. Горького будет носить уютный, камерный характер, где можно будет поразмышлять о судьбах нашей Великой Родины».
Упоминание об уютном характере уголка вполне своевременно, потому что на сегодняшний день в этой части парка царит запустение, если не прибегать к более сильным определениям. Никто не вспоминает, что занимающий более 100 гектаров ЦПКиО был спроектирован в 1928 году такими мастерами, как архитекторы А. В. Власов, К. Н. Мельников. Л. М. Лисицкий, на территории Всероссийской сельскохозяйственной и кустарной выставки 1923 года, а также Нескучного сада и прилегающей к нему части Воробьевых гор. Это был памятник садово-паркового искусства, по-своему развивавший традиции Москвы.
Приехавшие в столицу Московского государства при том же царе Алексее Михайловиче восточные патриархи, которые понадобились царю для «одоления» Никона, были поражены не только размерами города, удобством его расположения, но едва ли не прежде всего обилием садов. По выражению одного из членов свиты, перед ними предстали «зеленые кущи», в которых тонули постройки.
Казалось бы, кто не знает, как выглядела Москва 300 с лишним лет назад! Достаточно вспомнить хотя бы школьные учебники, виды старой Москвы Аполлинария Васнецова. Громады почерневших срубов. Выдвинутые на улицы широченные крыльца. Просторные – хоть на тройках разъезжай! – дворы. И на уличных ухабах разлив пестрой толпы.
Но пришли археологи. Раскопки велись и раньше. Только как в сплошняком застроенном городе всерьез и обстоятельно заниматься раскопками. Москва – не Новгород Великий. Урывками это удавалось при строительстве метрополитена, более или менее широко при сносе всего древнего Зарядья для строительства гостиницы «Россия», на Манежной площади. И тем не менее открытия оказались сенсационными.
Да, Москва и на самом деле тонула в ухабах. На 200 тысяч ее населения (всего в середине XVII столетия население государства составляло двенадцать с половиной миллионов человек) приходилось четыре с половиной километра бревенчатых и дощатых мостовых, иначе говоря, «мостов» через непролазную грязь. Да еще предполагалось проложить 155 сажен по Арбату.
Нескучный сад. Дворец. Начало XX в.
А вот огромных рубленых домов археологи не обнаружили. Нигде. В Китай-городе, например, существовал стандарт – четыре на четыре метра, в Зарядье и вовсе четыре на три. И это при том, что в каждом доме имелась занимавшая около четырех квадратных метров большая русская печь – пережить без нее зиму семье не представлялось возможным. Далеким воспоминанием остались московские дома начала XVI столетия. Тогда они, случалось, рубились и по тридцать квадратных метров с такой же почти по площади пристройкой для скота. Средневековый город теснился все больше и больше.
Что же касается архитектуры, то Аполлинарий Васнецов варьирует все разнообразные формы знаменитого (и единственного в своем роде!) дворца в Коломенском. В обычной же московской практике все сводилось к простым срубам и пятистенкам. Внутри дом перегородками не делился. Да и что делить на двенадцати квадратных метрах! Тесно, очень тесно даже для тех условных пяти человек, которые, согласно статистике, жили на одном московском дворе.
Строили москвичи легко и быстро. В деревянных домах обходились вообще без фундамента. Копали яму глубиной до материкового песка, в который на 20–25 сантиметров углубляли сруб. Вынутый песок шел на засыпку завалинок – бороться с холодом и сыростью приходилось постоянно. Жилой сруб рубился из хвойных пород деревьев, хлев – из дуба. Хитрость заключалась в том, что в первом случае сосна или ель обеспечивали вентиляцию дома в силу структуры древесины, во втором – по той же причине лучше сохранялось выделяемое скотиной тепло. Самый сруб обычно покупался на торгу, причем – что особенно поражало иностранцев – во всей стране применялся единственный строительный модуль. Купленный, скажем, в Вологде или Архангельске прируб идеально подходил к московскому или нижегородскому дому.
На рисунках иностранных художников, приезжавших в составе разных посольств, московские дома – это узкие высокие башенки с подслеповатыми прорезями мелких окон, многоэтажные и совсем не похожие на обычную избу, как мы ее себе привыкли представлять. Боязнь холода и сырости заставляла высоко поднимать уровень пола. Сруб вытягивался в высоту, так что между землей и деревянным полом образовывался лишенный окон – «глухой» – подклет. Эта часть сруба имела большое значение для хозяйства: в ней хранились съестные припасы. Любопытно, что никто и никогда из москвичей не жаловался на тесноту. К тому же обычный московский дом не был лишен удобств; из широких досок пол, жаркие печи, прозрачные слюдяные окна. Во второй половине XVII века в столице их полно даже у простых посадских людей. А качеством слюды, подчас неотличимой на первый взгляд от стекла, Москва славилась.
Крыльца самые нарядные, даже в богатейших московских домах никогда не выходили непосредственно на улицу, как то изображал Аполлинарий Васнецов. Больше того, крыльцо не было видно с улицы. Дома отступали в глубину двора. Впереди помещались хозяйственные постройки, огород, колодец, с обычным для Москвы журавлем, погреб, представлявший яму метровой глубины. На дворе, если донимала сырость, копали дренажную канаву – по стенкам плетень, сверху жерди, делали деревянный настил для прохода.
Хозяева побогаче тратились на специальную хитроумную мостовую. На земле крепились прямоугольной формы деревянные лаги, а образовывавшиеся квадраты плотно забивали сучьями и землей. Главной задачей было отгородиться от других, спрятаться понадежнее от любопытных глаз. И вырастали вокруг каждого двора плотные высокие ограды: реже – плетни, чаще – частоколы из бревен.
Для археологов московские частоколы – своеобразный ориентир во времени. В домонгольский период тонкие – из кольев толщиной 3–4 сантиметра, они с годами приобретают настоящую несокрушимость. Уже с конца XIV века все участки в Китай-городе окружены лесом еловых бревен 20–25 сантиметров толщиной. Под стать им и ворота – глухие, со сложным железным подбором. Общих между дворами оград не было. Каждый огораживался сам по себе, а между частоколами оставались промежутки «вольной» в два – два с половиной метра шириной. Они служили и проходом и сточной канавой одновременно. Поставить частокол – большое событие и трата, хотя московский двор, вопреки представлениям Аполлинария Васнецова и его современников, совсем невелик.
Конечно, существовали дворы боярские – с вольно раскинувшимися службами, садом, иногда и собственной церковью. Но таких было мало. Самый распространенный надел под двор в Москве уже в XIV веке, не говоря о XVII, не больше двух нынешних соток. Две сотки на семейный дом – все хозяйство, да еще непременные огород и сад!
Может быть, причина в столичной, именно столичной, тесноте? Но в том-то и дело, что и в далеких от столицы городах – Устюге Великом или, скажем, Вологде в те же годы наделы под дворами были нисколько не больше. Жили, например, в Устюге на улице Здыхальне три брата-иконника и имели под своим общим хозяйством пять соток, а их товарищ по ремеслу на улице Клин ютился и вовсе на 135 квадратных метрах земли. Просто такой была жизнь в средневековом городе, будь то Лондон, Варшава или русская столица, хоть это и не совпадает с нашими хрестоматийными представлениями.
Обращаться с землей умели. Урожаи получали большие, а в «Домострое» так прямо и утверждалось, что только плохой, нерадивый хозяин старается увеличивать запашку, тогда как настоящий «осударь» заботится об увеличении урожая и не дает земле лежать впусте.
В домонгольский период сеялся на московских дворах даже хлеб, и вплоть до XV века порвать с сельским хозяйством Москва полностью не могла. Но после Смутного времени стали рассчитывать москвичи только на покупной хлеб. Приобретали его на торгах и мололи дома на ручных жерновах – обычная женская обязанность. Подобные жернова археологи находят почти в каждом московском доме.
Много держали москвичи скотины. Больше всего коров, потом свиней, лошадей, овец и коз, последних обычно ценили за их неприхотливость. Молоко обрабатывалось тут же дома вручную мутовками, которые делались из суковатых веток. Из молока сбивалось масло, изготовлялись творог и сыр.
Во время многочисленных постов животные жиры полностью заменяли в пище конопляное и льняное масло… Следы посевов льна и конопли археологи нашли на месте нынешнего Китай-города.
На московских столах всегда было вдоволь свежей рыбы, а по берегам Яузы и Москвы-реки располагались многочисленные рыбокоптильни. Зато ни дичи, ни вообще продуктов охоты в обиходе простых москвичей не встречалось. Погреба были заполнены всякого рода соленьями.
Сегодня трудно себе представить, как обходилась русская кухня без картофеля и свеклы, тогда еще Московскому государству незнакомых. Зато их место занимали три вида овощей – огурцы, которые москвичи запасали в огромных количествах и ели, к величайшему удивлению иностранцев, как яблоки, а также тыква и капуста.
По капустному духу узнавали русские селения и города – у народа была привычка употреблять капусту по меньшей мере два, а то и три раза в день. С тарелки густых щей начиналось каждое утро, и без нее не обходился тем более ни один обед. Очень много шло в пищу чеснока, хрена и репы во всех видах.
Однако говорить об особенной дешевизне продуктов не приходилось. Тысяча штук огурцов стояла 9 с половиной алтын – 22 с половиной копеек, и это при том, что плотник зарабатывал в день три, а печник четыре копейки. Кадь соленых огурцов – 30 копеек, чан кислой капусты – 60 копеек, а ведро рыжиков – 9 алтын. Цена сена – 7 алтын за «острамок», всего же лошади на месяц требовалось три «острамка».
Поэтому источником благосостояния семьи становилось и бережное отношение к собственному имуществу, правильное ведение хозяйства, тем более умение обходиться со своим, пусть совсем крохотным городским огородом и садом. И сады – это сокровище Москвы.
Иностранцы не переставали удивляться. В России по сравнению с любой европейской страной «легче достать плодов, нежели в другом месте, каковы, например, яблоки, сливы, вишни, крыжовник, смородина, дыни, морковь, петрушка, хрен, редька, тыква, огурцы, серая и белая капуста, лук, чеснок…».
А знала русская столица три вида садов. Первый располагался прямо во дворе и зависел от его размера. Двор тяглеца Барашской слободы, неподалеку от Покровских ворот, Ивана Воронова имел, например, «яблонь и груш 37 деревьев». Двор другого бараша, Василия Мордвинова, – «три яблони и груша». Характерный расчет представлял двор певчего дьяка Ивана Новгородца на Поварской улице – «24 дерева яблоней, 2 груши да смородина красная» на площадке примерно 1500 кв. метров. Во дворе гостиной сотни Еремея Цынбальникова имелся огород, а в огороде сад – яблони и груши, вишни, малина, смородина трех сортов.
Особенностью московского городского сада было обязательное сочетание яблонь и груш. Сортов москвичи знали множество. Ягодники были представлены клубницей, черносливом, крыжовником, смородиной красной, черной и белой, барбарисом, сереборинником – шиповником красным и белым, малиной и вишней. Большие урожаи вишни и малины позволяли продавать их на рынках. Между тем кузов малины ценился очень высоко – 11 алтын.
Кузьминки. Большой дворец. Начало XX в.
Второй вид садов в Москве представляли «верхние», или «висячие», «уряжавшиеся» на кровлях каменных строений и даже церквей. В Московском Кремле самыми большими оставались верхний и нижний набережные сады, спускавшиеся с вершины к подножию Боровицкого холма со стороны Москвы-реки. Меньшими размерами отличался сад, разбитый к востоку от алтаря домовой церкви Петра и Павла, на кровле подклета.
Принцип организации «висячих» садов сводился к тому, что кровля здания покрывалась спаянными между собой свинцовыми досками, края которых загибались вверх на высоту до 90 сантиметров. Образовывавшаяся емкость заполнялась составленной по особому рецепту землей. Высаживались в эту землю грецкие орехи, плодоносившие в условиях Москвы, персиковые деревья, барбарис, сереборинник, яблони и груши. Деревья настолько хорошо приживались, что даже после того, как Набережный дворец был давно заброшен и уход за садами прекращен, в них продолжали плодоносить в 1737 году, при императрице Анне Иоанновне, 24 яблони и 8 груш.
Вода в «висячие» сады доставлялась водопроводной системой, позволявшей наполнять и небольшие пруды с зеркалом до 200 кв. метров. На одном из таких кремлевских прудов и совершал свои первые поездки под парусом в игрушечных суденышках Петр I.
Что касается третьего вида садов – в вотчинах и поместьях, то разводились они далеко не всегда, хотя плодовые деревья и ягодники придавали владениям особую ценность. На учете было каждое плодовое дерево, если оно росло на крестьянской или церковной земле. Возраставшая с течением времени потребность в садах удовлетворялась выделением земель в Москве под загородные дворы, обычно используемые для разведения плодовых деревьев и ягодников. В 1648 году устанавливается единая мера на них: боярам – около двух гектаров, окольничим – около полутора, думным дьякам – 8 тысяч кв. метров, стольникам – 3600, стряпчим и московским дворянам – около двух тысяч квадратных метров и подьячим – около семи соток. В пределах Земляного города надел сокращался вдвое.
Стремление к расширению садов во второй половине столетия совмещается со стремлением к расширению круга общеупотребительных культур. Несмотря на неудачи отдельных опытов, упорно повторяются посадки кипарисов, пихты. Удается получать урожаи кедровых орехов, благодаря специальным мерам утепления – орехов грецких и «цареградских». Хорошо приживаются тутовые деревья. Москва и ближайшее Подмосковье насчитывают к тому же времени многие тысячи корней взрослых деревьев, не считая повсеместно заложенных питомников с саженцами. В селе Пахрине, например, опись отмечает «позади овечья двора тутовый сад, а на нем 5000 древ да 4 гряды больших, на них посеяно тутового дерева семени».