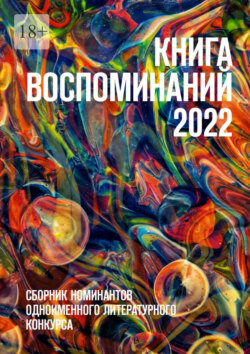Читать книгу Книга воспоминаний 2022. Сборник номинантов одноименного литературного конкурса - О. Г. Шишкина - Страница 5
ПРОЗА
ЛУКИЧЕВ Александр
ОглавлениеИстоки семьи и фамилии
К 100 летию отца
Еще в школе я начал интересоваться историей своей семьи. Выражалось это в расспросах матери и отца. Отец на вопросы о моем деде, своем отце, отвечал скупо, туманно. Мать рассказывала немного очевидно просто не знала. Рассказывала о своем раскулаченном отце, который после того, как со двора увели единственную корову, повесился на сеновале, оставив после себя многодетную семью. Правда оба они говорили про какой-то царский указ.
Поступив на исторический факультет Вологодского пединститута, я записался в краеведческий кружок к профессору Колесникову и первым делом рассказал ему историю про Указ Петра I о ссылке некоего полковника Алферова на сто верст на север от Вологды. Указ этот случайно увидел в музее г. Чернигова брат отца – Василий. Петр Андреевич идею исследовать судьбу указа одобрил. После четырех лет архивных поисков я более подробно прояснил эту историю. Вот ее краткое изложение.
Хоть и верил Петр Первый гетману украинскому Мазепе, но на всякий случай держал около него целую группу своих людей. В их числе был и полковник Матвей Алферов, происходивший из черниговских казаков. Доносов на Мазепу в то время было немало, писал их и Алферов. Последнее его сообщение Петру говорило о том, что Мазепа замышляет измену и хочет перейти на сторону Карла XII. Шла Северная война, и переход Мазепы мог сыграть в ее ходе немаловажную роль. Написать – написал, но ничего не сделал полковник Алферов для того, чтобы выполнить приказ Петра I в ответ на его очередное донесение «Изменника Мазепу схватить и в кандалах переправить в Санкт Петербург». К этому времени гетман был уже далеко у шведов. Царь Петр был в ярости. Он даже приказал изготовить орден Иуды. Орден представлял собой круг весом 5 кг, изготовленный из серебра. На круге был изображён Иуда Искариот, повесившийся на осине, внизу изображение 30 сребреников и надпись «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится». Пётр I предполагал вручить этот орден гетману Мазепе вместо ранее врученного ордена Андрея Первозванного после его пленения. Впрочем, задумка не осуществилась и впоследствии этот орден на всепьянейшем, всешутейшем и сумасброднейшем соборе Петра І носил князь Юрий Фёдорович Шаховской.
За невыполнение приказа полковник Алферов был наказан. Суров был Петр I. Царский указ гласил полковника Алферова вместе с семьей и всеми крепостными, а так же «17 красивейшими», сослать на 100 верст от Вологды на север.
Почти 6 месяцев шел обоз до Вологды, затем еще почти неделю по Архангельскому тракту на север, на отметку 100 верст. Уже начинались морозы, выпал первый снег. На месте, где должен был жить обоз полковника Алферова, шумела вековая тайга. В обозе было много больных и женщин, поэтому было принято решение вернуться назад в небольшую деревеньку и направить делегацию вологодскому наместнику с просьбой разрешить остаться в ней. Наместник царя не решился взять на себя ответственность, и делегация поехала в Петербург к царю. Вердикт царя по легенде был следующий «Женщин можно оставить в деревне, остальные должны идти и рубить тайгу».
И сегодня на старой Архангельской дороге на расстоянии 100 верст от Вологды стоит деревенька Алферовская, получившая название по имени опального полковника. А деревня, в которой остались женщины, называется Бабино. Именно в этой деревне в писцовых книгах Кадниковского уезда позже появилась фамилия Лукичевых. Эти деревни вместе с жителями при Екатерине I попали в собственность Дмитрия Голицина, знаменитого политического деятеля времен Петра.
Этот мой первый исследовательский опыт и сподвигнул меня заняться историей фамилии и родословной моей семьи. И я сейчас знаю фамилии и годы жизни моих 149 дальних родственников крестьян с XVII века.
Общее количество крепостных людей в России по народоисчислению, произведенному в 1858 и 1859 годах, насчитывалось до 23 млн. душ обоего пола. На Европейском Севере крепостничество было не так распространено, как, например, на юге России. В Вологодской губернии из общего числа крестьян крепостных было меньше 23%. По линии матери крестьяне имели статус государственных или казенных. А по линии отца и истории деревни Бабино я пришел к выводу, что мои дальние родственники, получившие в конце XIX века фамилию Лукичевы, были крепостные Николая Голицина владельца Архангельского дворца.
Существует еще одна семейная легенда, что кто-то из дальних родственников был краснодеревщиком и зачастую ездил в Москву во дворец на работу. Кстати, для Архангельского мистическим числом является число 107. Голицыны правили усадьбой с 1703 по 1810 год, следующие владельцы Юсуповы – с 1810 по 1917, то есть каждая семья – по 107 лет. Судьба меня косвенно сталкивала с памятью о людях, которые когда-то, несомненно, оказывали сильнейшее влияние на мой род.
Будучи на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа близ Парижа в начале двухтысячных, посмотрел на могилы Юсуповых, Голициных, и в память пришли откуда-то издалека строки:
Малая церковка. Свечи оплывшие.
Камень дождями изрыт добела.
Здесь похоронены бывшие, бывшие.
Кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Так написал в далеком 1970 году, тогда еще молодой поэт Роберт Рождественский, о самом русском кладбище за рубежом, где захоронено около 10 тысяч человек.
Но вот на каком кладбище похоронен мой дед, внук крепостного князя Голицина, репрессированный в 1932 году, я долго не знал, как не знал и мой отец.
3 сентября 1922 года, 100 лет назад в деревне Бабино Харовского района Северного края (сейчас это Сямженский район Вологодской области), родился мой отец Николай Васильевич Лукичев. А 10 лет спустя, в 1932 году, 90 лет назад, его отец, мой дед Василий Иванович Лукичев, приговоренный за организацию контрреволюционного восстания к заключению в Севкрай, умер в Вологодской пересыльной тюрьме. Тюрьма эта размещалась в Спасо-Прилуцком монастыре на окраине Вологды. Его жена, моя бабушка, Анна Андриановна Лукичева, была у него на могиле. Она-то первая и рассказала мне о деде.
Уже много позднее я узнал, что дед не просто попал в тюрьму, а был осужден по печально знаменитой 58-й статье. Отец вообще ни разу не говорил со мной на эту тему до 1987 года, когда ему пришло письмо из прокуратуры Вологодской области, что его отец был незаконно осужден и сейчас реабилитирован. В мой очередной приезд домой подал мне это письмо со словами «Ну, вот теперь и умирать можно спокойно…».
Фамилии у крестьян до конца XIX века встречались редко. Основой фамилии Лукичев, возможно, послужило церковное имя Лука. Фамилия Лукичев, скорее всего, восходит к крестильному мужскому имени Лука. Оно в переводе с латинского языка означает «светлый». По преданию, он написал первую икону Пресвятой Богородицы, за что и почитался первым иконописцем. Его авторству приписывалось большое число икон Богородицы, в том числе и Владимирская «Богоматерь».
Существует еще одна версия происхождения фамилии Лукичев – от прозвища Лука, которое может восходить к нарицательному «лука» (с ударением на первом слоге). В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля слово «лука» имеет значение «изгиб, погиб, кривизна, излучина – заворот реки, дуга». Соответственно, фамилию Лукичев мог получить человек, живший у изгиба реки. Лука со временем получил фамилию Лукичев.
После отмены крепостного права в 1861 году положение начало меняться, а к моменту всеобщей паспортизации в 1930-х фамилию имел каждый житель СССР. Образовывались они по уже проверенным моделям к именам, прозвищам, местам обитания, профессиям добавлялись суффиксы -ов-, -ев-, -ин-.
Что касается профессий, то мне моя старшая сестра Валя рассказала забавный случай, произошедший с моей второй сестрой Зиной. Мой отец, Лукичев Николай Васильевич, трудился в конце 50-х годов зоотехником на севере Вологодской области в колхозе «Герой труда». Соответственно, его дети в деревне Тюриковская, где мы жили, назывались зоотехниковыми. Очевидно, это так прочно вошло в деревенский обиход, что Зина считала своей фамилией. Выяснилось это в первом классе, когда она не отреагировала на фамилию Лукичева, и на вполне резонный вопрос учительницы, почему она не откликается, заявила, что ее фамилия – Зоотехникова.
Сам я родился в деревне Тюриковская. Вот как ее описывал в конце XIX века исследователь русского севера Шустиков:
«Прибыл я сюда в самый праздник – 8 сентября, сходил в церковь, а после обедни ходил в Тюриковскую деревню (в 3-х верстах от Турова), где купил солоницу для музея и нашел сказочника, который и рассказал мне свои сказки. Вечером купил у церковного старосты 3 старых сборника. Народ живет „на приволье“, в хлебе не нуждается. Кругом леса непроходимые, ягод и грибов не могут убрать, до того родится их много. Население исстари землеробы, и земледелие – основа их благосостояния. Постройки здесь все хозяйственные, сделаны из хорошего леса на старинный манер с наличниками на окнах, крытые всегда тесом. Деньги почти ни во что не считают и не хотят ничего на них продать. „На что они нам“, – говорят, ведь все равно купить на них нечего. Скота всякого держат по многу, а потому масло и шерсть свои, а из шерсти делают одежду и обувь для зимы. Вообще-то, народ не забитый, не низкопоклонник, как в других местах уезда. Держит себя, как равный с равным, ибо крепостного права не знал. Помещичья усадьба была здесь только одна, это Люблино, светлейшего князя Суворова, да и в ней, кроме управляющего, никто не жил. Здесь поезжай хоть влево, хоть вправо, хоть прямо – все один лес встретишь, да разве еще на мишку косолапого наткнешься, больше ничего».
В общем, назвал мою родную деревеньку Тюриковскую Шустиков медвежьим углом. Вот оттуда в далеком 1960 году прошлого века я и начал свой жизненный путь.