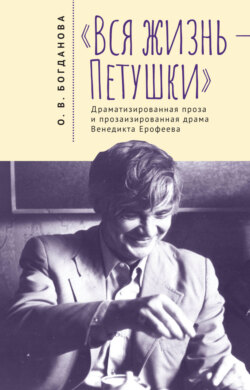Читать книгу «Вся жизнь – Петушки». Драматизированная проза и прозаизированная драма Венедикта Ерофеева - О. В. Богданова - Страница 4
I
«Москва – Петушки»: драматическая повесть
Жанровый антиканон «Москвы – Петушков»
ОглавлениеОдним из первых моментов «разночтения», с которым сталкивались исследователи «Москвы – Петушков», был и остается вопрос жанра. Единственное, в чем сошлись в большинстве критики, было то, что произведение Ерофеева тяготеет к жанру романа, хотя, как явствует из текста, сам автор определил свое повествование как поэму (с. 42)[6]. В этой связи критиками были сделаны многочисленные попытки уточнения видовой разновидности жанра, и повествование Ерофеева было квалифицировано как «роман-анекдот»[7], «роман-исповедь» (С. Чупринин и др.), «эпическая поэма» (М. Альтшуллер, М. Эпштейн, А. Величанский), «поэма-странствие» (М. Альтшуллер), «роман-путешествие» (В. Муравьев и др.), «плутовской роман» и «авантюрный роман» (Л. Бераха)[8], «житие» (А. Кавадеев, О. Седакова и др.), «мениппея, путевые заметки, мистерия <…> предание, фантастический роман» (Л. Бераха), «фантастический роман в его утопической разновидности» (П. Вайль и А. Генис), «стихотворение в прозе, баллада, мистерия» (С. Гайсер-Шнитман) и мн. др. Каждый из исследователей делал попытку обосновать предложенную дефиницию, но, как правило, анализ сводился едва ли не к механическому вычленению каких-либо присущих некой жанровой разновидности черт, и на этом основании «Москва – Петушки» попадали в разряд то одной, то другой традиции.
Курский вокзал времен путешествия
Самым распространенным и, на первый взгляд, самым обоснованным стало отнесение повествования Ерофеева к жанру романа-путешествия. В качестве «ближайших предшественников» назывались «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева, «Путешествие из Москвы в Петербург» А. Пушкина, «Кому на Руси жить хорошо» Н. Некрасова, а также «Чевенгур» и «Происхождение мастера» А. Платонова, и в плане уточнения поджанра – «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Л. Стерна[9]. Несомненно и то, что «неожиданное» обозначение «Москвы – Петушков» самим автором как «поэмы» указывало на традицию гоголевского повествования-путешествия «Мертвые души».
Очевидно, что в основе данного сопоставления оказывается доминантный признак того жанра, или точнее его жанровой разновидности, при которой автор «вынуждает» героя предпринять некое путешествие – задуманное или случайное, длительное или короткое, с целью или бесцельно, «сюда» или «туда», «так» или «эдак». Основной композиционный принцип такого рода произведений дает автору мотивированную возможность «столкнуть» героя с различными обстоятельствами, подготовить встречу персонажа с различными людьми (= характерами), проследить развитие образа(-ов) в неожиданной ситуации, заставить героя преодолеть некие преграды, пережить новые впечатления, ощутить неожиданные эмоции и др., а также на поверхностном (фоновом) уровне – преодолеть единство места и времени, обострить интерес к развитию сюжета, разнообразить пейзажные декорации и т. п. При единообразии основного приема в таких романах может быть обеспечено величайшее разнообразие, поскольку нанизывание и варьирование эпизодов-ситуаций, характеров-героев, пространства-времени практически не имеет предела и может быть ограничено лишь контентом авторского целеполагания.
Этот художественный принцип известен в мировой литературной практике давно и используется широко и успешно[10]. Достаточно вспомнить только некоторые имена: Гомер, Вергилий, Апулей, или Данте, Сервантес, Шекспир, или Гриммельсгаузен[11], Дефо, Свифт, или Т. Манн, Гессе, Хемингуэй, или из русской классики – Карамзин, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Толстой, Лесков, Бунин, Чехов, вплоть до произведений советского периода – Горький, Твардовский, А. Толстой, Ильф и Петров и многие др., чтобы в произведениях перечисленных авторов распознать некий вариант образа героя-путешественника и в качестве основного композиционного и сюжетообразующего приема выделить образ-мотив дороги (пути).
Очевиден различный характер перечисленных повествований-путешествий. Среди них могут быть выделены путешествия «в пространстве» и «во времени», жизнеподобные и мистико-фантастические, основанные на историческом материале и на современном, написанные от лица автора или героя, выдержанные в строго реалистической манере или в ироикомическом ключе. Но в любом случае, следуя логике «внешнего сходства», роман Ерофеева может быть причислен к одному (или сразу к нескольким) типам романапутешествия.
Действительно, Ерофеев строит свое путешествие с учетом, кажется, всех внешних атрибутивных признаков повествования-путешествия, предлагает необходимо-привычные аксессуары путешествия:
Маршрут указан: исходный пункт – Москва, конечный – Петушки. Причем масштаб маршрута – не только конкретный и вполне реальный промежуток железнодорожного пути, но и в традициях жанра путешествия – вселенский: «Москва – Петушки» = «вся земля»: «<…> во всей земле <…> во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков…» (с. 50).
Средство передвижения избрано: электричка (именующаяся в тексте преимущественно поездом).
Вокзал отправления и расписание предложены: Курский вокзал, «четвертый тупик» (с. 27).
Расписание: отправление в 8.16.
Время в пути: «ровно 2 часа 15 минут» (с. 129).
Пункты следования не просто обозначены, но даже уточнены станции следования без остановки: «Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино» (с. 27).
Для полноты и правдоподобия картины даются день недели (пятница) и время года (осень – «темнеет быстро», с. 129).
И подобные темпорально-географические координаты могут быть приумножены.
Таким образом антураж путешествия обеспечен, его внешние специфико-квалификационные признаки налицо.
Однако жанр повествования (в данном случае речь о романе-путешествии) может быть квалифицирован исходя не только из внешних признаков текста, но и основываясь на существенных (конститутивных) чертах повествования. Так, если традиционное путешествие «совершается», как уже отмечалось, ради активного продвижения интриги, с целью выявления динамики характера героя (-ев), во имя разнообразия встреч, картин, впечатлений и проч., то у Ерофеева дело обстоит иначе: ни одна из доминантных черт романа-путешествия в данном случае «не работает», «привычных» составляющих путешествия у Ерофеева нет.
Традиционного для жанра романа-путешествия разнообразия картин в романе Ерофеева отметить нельзя. В отличие от иных героев-путешественников ерофеевский персонаж не смотрит в окно[12],картины за окном не актуализированы и потому не сменяют друг друга, и даже когда во второй половине романа герой все-таки вглядывается в заоконное пространство, картины не возникает: в наступившей ночной тьме различимы только безликие бесконтурные огни. Пейзажные декорации не чередуются, и в привычном смысле пейзажа в ерофеевском романе вообще нет[13].
Смены географического пространства в романе Ерофеева не происходит, варьируются только ничего не говорящие непосвященному читателю «вывески» («Различия, лопаясь, превращаются в идентичности…»[14]), которые по сути и не принадлежат пространству, ибо отражают не названия отдельной станции, а обозначают «перегон» от станции до станции (Москва – Серп и Молот, Серп и Молот – Карачарово, Карачарово – Чухлинка, Чухлинка – Кусково и так далее), следовательно, возникают только в подсознании героя, автоматически отмечающего (подсознательно констатирующего) передвижение от одного пункта к другому. Физическое перемещение героя за пределами вагона электрички не составляет ось романа. К развитию сюжета, характера, обстоятельств «вехи пути» отношения не имеют: с равным успехом герой мог бы просто отсчитывать время в пути (что он и делает в отдельные моменты) или измерять путь исчислением километров или, что актуальнее для него, – количеством выпитого. К тому же то обстоятельство, что герой уже три года ездит по одному и тому же маршруту («прошло уже три года…», с. 110; «так продолжалось три года, каждую неделю…», с. 111) задает не динамику, а скорее статичность и привычность/устойчивость впечатлений.
Разнообразия встреч и характеров, задаваемых романом-путешествием, у Ерофеева также нет, так как «мистические собеседники» героя (ангелы, Господь) и «пассажиры-попутчики» (Митричи, Он и Она, Тупой-тупой и Умный-умный) заданы в романе единовременно и изначально, раз и навсегда, их «качественный» состав не реконструируется, а их число минимализовано.
Кажется, что исключение здесь составляет только ревизор Семеныч[15], но это исключение лишь «подтверждает правило», поскольку, изменив «количество» присутствующих героев, он не влияет на их «качество». Только что появившись в вагоне, Семеныч вполне адекватно оценивает все происходящее и вступает в разговор героев так, словно он был незримым участником ранее происходящего. Можно предположить, что ревизор знал Митричей по имени как постоянных пассажиров на данном участке пути (sic: странно, что ни один из попутчиков не знаком Веничке, ведь он ездит в этой электричке уже три года, ровно столько, сколь Семеныч: «я впервые столкнулся с Семенычем <…> Тогда он только еще заступил на должность», с. 110. – О. Б.), но и к незнакомому мужчине («он») ревизор обращается подобно главному герою, называя его «черноусым», так же как и к Умному-умному – «коверкот», акцентируя внимание на той детали в одежде незнакомца, которая, во-первых, сезонна, то есть не-постоянна, а во-вторых, именно на той, которую уже выделил Веничка, то есть на коверкотовом пальто.
Заметим попутно, что данное обстоятельство вызывает сомнение, ибо люди разного возраста, различного социального статуса, несовпадающего жизненного опыта, различных интеллектуальных возможностей (Веничка и Семеныч) вряд ли могли столь одинаково точно характеризовать различных людей. Если попытаться найти какое-либо художественно-эстетическое обоснование этому факту, то можно предположить (как это и сделали некоторые критики, например, Л. Бераха), что по законам некоего жанра (у Берахи – авантюрно-плутовского) Ерофеев создает образы героев-двойников, усиливающих и поддерживающих образ главного героя[16]. Но, на наш взгляд, копии-двойники выглядят в романе Ерофеева чрезмерно плоско и одномерно (о чем будет идти речь далее) и поэтому с бόльшим основанием можно говорить не об авторской задаче, а о слабости прописанности персонажных характеров.
На обратном пути героя среди «вновь-появившихся» персонажей может быть названа и дама в черном (с. 139), но, во-первых, она уже упоминалась героем в связи с картиной Крамского «Неутешное горе» (с. 49), и, следовательно, можно говорить о ее изначальной заданности, во-вторых, она, подобно Семенычу, никак не меняет интриги, не оказывает влияния на ход сюжета и лирических рассуждений героя, а скорее отражает его собственную, ранее заданную суть.
Таковы и остальные герои, появляющиеся во второй части романа, которые, с одной стороны, рождены сном и алкогольным бредом героя, с другой – являются «биполярными заместителями» изначально репрезентированных героев или двойниками двойников: Господь – Сатана, Она – Евтюшкин и эринии, Митрич – царь Митридат[17] и т. д.
Таким образом, появившиеся по ходу движения «новые» персонажи – Семеныч и Дама в черном, а также «сновиденческие копии» – никак не мотивированы жанром путешествия и с равной правомерностью могли быть включены в систему образов по любой иной причине.
Как правило, в романе-путешествии смена пейзажных картин, обновление впечатлений и (в еще большей степени) появление нового персонажа влечет за собой поворот интриги. Но и этого в романе Ерофеева не происходит. Если говорить о главном герое повествования, то изменение направления его мыслей (что и составляет основу интриги романа) мотивируется не какими-либо внешними обстоятельствами, но целиком проистекает изнутри и подчиняется неуправляемому и бесконтрольному «потоку сознания» героя. Новая тема разговора возникает спонтанно, хаотично и ни в какой мере не зависит от обстоятельств «путешественнического» свойства. Герой «беспричинно» может вспомнить то, что происходило 10 лет назад, 2 недели назад, задуматься о том, что будет через 2 часа или завтра. И наряду с этим ровно ничего не помнить о том, что произошло несколько часов назад. То есть повествование Ерофеева развивается не благодаря, а вопреки «дорожно-путевой» интриге и мотивировано совершенно иными законами.
Что же касается других персонажей, которые в традиционном жанре путешествия приносят с собой новые темы разговора, привносят иные ракурсы или оттенки в уже начавшуюся беседу, то у Ерофеева они не разнообразят мысли и поведение главного героя, но, как уже отмечалось, становятся его тенями-двойниками, тавтологично дублирующими ведущий персонаж, излагая сходные мысли не только тем же языком, что уже отмечалось в связи с образом Семеныча и что может быть прослежено на примере Черноусого (с. 82–87), но и весьма сходными графическими построениями (графики Венички и лемма Черноусого)[18]. Мелкие различия только подчеркивают и усиливают сходство. Даже Господь и ангелы говорят (в самом широком смысле) «на языке» героя.
При внешнем отличии от главного героя второстепенные персонажи демонстрируют парадоксальную «жизненную» и «интеллектуальную» близость Веничке. Так, к уже сказанному можно добавить «комизм несходства-сходства» героя с Черноусой женщиной, которая, подобно лирическому персонажу поэмы, неизменно апеллирует к имени Пушкина: Веничка (с. 40, 69, 89), Она (с. 97–99)[19]
6
Здесь и далее ссылки на роман Вен. Ерофеева даются по изданию: Ерофеев Вен. Москва – Петушки и др. Петрозаводск, 1995, – с указанием страниц в скобках.
7
См. цитируемое издание.
8
Причисление романа Ерофеева к традиции плутовского романа заслуживает особого внимания, но не потому, что наиболее основательно, но так как выполнено легко, изящно и красиво. См.: Бераха Л. Традиция плутовского романа в поэме Венедикта Ерофеева // Русская литература ХХ века: направления и течения. Вып. 3. Екатеринбург, 1996. С. 77–89.
9
В. Муравьев: «Поэма “Москва – Петушки” продолжает ряд произведений русской литературы, в которых мотив путешествия реализует идею правдоискательства (“Путешествие из Петербурга в Москву” А. Радищева, “Кому на Руси жить хорошо” Н. Некрасова, “Чевенгур” А. Платонова и др.)». Попутно и безотносительно к жанру В. Муравьев упоминает и «путешествие» Игоря-Северянина (см.: Муравьев В. Предисловие… // Ерофеев В. Москва – Петушки и др. Петрозаводск, 1995. С. 10). И. Скоропанова же (очень-по-веничкиному) перечисляет все виды транспортных средств, которые звучат в названиях различных художественных произведений (см.: Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. М., 1999. С. 170).
10
Очевидно, что истоки данной жанровой традиции коренятся в фольклоре, будь то западноевропейский героический эпос или русские былины и сказки. На связь Ерофеева с фольклором в дальнейшем будет обращено особое внимание.
11
Эпиграф к роману Г. Гриммельсгаузена «Симплициссимус»: «Так мне нравилось – со смехом говорить правду», являющий собой переложение латинской поговорки «ridendo dicere verum» («смеясь говорить истину»), восходящей к одной из сатир Горация, – может быть легко коннатирован применительно к роману Вен. Ерофеева.
12
Ср.: В. Курицын: «Солидную часть пути он даже проводит в тамбуре, где окна нет совсем (? – О. Б.)» (Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2001. С. 144–145).
13
Отчасти элементы пейзажа можно проследить в описании Москвы (Кремля) и Петушков, но и здесь пейзажный фон скорее условен и абстрактен, так как создается с целью выделения противонаправленной – «адской» и «райской» – сущности/сути названных мест.
14
Бераха Л. Традиции плутовского романа в поэме Венедикта Ерофеева // Русская литература ХХ века: направления и течения. Вып. 3. Екатеринбург, 1996. С. 80.
15
Реального контролера на петушихинской ж/д ветке звали Митричем (см.: Театр. 1991. № 9. С. 86).
16
О героях-двойниках см. также: Симонс И. An Alkoholic Narrative as Time Out and the Double in “Moskva-Petushki” // Canadian-American Slavic Studies. 1980. P. 55–68.
17
Сигналом к подобной ассоциации становится не только звуковое «согласие» имен, но и предшествующая эпизоду о Митридате фраза «И звезды падали на крыльцо сельсовета» (с. 146), явно отсылающая к рассказу Митрича-старшего о председателе Лоэнгрине (с. 95), а также определение царя – «весь в соплях» (с. 147), идущее от характеристики Митрича-младшего.
18
В связи с графиками напрашивается невольная параллель к Л. Стерну, но не к «Сентиментальному путешествию», а к «Жизни и мнениям Тристрама Шенди, джентльмена».
19
Сюда же можно добавить и ее пристрастие к «двойным» названиям городов: Ростов-на-Дону, Владимир-на-Клязьме. Ср Вен. Ерофеев: «Я люблю двойные имена» (Театр. 1991. № 9. С. 91).