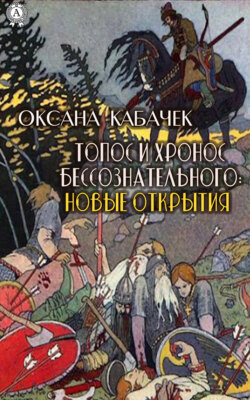Читать книгу Топос и хронос бессознательного: новые открытия - Оксана Кабачек - Страница 16
Часть I. Архетипическая универсальная матрица: пространственный способ организации бессознательного
Глава 4. Новаторство М.М. Хераскова и других
§ 1. Абсолютный баланс
ОглавлениеГармония есть дщерь любви небесной.
М. Херасков «Кадм и Гармония»
Для Хераскова характерно виртуозное балансирование группами А и Р звуков и звукосочетаний. Абсолютный баланс (попадание звуков группы А или Р, либо и тех и других одновременно в точку симметрии в промежуточных семантических полях или же равенство их интенсивности во втором поле) помогает читателю максимально настроиться на восприятие сообщаемого автором, быть, не напрягаясь, внимательным (для Михаила Матвеевича это необходимое условие художественной коммуникации: забота о качестве и комфорте восприятия текста читателем). Сам автор сбалансирован – эстетически уравновешен: в его поэме «Россиада» обращает на себя внимание «равновесие логически-организованной поэтической фразы» [Гуковский].
(Мы проанализировали сначала 150 отрывков из трех крупных произведений М.М. Хераскова: эпических поэм «Россиада» и «Владимир возрожденный» и стихотворной повести «Бахариана»; кроме того, внутри группы «Поэзия XVIII века», были рассмотрены три стихотворения классика: «Иные строят лиру», «Птичка» и «Песенка» в сравнении (применялся корреляционный анализ) с 284 отрывками и полными текстами других жанров и авторов – см. таблицу № 5.)
Михаил Матвеевич – лидер сбалансированности, обладатель наитончайшего внутреннего слуха среди авторов XVIII века и предыдущих веков (собственно, благодаря ему мы и смогли обнаружить этот интересный параметр). Херасков задал направление ускорению: в следующем веке его немного опередит А.С. Пушкин (самое сбалансированное произведение XIX века нашей выборки – поэма «Руслан и Людмила»), в XX веке появится новый рекорд (чемпион баланса – поэма «Василий Теркин» А. Твардовского), в XXI веке баланс еще больше увеличился – в новом жанре двустиший. (Тут для анализа мы взяли уже 3159 произведений или их отрывков как художественной литературы, так и документальной.)
Вероятно, абсолютная сбалансированность того или иного отрывка текста является своеобразным способом подчеркнуть то, что важно автору, на что он неосознанно хочет обратить внимание читателя. Это ключевые, опорные моменты сюжета и, иногда, финал произведения.
Вот, абсолютный баланс показывает важное – и установки, жизненные цели героя, и зашифрованные три заветные карты: тройку, семерку, туз: «Расчёт, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!» (Код карт как азартной игры: 3+4,2).
Анаграмматический слой затекста в этом пушкинском отрывке содержит и диагноз-прогноз «ум умер», и карточные термины: «тус» (туз), «масть», и секрет высокого искусства, внутри привычного для автора ландшафта: «ими мирит ритм Мойка»: оно «аставит непакой и низ».
Но, увы: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семёрка, туз – скоро заслонили в воображении Германна образ мёртвой старухи» (Код 4,2).
Про роковой проигрыш и помещение Германна в обуховскую больницу будет рассказано уже в «обычных» отрывках: про игрока Пушкин-игрок выговорился.
А мы углядели (с помощью анаграммы) еще одну тему «Пиковой дамы»: искусство как альтернатива роковой игре. Они оба живут в 3 семантическом поле: конкуренты?
«Но дружбы нет и той меж нами. / Все предрассудки истребя, / Мы почитаем всех нулями, / А единицами – себя. / Мы все глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей миллионы / Для нас орудие одно; / Нам чувство дико и смешно» (А. Пушкин «Евгений Онегин»).
Код тут 1+4,2 – функция поля в среднем регистре («отбор из наличного») оказывается извращена: отбор-то давно совершен – Я, как единица пред нулями, больше всех. Всегда.
И текст проваливается в нижний регистр.
* * *
Рассмотрим, как представлен концепт рассказа «Сон смешного человека» Ф. Достоевского (что там захотел подчеркнуть автор). О ком он больше будет говорить – о герое, или, тайно, о себе?
Отмечено, подчеркиванием, не то, что над героем смеялись (или ему казалось, что смеялись), а впадением им в депрессию: «Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их» (код 1+4,2). Кризис у героя; куда он его заведет?
«Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный» (код 1+4,2). Вот он, настоящий самоуничтожитель, «выбраковщик» себя – и заодно, по ходу, Вселенной. Попав в идеальный мир, на счастливую планету, герой знакомится с другим опытом человеческого сосуществования – не травмирующим.
Впрочем, для нашего героя он как раз травмирующий, острый: «Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого как я и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и зависти?».
И разрушает идиллию: не может он в ней существовать – непривычно, странно как-то, почти подозрительно. Неустойчиво, хрупко, непредсказуемо: в любой момент рванет. Страшно же! Лучше сделать это самому… Тогда предсказуемо, управляемо, привычно: старый развращенный мир. Соблазны в душе, мнимые потери, зависть и одиночество.
Это и вылилось в очередную новую идею – растление: эксперимент. «В образе "смешного человека" эта амбивалентность в соответствии с духом мениппеи обнажена и подчеркнута. <…> Это – характерное для жанра мениппеи моральное экспериментирование, не менее характерное и для творчества Достоевского» [Бахтин Проблемы].
Жители Рая сами решают жить во зле? Про Стокгольмский синдром Достоевский не слышал, но предугадал. (Но из испоганенного Рая несутся благословения не ото всех: кому-то оскверненный мир не мил?)
Кольцевой рассказ: чтобы найти ответ, надо перечитать. Но есть ли у автора ответ? Не верит ли он порой сам, что герой в конце исправился? Я, человек XXI века, уже не очень верю. Проделал эксперимент – и, на первый взгляд, удачно подтвердил свою точку зрения на бытие: морали нет, мира нет. Отомстил – не тем.
Но потом, после сна, уверовал, что норма – нравственность, а не ее искажения; и пошел проповедовать: ставить на место и чужие мозги. Искреннее движение высшего Я? Есть же высший мир, он там побывал!
Два вида бреда, идее-фикс последовательно: а) что ничего не было и не будет – поэтому люди и не важны; б) что он пророк идеального мира.
И то, что он этот идеальный мир осквернил и уничтожил (в статусе идеального) как-то прошло мимо его сознания – провал (в бездну?). Бред – провал – новый бред.
А код 1–4,2 средне-высшего регистра: сам тут верит!
И читателю автор дает шанс поверить герою: Достоевский писал о герое, который искренне уверовал в Добро. Недаром его слова: «Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей» часто цитируют как кредо самого Федора Михайловича.
А вот удержится ли герой-проповедник на этой благородной позиции?
«В "Сне смешного человека" нас прежде всего поражает предельный универсализм этого произведения и одновременно его предельная же сжатость, изумительный художественно-философский лаконизм. <…> По своей тематике "Сон смешного человека" – почти полная энциклопедия ведущих тем Достоевского, и в то же время все эти темы и самый способ их художественной разработки очень характерны для карнавализованного жанра мениппеи» [Бахтин Проблемы]. Более того: там дан «полный и глубокий синтез универсализма мениппеи, как жанра последних вопросов мировоззрения, с универсализмом средневековой мистерии, изображавшей судьбу рода человеческого: земной рай, грехопадение, искупление» [там же].
Искупил – или не искупил? «Тексты Достоевского, которые М.М. Бахтин описывает как карнавальные, по большей части – скорее, юродские» [Померанц]; ведь, «когда разум принимает сторону рабства, свобода становится юродством. Когда разум не принимает откровения духа, дух юродствует» (там же). Видение Достоевского направлено на самосознание героя и «безысходную незавершимость, дурную бесконечность этого самосознания» [Бахтин Проблемы]; писатель «всегда изображает человека на пороге последнего решения, в момент кризиса и незавершённого – и непредопределимого – поворота его души» [там же].
Герой «во что бы то ни стало стремится сохранить за собой это последнее слово о себе, слово своего самосознания, чтобы в нём стать уже не тем, что он есть. Его самосознание живёт своей незавершённостью, своей незакрытостью и нерешённостью» [там же].
Финал повести: «А ту маленькую девочку я отыскал… И пойду! И пойду!». В анаграмме этого отрывка интересен не столько «ум мал» (ну, юрод он и есть юрод), сколько мелькнувшее имя Ева. Безымянная девочка возвышена до прародительницы, до представительства всех женщин? История становится мифологичней, архетипичней, мистериальней.
Абсолютный баланс высвечивает историю души и духа Homo sapiensa?
А, точнее, грехопадение в Раю!
Опять все повторится. Герой-истерик опять не удержится в райских кущах. Вечная воронка или маятник…
(«Кован уд», кстати, был и в анаграмме двусмысленной, ибо двунаправленной, «Оды» Мандельштама.)
Посмотрим теперь трилогию Льва Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Мы помним, что под личиной Николеньки скрывается сам автор: повести носят во многом автобиографический характер.
Прощальные слова матери: «Меня не будет с вами; но я твердо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти» (Код 1,2 – материнская забота; другого кода и быть не могло). Это рубеж – конец детства героя.
«– Отвратительный мальчишка!.. – закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.
“Ну, теперь все кончено между нами, – думал я, выходя из комнаты, – мы навек поссорились”» (1+2,2). Ужас и стыд. (Конечно, старший брат и не думал долго сердится; но важно, что это стало еще одним уроком жизни для подростка Николеньки.)
«Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницею и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи» (1+4,2). Здесь без ужаса: просто стыд и самоирония (Николеньку ставят в пример старшему брату, а он ничем, ничем не лучше и сам это знает!)
О, там впереди еще много драм, мнимых и реальных падений, и примирений, и открытий. Духовных прозрений: «…все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему» (Код 1+2,2).
«– Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны! – сказал он мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив» (Код 1+2,2).
Это Лев Николаевич Толстой: он счастлив не от того, что похвалили его ум, а от того, что другой человек так мил и добродушен. Добр.
И преобладает в поворотных пунктах судьбы этот код 1+2,2 – медитация, мысли о правильном и праведном, самовоспитание через осознание.
У Достоевского в «Сне смешного человека» этот код встречается тоже часто – но не в отрывках с абсолютным балансом, а в других – где рассказывается о планете всеобщей любви. В высшем, конечно, регистре.
То, что для героев Федора Михайловича, «зодчего подземного лабиринта», по выражению Вяч. Иванова [Иванов 1987, с. 488] – недостижимый идеал и дальняя цель, для «альтер эго» Льва Николаевича – норма и способ жизни? Скорее, ежедневное трудное задание себе – планка, ниже которой больно, стыдно падать.
…Итак, автор подчеркнул в трилогии удары жизни, философствование о человеке и тот будущий проект «муравейного братства», вернее, его крохотный зародыш, атом, необходимый для становления человека, писателя и философа.
Здесь, на поле любви, они встретились с Федором Михайловичем Достоевским.
* * *
«Лицо его было правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно» (А. Бестужев-Марлинский «Страшное гадание»). Романтизм, провинциального разлива. Педалирование тут – обычный прием.
«Вот черепахи, вытянув нежную голову, состязаются в беге – это Гендель» (О. Мандельштам, «Египетская марка»). Шепотом делится, с придыханием – очень личное. И немножко смешное.
Кто ловко бегает как черепаха, а кто трудится: «А уж там в стороне четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душою и телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать» (Н. Гоголь «Мертвые души»).
Гоголь рассказывает о выдающемся зрелище. Серьезно, не улыбаясь. Потому и комический эффект?
«Любите ли вы красить забор? Умеете ли вы красить забор?» (Н. Назаркин «Умеете ли вы красить забор?»). Автор с первых фраз рассказа-зарисовки берет быка за рога. (Конечно, отсылка к Тому Сойеру, конечно, намек на предстоящую игру с читателем.)
По секрету всему свету: «Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться» (Хармс «Из жизни Пушкина 6»).
«Шарик спал крепко, но проснулся быстро, как только почуял постороннего человека у костра. Он принял Озерова, как показалось тому, необычайно спокойно и ласково».
Ну, положим, это шутка: там был не «Шарик», а «генерал Бородин», и фрагмент – из романа «Белая береза» лауреата всяких сталинских премий М. Бубеннова.
Но литератор не оригинален: этот прием уже многократно апробировал М. Арцыбашев в «Санине» – и более виртуозно. Хотя так же не осознаваемо: «Потом стали уходить, сдержанно топоча ногами» (Люди там постоянно сравниваются с конями; в сущности, автор Хармс со своей странной полу-звериадой оттуда и вывалился, также неосознанно. Мутировал затем, возмужал, заколосился…)
Но не будем отвлекаться. «Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай» (Н. Гоголь «Записки сумасшедшего»). Настоятельнейше советует.
Но здесь смех уже сквозь слезы…
* * *
«Приглашение на казнь». Да, сразу к делу, как сказал бы лучший друг Цинцинната.
«Какие звезды, – какая мысль и грусть наверху, – а внизу ничего не знают». Одной фразой обозначена топология духа: светлый верх и темный низ. Место действия. Двойное, но не двойственное. Код 3+4,2 – с расширением: перекидыванием в противоположность. Здесь 3+4 – не чуднОе, а чУдное, иное место высшего регистра. То есть ангельское, а не звероподобно-демоническое.
Ибо данс макабр нас ждет внизу. И не только он, к счастью: «Я не простой… я тот, который жив среди вас… Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, – не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, – но главное: дар сочетать все это в одной точке…» (Код 4,2). Что за экзот перед нами?
«Как мне страшно. Как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто» (Код 1,1+2 – автор не описывает медитацию, он сам медитирует и прозревает. Конечно, от имени героя – это ведь его слова.).
А вот слова мсье Пьера: «Он сегодня просто злюка. Даже не смотрит. Царства ему предлагаешь, а он дуется. Мне ведь нужно так мало – одно словцо, кивок. Ну, ничего не поделаешь. Пошли, Родриго». Код 3+4,2 – сладенький тюремщик оценивает Цинцинната как нелюдя, как преступника. А он ведь – как бы – к подопечному со всей душой: «Мы толковали обо всем – об эротике и других возвышенных материях, и часы пролетали, как минуты, минуты, как часы. Иногда, в тихом молчании…» (Код 1+2,2 – медитация; ирония вынесена за скобки – дело серьезно; у мсье Пьера нет души: он фантом, лярва.)
Не вошли в ключевые моменты романа ни дальнейшие этапы освобождения Цинцинната, ни финал… Может, этот прием говорит о том, что история, рассказанная автором, живет себе дальше – уже там? И, вообще-то, главное подчеркнуто: «Но меня у меня не отнимет никто».
«Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал» (Н. Гоголь «Записки сумасшедшего»). Признание из глубины души. (Похож герой на Цинцинната – и не сходен.)
Вот еще о странностях психики, о сверхспособностях: «– Вы правы. Мои руки могут скопировать любой почерк и отличить на ощупь пять разновидностей льда, соответствующих пяти степеням одиночества» (П. Крусанов, «Укус ангела»).
«"А, право, похож на помешанного", – подумал Хрипач, увидев следы смятения и ужаса на тупом, сумрачном лице Передонова» (Ф. Сологуб «Мелкий бес»). Но сигнал умницы Хрипача не был услышан вовремя другими персонажами…
А читателями?
«Но я же и говорю, что нам плакать не об обстоятельствах своей жизни, а о себе.
Совсем другая тема, другое направление, другая литература», – настойчиво внушает Василий Розанов («Уединенное»). «Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня» (там же). Когда писатель хочет быть услышанным, он особо точен в балансе?
«Поразительно, что к гробу Толстого сбежались все Добчинские со всей России, и, кроме Добчинских, никого там и не было, они теснотою толпы никого еще туда и не пропустили» (там же). Наболело у В.В. Розанова.
Наболело и у героев Н. Назаркина: «– Здрасьте – здрасьте, как у вас дела, а как у вас, да вот что-то спину прихватило, у моей свекрови такое было, а врачи ничего не говорят и чему их только учат, безобразие» («Умеете ли вы красить забор?»).
…Как не заинтриговать, не взволновать читателя странной информацией: «Петербургские улицы обладают несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих; тени же петербургские улицы превращают в людей» (А. Белый «Петербург»).
«Мы считаем на годы; на самом же деле в любой квартире на Каменноостровском время раскалывается на династии и столетия» (О. Мандельштам «Египетская марка). «Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух» (там же).
В провинциях тоже всякое водится: «Передонов проснулся под утро. Кто-то смотрел на него громадными, мутными, четырехугольными глазами» (Ф. Сологуб «Мелкий бес»). И это: «Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на средине церкви и остался неподвижным» (Н. Гоголь «Вий»).
Читатели тоже, оцепенели. Сражены: авторский посыл «NB!» попал в цель.
«Апрель! Тюльпаны! Тюльпаны! Тюльпаны! Не заело, просто слишком их много и все разные. Одним словом не опишешь» (Н. Назаркин «Умеете ли вы красить забор?»). И не расстроен автор, что не может одним словом описать явление: он выстреливает в читателя слоганом как торговка на весеннем базаре: «Тюльпаны! Тюльпаны! Тюльпаны!». Игра. Стрельба.
* * *
«По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений» (Л. Андреев «Красный смех»).
О, не верьте спокойствию: автор-то нажал на красную кнопку! «И тут я сообразил, что вообще многое я забываю, что я стал страшно рассеян и путаю знакомые лица; что даже в простом разговоре я теряю слова, а иногда, и зная слово, не могу никак понять его значения» (там же).
«Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки, как у волков, – но они не вернутся: они сошли с ума и перебьют всех. Они сошли с ума» (там же).
Цитаты впиваются иглами-занозами в читателя: абсолютный баланс – это остро-заточенное стило автора.
Стилист – снайпер.
Иногда со стилистикой молодые авторы кокетничают: «И добавил: «Не истязать, не калечить, не жалеть». Приказы комбата исполнялись беспрекословно. Вскоре аул был безупречно мёртв» (П. Крусанов «Укус ангела»).
Молодой Лермонтов такого себе не позволял. Не потому, что пацифист, а потому, что гений.
…Нет-нет, Павел Крусанов не сдается: «А что, если тот, кто вспоминает мир, однажды вспомнит его без меня?» («Укус ангела»). Не бравада, а печальное удивление от открытия.
Зачет.
* * *
Опять про тюрьму. «Молодая гвардия» Александра Фадеева.
Пример заказного романа? Сталин позвонил и сказал: «Надо»; Фадеев поехал в Краснодон и написал журналистский материал.
Потом была его временная отставка с поста секретаря Союза писателей (на два года), когда, после многих лет перерыва, он решился писать большую вещь. Из письма Маргарите Алигер в 1944 году: «…но я лично только запутаюсь душой и погибну в том противоречии, в каком я живу, если я не преступлю через него и не начну писать. И я стал писать. И что бы там ни думали обо мне люди и что бы я, действительно, ни сделал в своей жизни дурного, я счастлив, что я нашел в себе силы поступить именно так» [Сарнов].
По мнению Б. Сарнова, «работа над «Молодой гвардией» была для него не просто очередным государственным заданием, не «социальным заказом комсомолии», а делом глубоко личным; попыткой вернуться к себе, обрести себя истинного, утерянного и вот – вновь обретаемого. <…> Это был ЕГО сюжет. Вернее, ЕГО ТЕМА» [там же].
Но надо было пройти мимо Сциллы и Харибды и остаться при орденах. Сцилла – страшная, сложная для восприятия правда о войне, Харибда – гос. пропаганда, ее прокрустово ложе.
Фадеевскому тексту это почти удалось: роман надолго стал эталоном, вошел в школьную программу.
А затексту? (Он же аккумулирует истинные чувства и установки автора, его тайные мысли и неуничтожимые знания.) При разборе 2-ой, авторской, позиции мы это увидим.
В ключевых эпизодах первой редакции романа, т. е., по выражению Б. Сарнова, «в первом, еще не испорченном его варианте»[11] [там же], писатель представлен достойно: он, несмотря ни на что, пишет правду о панике во время эвакуации из города, в начале романа.
И только два эпизода в нашей выборке романа из 32 отрывков отмечены автором как ключевые: те, правдивые, в начальных главах. А дальше пойдет сермяжный социалистический реализм: официально рекомендуемая идеализация. Определенное политкорректное, устраивающее власти, обобщение, противоречащее историческим фактам. И, вероятно, не только краснодонским.
Абсолютный баланс связан с совестью писателя, «криком души»?
А смелые отрывки во вторую редакцию романа не вошли: А.А. Фадеев, уже как восстановленный секретарь Союза писателей СССР, многое переписал: «Вместо жуткой, трагической картины охваченного паникой человеческого месива появились стройные колонны рабочих, покидающих город организованно, под присмотром блюдущих строгую организованность и порядок бдительных ”колонновожатых”» [там же].
* * *
Но вернемся к истокам, Михаилу Хераскову. Он старается «заставить читателя приглядеться к собственному внутреннему миру, задуматься о самом важном, по его глубокому убеждению, для каждого человека – о самопознании и самосовершенствовании» [Драгайкина]. В романе М.М. Хераскова «Кадм и Гармония» герой «не совершает каких-либо незаконных деяний, он только имеет дурные мысли и ведет неподобающие разговоры, соблазняя молодежь. Таким образом, наиболее опасно духовное развращение, подчеркивает Херасков, за него полагается и неизмеримо большая ответственность» [Западов].
Вывод романа: «Обладающий своими чувствованиями смертный, обуздывающий волнение страстей своих, управляющий по правилам благоразумия душевными свойствами, есть сильный царь на земли».
Связывает ли что-то общее идеалы и авторские задачи классика М.М. Хераскова и безымянных авторов двустиший (чемпионов, мы помним, среди жанров по абсолютному балансу (36 %)? «Кого хочу я осчастливить, / тому уже спасенья нет» (код 4,3). «Когда все крысы убежали, / корабль перестал тонуть» (код 3+4,3). Да, юмор, ирония и самоирония, но не более того? (Узнаем в самом конце книги.)
А в коротком жанре нескладушек, не чемпионе, но призере (абсолютный баланс 33 %) все выделенные абсолютным балансом анонимными авторами стихи гуманистичны, педагогичны и действенны.
Сбылась мечта Хераскова, через двести с лишним лет.
А как – поговорим позже.
11
– «Основой первого варианта тоже был определенный социальный заказ. Но стимулом для создания второго варианта был уже не социальный заказ, а – социальный приказ» [Сарнов].