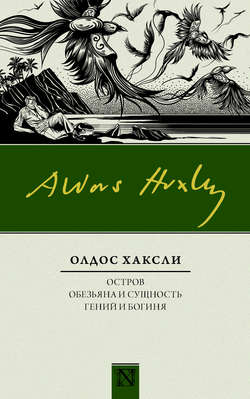Читать книгу Остров. Обезьяна и сущность. Гений и богиня (сборник) - Олдос Леонард Хаксли, Олдос Хаксли - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Остров
Глава седьмая
ОглавлениеОн действительно никогда не мог заставить себя спать днем, но когда в следующий раз посмотрел на часы, было уже двадцать пять минут пятого, а он ощущал себя чудесным образом отдохнувшим и бодрым. Он взял «Заметки о том, Что есть Что» и возобновил прерванное чтение.
Дай же нам Подлинную Веру на каждый день и избави нас, милостивый Боже, от простой веры, иначе именуемой Доверчивостью.
До этого места он добрался утром. Теперь предстоял следующий раздел – пятый.
Я, кем я себя считаю, и тот, кем я являюсь в действительности, – это, другими словами, печаль и конец печали. Одну треть – приблизительно – печали, которую я испытываю как тот, кем себя считаю, нужно покорно выносить, приняв ее неизбежность. Это печаль, изначально продиктованная в качестве одного из условий существования человека, цена, которую мы платим за то, что представляем собой разумные и осознающие себя организмы, рвущиеся к освобождению, но вынужденные подчиняться законам природы и продолжать свой марш сквозь необратимое время, через мир, полностью равнодушный к нашему существованию, к старческой немощи и неизбежной смерти. Остальные две трети всех печалей мы придумываем сами, а потому во вселенском масштабе они совершенно лишены оснований.
Уилл перевернул страницу. Листок бумаги выпал при этом из книжки и спланировал на постель. Он поднял его и осмотрел. Пятнадцать строчек четким убористым почерком, а в самом низу страницы инициалы: С. М. Явно не частное письмо. Стихи, а значит, нечто, принадлежащее всем. И он прочитал:
Где-то между молчаньем угрюмым и воскресными Проповедями кальвинистов об Иисусе (да поможет нам Бог!). Где-то между увиденным мной и услышанным, Средь речей, что ведут себе счет в замусоленных И измятых купюрах ничего не значащих слов. Где-то между первой звездой и камнями, под которыми прячутся ящерицы, Мотыльки роятся над тенями бывших цветов. Где-то там есть то чистое место, где я – больше не я, но отчетливо помню Нашу полную мудрости первую ночь, что осталась на том берегу. А под ветра порывами вспоминаю ночь другую: холодную и беспросветную, Ночь бессонную, вдовью и одинокую, когда только лишь Смерть возлежала Рядом с телом моим в темноте… Все мое, все мое. Но я – больше не я! И в том месте чистейшем между мыслью и тишиной Вижу всех, кого потеряла, и они представляются мне как светящиеся генцианы, Средь зеленой альпийской травы раскрывающие синь лепестков.
«Светящиеся генцианы», – повторил Уилл про себя и вспомнил летние каникулы в Швейцарии, когда ему было двенадцать. Вспомнил расположенный высоко над Гриндельвальдом луг с его незнакомыми цветами, чудесными неанглийскими бабочками, вспомнил темно-синее небо, яркое солнце и огромные, сверкающие снегом вершины гор по другую сторону долины. А у его отца для всего этого нашлось только банальное сравнение. «Похоже на рекламу молочного шоколада «Нестле», – сказал он. – И даже не настоящего шоколада, – добавил с гримасой недовольства, – а всего лишь молочного». После чего последовал иронический комментарий по поводу акварели, которую рисовала его мама – так плохо (бедняжка!), но с такой любовью и с заботливой тщательностью. «А это реклама молочного шоколада, которую фирма «Нестле» отвергла». А затем настал его черед. «Вместо того чтобы болтаться тут, раззявив рот как деревенский дурачок, почему бы не заняться для разнообразия чем-то полезным? К примеру, поработать над своей немецкой грамматикой». И, запустив руку в рюкзак, он отыскал среди сваренных вкрутую яиц и сандвичей ненавистную тонкую книжку в коричневой мягкой обложке. До чего же жалкий человек! Но если Сузила была права, после всех прошедших лет нужно было даже его суметь увидеть одной из светящихся генциан. Уилл снова перечитал последнюю строчку стихотворения: «…раскрывающие синь лепестков».
– Так-так… – раздался знакомый голос.
Он повернулся к двери.
– Помяни черта… – сказал он. – Или, точнее, прочитай написанное чертом.
И он поднял листок, чтобы она смогла рассмотреть его.
Сузила бросила лишь беглый взгляд.
– А, вы об этом, – сказала она. – Как жаль, что благих намерений недостаточно, чтобы писать хорошие стихи.
Она вздохнула и покачала головой.
– Я старался вообразить своего отца в виде генцианы, – произнес он. – Но постоянно лезет в голову образ большой кучи дерьма.
– Даже кучу дерьма, – заверила она его, – можно увидеть генцианой.
– Но только, если я правильно понял, в том чистом месте между мыслью и молчанием?
Сузила кивнула.
– Как туда попасть?
– Туда не надо попадать. Оно само приходит к тебе. Или, если разобраться, оно уже здесь.
– Вы как маленькая Радха, – почти пожаловался он. – Обе попугаями повторяете то, о чем писал Старый Раджа в самом начале своей книги.
– Если мы повторяем его слова, – заметила она, – то лишь потому, что в них заключена истина. Не повторяя их, мы бы проходили мимо реальных фактов.
– Фактов чьей реальности? – спросил он. – Уж точно не моей.
– Не в данный момент, – согласилась она. – Но если бы вы проделали то, что рекомендует проделать Старый Раджа, она могла бы оказаться и вашей тоже.
– А у вас самой были проблемы с родителями? – спросил он, немного помолчав. – Или вы всегда могли увидеть кучку говна в виде цветов?
– Не в нежном возрасте, – ответила она. – Дети по необходимости манихейские дуалисты. Это цена, которую мы все вынуждены платить за основные навыки существования в виде обычных людей. Видеть дерьмо как генцианы или скорее видеть цветы и дерьмо как Генцианы с большой буквы – такая способность приходит с годами после длительной учебы.
– Так как же вы обходились со своими родителями? Просто усмехались и выносили невыносимое? Или ваши отец и мать были людьми сносными?
– Сносными по отдельности, – сказала она. – Особенно отец. Но совершенно невыносимыми вместе – прежде всего потому, что не могли выносить друг друга. Энергичная, веселая, открытая по натуре мама вышла замуж за настолько законченного интроверта, что все время действовала ему на нервы. Даже, как я подозреваю, в постели. Она никогда не прекращала стремиться к общению, а он не пытался даже начинать. В результате он считал ее неискренней пустышкой, а она называла его человеком бессердечным, высокомерным и лишенным нормальных человеческих чувств.
– А я-то уже подумал, что вы здесь мудрее нас и не попадаетесь в такого рода ловушки.
– Мы учимся быть мудрее, – сказала она. – Девочкам и мальчикам читают специальные лекции, объясняющие, чего им ожидать от людей с совершенно иной, чем у них самих, психикой, с другим типом темперамента. К сожалению, порой выясняется, что эти лекции не всегда дают нужный эффект. Не говоря уже о тех особых случаях, когда психологическая пропасть между людьми слишком широка, чтобы перебросить через нее мост. Короче, факт остается фактом: совместная жизнь у моих родителей не сложилась должным образом. Они влюбились друг в друга – бог весть почему. Но стоило им окончательно сблизиться, как она стала постоянно обижаться на его отчужденность, а ее неизменно веселый и общительный нрав доставлял ему только чувство неловкости и неприязни. Причем мои симпатии всегда оставались на стороне отца. И физически, и характером я больше пошла в него и почти нисколько – в маму. Помню, еще маленькой девочкой я буквально вся сжималась от ее избыточной энергии. Она олицетворяла для меня постоянные попытки вторжения в мой внутренний мир. И до сих пор ничего не изменилось.
– Вам приходится часто встречаться с ней?
– Очень редко. У нее есть своя работа, свои друзья. В нашем обществе слово «мать» обозначает лишь функцию. Когда функция положенным образом исполнена, титул как таковой отпадает; бывший ребенок и женщина, которую до поры звали его матерью, выстраивают между собой иного рода отношения. Если они ладят между собой, то видятся часто. В противном случае их пути расходятся. Никто не ожидает от них тесных контактов, и подобные контакты не приравниваются к любви, не считаются чем-то особенно показательным.
– Значит, теперь все хорошо. А как было тогда? Что происходило, когда вы еще оставались ребенком, жившим между двумя людьми, неспособными преодолеть глубокую трещину, разделявшую их? Мне самому отлично знаком конец этой сказки: «И жили они потом долго и несчастливо».
– А я и не сомневаюсь, – сказала Сузила, – что если бы мы родились не на Пале, то жили бы долго и несчастливо. На деле же мы справились, учитывая все обстоятельства, на удивление хорошо.
– Как же вам это удалось?
– А нам не пришлось даже прикладывать усилий: все было сделано за нас. Вы уже прочитали, что писал Старый Раджа об избавлении от двух третей печалей, которые надуманны нами самими и излишни?
Уилл кивнул:
– Я как раз остановился на этом месте, когда вы пришли.
– В старые, но недобрые времена, – продолжала она, – паланские семьи могли быть такими же мелкими сообществами жертв, тиранов и лжецов, какими сейчас по большей части предстают ваши. Более того, дела обстояли так худо, что доктор Эндрю и Раджа-Реформатор поняли необходимость принятия срочных мер в этой сфере. Этика буддизма и примитивный коммунизм сельских общин были искусно использованы в разумных целях, и в течение жизни всего одного поколения система организации семьи в целом претерпела радикальные изменения. – Она на секунду задумалась. – Позвольте пояснить это на моем собственном примере – на примере единственного ребенка двух людей, которые не могли понять друг друга и постоянно сердились, если не открыто ссорились между собой. В давние годы маленькая девочка, воспитанная в таком окружении, превратилась бы либо в глубоко несчастного человека, либо в бунтаря, либо в отстраненного лицемера и конформиста. При новой системе мне не пришлось пережить излишних моральных страданий: я не стала издерганным невротиком, не была вынуждена постоянно встревать в домашние неурядицы и не замкнулась в себе. Почему? Потому что с того момента, как я научилась ходить, у меня была возможность сбежать.
– Сбежать? – повторил он. – Как это – сбежать? – Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой.
– Возможность ухода из семьи, – снова пояснила она, – лежит в основе новой системы семейных отношений. Как только милый родительский дом становится немилым и даже невыносимым, ребенку не просто разрешено, но и настоятельно рекомендуется – причем за этим стоит солидный вес общественного мнения в его поддержку – перейти в любой другой из своих домов.
– Сколько же домов у ребенка с Палы?
– В среднем примерно двадцать.
– Двадцать? О мой бог!
– Все мы принадлежим к одному из КВП – клубов взаимного приятия. И каждый КВП состоит из пятнадцати или даже двадцати пяти семей. Только что поженившиеся пары, зрелые родители со взрослыми детьми, бабушки и прадедушки – любой член клуба обязан принять другого. Помимо своих кровных родственников у нас у всех есть другие мамы, папы, тети и дяди, братья и сестры, совсем маленькие детишки и подростки.
Уилл покачал головой:
– Вы создаете двадцать семей там, где могла быть только одна.
– Но это не те семьи, что продолжают существовать у вас. Все двадцать семей – нашего нового типа. – Она сделала вид, что читает инструкции из кулинарной книги. – «Возьмите одного страдающего сексуальным расстройством раба своей работы и жалованья, одну разочарованную во всем женщину, двух (или чаще даже трех) любителей телевидения, промаринуйте их в смеси фрейдизма со слабым раствором христианства, а потом заприте в стенах четырехкомнатной квартиры и томите лет пятнадцать в собственном соку». Мы пользуемся совершенно другим рецептом. «Возьмите двадцать пар со сложившейся сексуальной жизнью и их отпрысков, добавьте научный подход, интуицию и чувство юмора в равных пропорциях, пропитайте тантрическим буддизмом и варите сколь угодно долго в открытой кастрюле при необходимой температуре взаимной привязанности».
– И что же сварится в этой вашей открытой кастрюле? – спросил он.
– Совершенно иная разновидность семьи. Не замкнутая, как ваша, не предопределенная на всю жизнь и не навязанная вам судьбой. Обширная, не скованная никакими рамками и добровольная семья. Двадцать пар отцов и матерей, восемь или девять бывших отцов и матерей, сорок или пятьдесят детей всех возрастов и обоих полов.
– Люди остаются членами одного клуба на протяжении всей жизни?
– Нет, конечно. Выросшие дети не берут под опеку собственных родителей, младших братьев и сестер. Они выходят в мир и принимают под свою заботу другую пару стариков, другую группу своих ровесников или детишек. А члены нового клуба, в свою очередь, принимают в свой круг их самих, а потом, естественным образом, и их детей. Гибридизацией микрокультур называют подобный процесс социологи. На своем уровне он столь же благотворен, как скрещивание различных видов кукурузы или пород кур. Более здоровые отношения в группе людей, осознающих свою ответственность, более глубокая привязанность и взаимное понимание. И эти привязанность и понимание распространяются на всех – от младенцев до столетних старцев.
– Столетних? Какова же у вас продолжительность жизни?
– Она всего на год или два выше, чем у вас, – ответила она. – Десять процентов нашего населения старше шестидесяти пяти лет. Старики получают пенсию, когда уже не могут работать. Но ясно, что пенсия решает только одну часть проблемы. Им необходимо заниматься чем-то активным и полезным. Им нужно о ком-то заботиться, чтобы получать в ответ любовь и уважение. Наши КВП дают возможность удовлетворить эти нужды.
– На мой взгляд, – заметил Уилл, – все это звучит как пропаганда новых китайских коммун.
– Клубы взаимного приятия совершенно не похожи на такие коммуны, – заверила она. – КВП не управляются государством. Ими руководят сами члены. И мы не милитаризованы. Никто не заинтересован в воспитании преданных членов партии. Наша цель – воспитание хороших людей. Мы не насаждаем в умы никаких догматов. И самое главное – мы не отбираем детей от родителей, а, напротив, даем им дополнительных родителей, взрослым – новых детей. Это значит, что буквально с детского сада мы уже пользуемся некоторой степенью свободы, и степень этой свободы возрастает по мере взросления, накопления опыта и приобретения возможности взять на себя гораздо больше ответственности. А в Китае свобода отсутствует полностью. Там детей отдают в руки официально назначенных воспитателей, чья задача – превратить их в послушных слуг Государства. Даже в вашей части мира все обстоит значительно лучше, хотя все равно достаточно скверно. У вас нет официальных надзирателей за детьми, но ваше общество принуждает вас провести детство привязанным к единственной семье, объединяющей одну пару родителей с детьми и прочими родственниками. Они все равно навязаны вам законами наследственности, предопределенностью и регламентацией жизни. Вы не можете избавиться от них, взять от них отпуск или каникулы, не в состоянии никуда уехать просто ради смены моральной и психологической обстановки. Если угодно, у вас есть свобода, но лишь в пределах телефонной будки.
– Запертым в ней, – продолжил ее мысль Уилл, – а я говорю сейчас о собственном случае, вместе с глумливым грубияном, христианкой-мученицей и маленькой девочкой, которую пугал грубиян и шантажировала мученица, взывая к ее лучшим чувствам, совместно доводя ее до состояния нервической тупости. Таким был дом, из которого до четырнадцати лет и переселения в соседний дом тетушки Мэри я не имел никакой возможности сбежать.
– А ваши несчастные родители не имели возможности сбежать от вас.
– Это не совсем верно. Мой отец находил исход в бренди, а моя мать – в утонченном англиканстве. Я же отбывал свой срок без малейших поблажек. Четырнадцать лет семейного рабства. Как же я вам завидую! Вы были свободной как птица!
– Не надо излишней лирики! Лучше скажем: свободной как разумное человеческое существо, как будущая женщина, но не более того. Взаимное приятие дает детям гарантии от несправедливостей и худших последствий недостатка педагогических способностей у их родителей. Но не освобождает от дисциплины, от необходимости взять на себя свою долю ответственности. Напротив, эта доля только возрастает, а дисциплине приходится следовать более неукоснительно. В ваших замкнутых, предопределенных семьях дети, как вы выразились, отбывают долгий тюремный срок под присмотром одной пары родителей-надзирателей. И эта пара может даже оказаться людьми добрыми, мудрыми, понимающими. В таком случае маленький заключенный может вынести свой срок без большого для себя ущерба. Но в реальности большинство ваших семейных тюремщиков не столь добры, мудры и склонны к пониманию, как хотелось бы. Зачастую при самых благих намерениях им просто не хватает ума. Или же они не питают благих намерений вовсе и слишком фривольны, склонны к неврозам, а порой откровенно злобны и начисто лишены разума. И потому только Бог может помочь малолетним заключенным, приговоренным законом, обычаями и религией быть в полной власти таких людей! А теперь представьте, что происходит в большой, всеобъемлющей и добровольно составленной семье. Никаких телефонных будок и пожизненно назначенных надзирателей. Здесь дети растут в действующей модели общества в целом, в небольшой, но точной копии мира, где им предстоит жить, когда они подрастут. Святость, здоровье, целостность – это все произрастает из одного корня и имеет различные оттенки одного и того же явления. И с этимологической точки зрения именно наша семья заслуживает названия «святое семейство». А вашей далеко до святости.
– Аминь, – подытожил Уилл и снова вспомнил свое детство, а еще подумал о несчастном Муругане в хищных когтях Рани.
После паузы он спросил:
– А что происходит, когда ребенок уходит в один из своих альтернативных домов? Он там задерживается надолго?
– Зависит от обстоятельств, а потому складывается у всех по-разному. Когда мои дети устают от меня, они редко покидают наш дом больше, чем на день-другой. Это потому, что в целом им вполне счастливо живется со мной. У меня был другой случай, а потому если я уходила, то могла не возвращаться целый месяц.
– И что же, ваши временные родители поддерживали вас в противостоянии с настоящими матерью и отцом?
– Поймите, речь не идет о том, чтобы настраивать детей против кого-либо. Поощряются разумные поступки и добрые чувства, целью становится понимание причин недовольства своей семьей и поиск возможных путей их устранения. Если ребенку неуютно в его основном доме, мы делаем все, чтобы он почувствовал себя счастливым в одном из пятнадцати или двадцати альтернативных. А тем временем его родители проходят тактичную терапию под руководством других членов их КВП. Как правило, через несколько недель родители полностью готовы к воссоединению семьи, а дети лишь рады вернуться. Но не следует думать, – добавила она, – что дети уходят в другие семьи только в том случае, если они несчастны или возникают проблемы. Они проделывают это постоянно, как только чувствуют необходимость сменить обстановку или приобрести какой-то новый жизненный опыт. И это не просто праздное любопытство, сплошные удовольствия. Куда бы они ни направились в качестве приемных, дети приобретают не только иные права, но и обязанности тоже – к примеру, расчесать шерсть собаке, почистить птичью клетку, посидеть с младенцем, пока его мать занята чем-то другим. Ответственность идет бок о бок с привилегией – но все равно это не сравнимо с вашими душными телефонными будками. Чувство долга и привилегия свободы нераздельны в огромной открытой семье, где ничто не предопределено раз и навсегда, где представлены люди семи возрастных генераций, десятки разных профессиональных навыков и талантов, где ребенок познает все самые значимые вещи, какие предстоит пережить человеку, не исключая и страданий, – работу, игры, любовь, старение, болезни и неизбежную однажды смерть…
Она замолкла, думая о Дугалде и матери Дугалда. А потом намеренно сменила тон:
– Да, но что же это я! Настолько увлеклась рассказом о наших семьях, что даже не спросила, как вы себя чувствуете? Выглядите вы намного лучше, чем во время нашей предыдущей встречи.
– Благодаря заботам доктора Макфэйла, но также стараниям некоего лица, которое, как я подозреваю, практикует медицину без соответствующей лицензии. Что, черт возьми, вы со мной сделали вчера днем?
Сузила улыбнулась.
– Вы все сделали сами, – заверила она его. – Я лишь нажимала на нужные кнопки.
– Какие кнопки?
– Кнопки памяти, кнопки воображения.
– И этого оказалось достаточно, чтобы погрузить меня в гипнотический транс?
– Что ж, называйте это так, если хотите.
– А как еще можно это назвать?
– Зачем вообще придумывать какие-то ярлыки? Названия лишь вызывают все новые и новые вопросы. Почему не удовлетвориться знанием о том, что с вами произошло?
– Но что именно произошло?
– Что ж, для начала мы с вами установили в некотором роде контакт, не так ли?
– Мы, несомненно, сделали это, – согласился он. – Но мне показалось, что я при этом едва ли даже взглянул на вас.
Зато он посмотрел на нее сейчас. Смотрел и гадал, кто она такая на самом деле – это маленькое и странное создание, что скрывалось за гладкой и серьезной маской на ее лице, что видели ее темные глаза, отвечавшие ему столь же пристальным взглядом, и о чем она в этот момент думала.
– А как вы могли тогда взглянуть на меня? – спросила она. – Вы же отправились на каникулы.
– Или был насильственно отправлен?
– Насильственно? Нет! – Она помотала головой. – Вас, скажем так, проводили, помогли с отбытием. – Они немного помолчали. – Вы когда-нибудь пробовали, – спросила она затем, – заниматься серьезной работой, когда рядом был ребенок?
Уилл вспомнил о маленьком соседе, предложившем помочь покрасить мебель в столовой, и даже рассмеялся над тем, как был тогда раздражен.
– Бедный малыш! – продолжала Сузила. – Он преисполнен самых добрых намерений. Ему так хочется вам помочь.
– Да, но только потом весь ковер оказывается измазан краской, а следы его пятерни украшают стены…
– И потому в итоге вам приходится избавляться от него. «Пойди побегай, мой дорогой! Поиграй в саду!»
Снова воцарилось молчание.
– Ну и что же? – не выдержал он.
– А вы не поняли?
Уилл покачал головой.
– Что происходит, когда вы заболеваете или получаете травму? Кто вас излечивает? Кто заживляет раны и избавляет от инфекции? Вы сами?
– Кто же еще?
– Вы? – усмехнулась она. – Вы? Человек, которому больно, кого беспокоят мысли о грехах и деньгах и тревожит собственное будущее? Неужели вы всерьез считаете себя способным сделать все необходимое самостоятельно?
– А! Кажется, начинаю понимать, к чему вы клоните.
– Наконец-то! – поддразнила она.
– Нужно отправить меня играть в саду, чтобы не мешал взрослым спокойно делать свою работу. Но кто такие эти взрослые?
– Вопрос не ко мне, – ответила она. – Поинтересуйтесь у нейротеолога.
– А это еще что значит?
– В точности то, что вам слышится. Это профессионал, который воспринимает людей с точки зрения Божественного Света Пустоты и одновременно вегетативной нервной системы. Взрослые в данном случае обладают сведениями и о работе сознания, и о физиологии.
– А дети?
– Дети – это такие маленькие существа, которые считают, что понимают все лучше взрослых.
– И потому их лучше отослать побегать или поиграть?
– Точно.
– Примененная вами метода – общепринятая процедура на Пале? – спросил он.
– Самая стандартная, – заверила она. – В вашей части мира доктора справляются с подобными детьми, накачивая их барбитуратами. Мы делаем то же самое, разговаривая с ними о соборах и галках. – Она стала говорить нараспев: – О белых облаках, плывущих в небесах, о белых лебедях, плывущих по темной водной глади, о сонной, но неумолимо текущей реке жизни…
– Довольно, хватит! – резко возразил он. – Больше ни слова об этом!
Сначала улыбка осветила ее темное и серьезное лицо, а потом она рассмеялась. Уилл смотрел на нее изумленно. Внезапно перед ним оказался совершенно другой человек, иная Сузила Макфэйл – веселая, лукавая, ироничная.
– Знаю я все эти ваши трюки, – сказал он и тоже расхохотался.
– Трюки? – переспросила она, все еще смеясь. – Я лишь пыталась объяснить, как все проделала.
– Мне в точности неизвестно, как вы все проделали. Но я знаю, что это действует. Более того, я готов предоставить вам возможность повторить процедуру – когда это понадобится.
– Если хотите, – сказала она уже гораздо более серьезно. – Я покажу вам, как самому нажимать нужные кнопки. У нас этому обучают еще в начальной школе. Чтению, письму, арифметике плюс основам С. К.
– А это что такое?
– Самоконтроль. Иначе именуемый Контролем над Судьбой.
– Вы можете контролировать свои судьбы? – Брови Уилла резко взлетели вверх.
– Нет-нет, не торопитесь с выводами, – сказала она. – Мы не так глупы, как вам, возможно, сейчас показалось. Нам прекрасно известно, что лишь малая часть судьбы каждого человека поддается управлению.
– И вы управляете ею, нажимая на собственные кнопки?
– Нажимая на кнопки, а потом визуализируя то, к чему мы стремимся, чего хотим достичь.
– И в самом деле достигаете?
– Да, во многих случаях.
– Как все просто! – В его голосе отчетливо звучала ирония.
– Восхитительно просто, – согласилась она. – И насколько я знаю, мы – единственный народ, который систематически обучает детей С. К. Вы всего лишь говорите им, что они должны делать, и на этом заканчиваете. Ведите себя хорошо, говорите вы. Но как? Этого им никто не объясняет. Вы только и можете, что читать им нотации, а потом наказывать за непослушание. Чистейший идиотизм.
– Чистейший и неподдельный идиотизм, – кивнул он, вспомнив мистера Грэбба, заведовавшего пансионом в интернате, проблему мастурбации, порки лозой и покаянные молитвы в Пепельную среду[38]. «Вечно проклят будет тот, кто возляжет с женой ближнего своего. Аминь».
– Если ваши дети воспринимают идиотизм всерьез, то вырастают с вечным чувством своей вины и греховности. А если не воспринимают, то становятся циниками, для которых счастье невозможно. Именно из подобных циников вербуют сторонников паписты и марксисты. Неудивительно после этого, что вам требуется столько тюрем, церквей и партийных ячеек коммунистов.
– В то время как, легко догадаться, на Пале у вас этого почти нет.
Сузила с готовностью кивнула.
– У нас нет Алькатраса, – сказала она, – нет Билли Грэма, нет ни Мао Цзэдуна, ни Мадонны, ни Фатимы. Нет ада на Земле, как и манящего райского пирога в небесах или коммунистического рая в двадцать первом веке. А есть только мужчины, женщины и их дети, которые стараются сделать свою жизнь как можно лучше здесь и сейчас, вместо того чтобы мечтать построить ее где-то еще и когда-нибудь в будущем, как того желают многие у вас – в каком-то придуманном, несуществующем мире. Но если разобраться, в том нет вашей вины. Вы попросту вынуждены жить так, потому что настоящее приносит одни огорчения. А разочарование возникает оттого, что вас никто не научил объединению теории с практикой и не заставляет всерьез исполнять обещания, которые вы даете себе под каждый Новый год. Отсюда разрыв между намеченным и вашим реальным поведением.
– «Хочу творить добро и не могу, не хочу творить зла, но творю», – процитировал Уилл.
– Кто это сказал?
– Один из основателей христианства – святой Павел.
– Вот видите, стремление к высочайшим идеалам и отсутствие метода достижения их.
– За исключением мечты, что их сверхъестественным образом осуществит Некто Другой.
И, запрокинув голову, Уилл Фарнаби, запел:
Есть фонтан, откуда бьет Кровь из вен Эммануила. Греховодник лишь нырнет – Все грехи считай что смыл он.
Сузила заткнула уши.
– Какая неслыханная гадость, – сказала она.
– Любимейший из псалмов моего наставника в интернате, – объяснил Уилл. – Нас заставляли распевать его примерно раз в неделю все то время, пока я учился в школе.
– Какое счастье, что в буддизме нет ничего кровавого. Гаутама дожил до восьмидесяти лет и умер, потому что вежливость не позволила ему отказаться от дурной пищи. Насильственная смерть всегда влечет за собой другую насильственную смерть. «Если ты не поверишь, что будешь спасен моей искупительной кровью, я утоплю тебя в твоей собственной». В прошлом году я изучала в Шивапураме историю христианства. – Сузила при этом воспоминании содрогнулась всем телом. – Какой ужас! А все потому, что тот бедный и невежественный человек не знал, как осуществить свои добрые намерения.
– Причем большинство из нас, – сказал Уилл, – продолжают плыть по течению. Не хотим творить зло, но творим. И еще как!
И, реагируя непростительным образом на непростительные поступки, Уилл Фарнаби с отвращением рассмеялся. Рассмеялся потому, что знал доброту Молли, но тем не менее вполне сознательно избрал розовый альков, сделав Молли глубоко несчастной, послужив причиной ее гибели, вызвав в себе гнетущее чувство вины, а потом и боли. Мучительной боли, которая совершенно не соответствовала низкопробному фарсу, ставшему ее причиной, когда Бабз сделала то, что мог заранее предсказать любой недоумок, – вышвырнула Уилла из своего инфернального, подсвеченного рекламой джина рая и завела нового любовника.
– Что с вами? – спросила Сузила.
– Ничего. А почему вы спрашиваете?
– Потому что вы совершенно не умеете скрывать своих чувств. Вы думали о чем-то, что сделало вас очень несчастливым.
– Вы весьма проницательны, – сказал он и отвел глаза.
Наступило долгое молчание. Должен ли он все ей выложить? Поведать историю о Бабз, о бедняжке Молли, о себе самом? Рассказать обо всем том гнусном и бессмысленном, о чем даже в пьяном виде никогда не рассказывал своим лучшим друзьям? Потому что друзья и так слишком много знали о нем, как и об остальных действующих лицах. О гротескной и сложной игре, в которой он всегда так охотно принимал участие (он – то есть не просто английский джентльмен, но и представитель богемы, потенциальный поэт, который, в отчаянии осознав, что хорошего поэта из него не выйдет, стал блестящим журналистом и щедро оплачиваемым частным агентом богатого человека, презираемого им). Нет, даже перед самыми надежными друзьями он бы до такой степени не раскрылся. Но вот эта маленькая смуглая незнакомка, чужестранка, которой он уже был обязан столь многим, кому, практически ничего не зная о ней, так доверился, не станет выступать с предвзятыми умозаключениями и с односторонними суждениями. А быть может, подумал он с надеждой (хотя давно и тщательно отучал себя от всяких надежд), откроет ему путь к неожиданному озарению, окажет действенную, сугубо практическую помощь. (А, видит Бог, он нуждался в помощи, хотя никогда и ни за что не признал бы этого вслух – о чем Богу тоже было прекрасно известно!)
Как муэдзин с минарета, одна из говорящих птиц затянула свое с верхушки высокой пальмы, росшей позади рощицы манго:
– Здесь и сейчас, парни. Здесь и сейчас, парни.
Уилл решился на полную откровенность с ней, но начал не бросившись в омут с головой, а окольным путем, заговорив сначала не о своих проблемах, а о ее. Не глядя на Сузилу (он почему-то решил, что так будет пристойнее), он сказал:
– Доктор Макфэйл сообщил мне о том… О том, что произошло с вашим мужем.
Слова словно провернули меч, вонзенный в ее сердце, но этого следовало ожидать как чего-то неизбежного и потому вполне нормального.
– В следующую среду исполнится уже четыре месяца, – сказала она, а потом добавила задумчиво: – Двое людей, две совершенно разные индивидуальности, но они сложились вместе, и получился как будто новый единый организм. А потом половину этого организма внезапно ампутировали. Но только вторая половина не умирает, не может умереть, не должна.
– Не должна?
– По многим причинам. Дети – только одна из них. Такова природа вещей. Но нужно ли объяснять, – добавила она с легкой улыбкой, которая только подчеркнула глубину печали в ее глазах, – что все эти причины нисколько не облегчают шока от ампутации или не делают более терпимой боль. Единственное, что хоть немного помогает, – это как раз то, о чем мы только что говорили: Контроль над Судьбой. Но даже он… – Она вздохнула. – К. С. может дать тебе возможность совершенно безболезненно родить ребенка. Но сделать тебя нечувствительной к горю – нет. И разумеется, так и должно быть. Если бы человек мог снять с себя боль утраты – это сделало бы его неполноценным человеком.
«Неполноценным человеком, – подумал он. – Неполноценным человеком».
Эти два емких слова. Насколько же полно суммировали они его собственную сущность!
– Но самое ужасное, – сказал он вслух, – это знать, что другой человек погиб по твоей вине.
– Вы были женаты? – спросила она.
– Двенадцать лет. До прошлой весны…
– И как она умерла?
– Она разбилась в автокатастрофе.
– В автокатастрофе? Тогда как это могло быть вашей виной?
– Авария произошла, потому что… Словом, в результате зла, которого я не хотел сотворить, но сотворил. В тот день случилась развязка. Душевная рана привела ее в смятение, сделала рассеянной, а я позволил ей сесть за руль. Позволил уехать навстречу лобовому столкновению.
– Вы любили ее?
Он некоторое время колебался. Потом медленно помотал головой.
– У вас был кто-то другой? Кто-то, кто был вам более дорог?
– Был кто-то, кем на самом деле я не дорожил совершенно. – Он изобразил гримасу сардонической издевки над самим собой.
– И это было зло, которого вы не хотели, но сотворили?
– Да, я творил зло до тех пор, пока не убил женщину, которую должен был бы любить, но не любил. Продолжал творить даже после того, как убил ее, хотя сам себя ненавидел за это. Но еще больше я ненавидел ту, кто заставила меня сделать это.
– Заставила сделать это, как предполагаю, потому что обладала притягательным для вас телом?
Уилл кивнул, и они снова замолчали.
– Вы знаете, как это бывает, – спросил он после долгой паузы, – когда чувствуешь, что на самом деле нет ничего реального – включая тебя самого?
Сузила кивнула.
– Но иногда это происходит как раз тогда, когда человек понимает, что все, включая его самого, куда как более реально, чем ему представлялось. Это похоже на переключение передач: нужно перейти на нейтральную, чтобы включить повышенную.
– Или пониженную, – сказал Уилл. – В моем случае я не повысил передачу, а понизил ее. Даже не понизил, а врубил задний ход. Впервые это произошло, когда я ждал автобуса, чтобы отправиться домой с Флит-стрит[39]. Тысячи и тысячи людей окружали меня, все куда-то спешили, каждый был уникален, каждый представлялся себе центром вселенной. Потом из-за туч показалось солнце. Все предстало в необычайно ярком и ясном свете. И вдруг с почти слышным щелчком все эти люди превратились в личинок.
– Личинок?
– Да, в таких мелких белых червячков с черными головками, которые обычно заводятся в протухшем мясе. На самом деле ничего, конечно же, не случилось. Лица людей оставались все такими же, прежней была их одежда. Но в то же время они стали червяками. И даже не реальными червяками, а их призраками, иллюзией личинок мясной мухи. А я сам был лишь иллюзией наблюдателя за личинками. Я жил потом многие месяцы в мире червей. Жил в нем, работал в нем, ходил обедать и ужинать, и все это без малейшего интереса к тому, чем я занимался. Без намека на удовольствие или радость жизни, абсолютно лишенный желаний, а потом, когда попытался заняться любовью с молодой женщиной, с которой в прошлом иногда развлекался, понял, что стал полнейшим импотентом.
– А чего вы ожидали?
– Именно этого.
– Тогда что же, скажите, ради бога, зачем…
Уилл улыбнулся ей одной из своих самых застенчивых улыбок и пожал плечами:
– Из чисто научного интереса. Я уподобился энтомологу, изучавшему способ размножения или, если хотите, половую жизнь фантомного червя.
– После чего, как я догадываюсь, все стало казаться еще более нереальным?
– Да, еще более, – подтвердил он, – если такое было возможно.
– Но что стало изначальной причиной появления личинок? Что породило их?
– Началось, видимо, с того, – ответил он, – что я был все-таки сыном своих родителей. Пьяницы-грубияна и христианки-мученицы. А помимо наследия, полученного от родителей, – продолжил он после краткой паузы, – я еще был и племянником своей тетушки Мэри.
– А какую роль в этом сыграла тетушка Мэри?
– Ее одну я по-настоящему когда-либо любил, но мне исполнилось только шестнадцать, когда у нее обнаружили рак. И она лишилась правой груди. Прошел всего год, и она осталась без левой тоже. После этого девять месяцев рентгеновского облучения и чрезмерная доза радиации. А рак между тем проник в печень, и это означало конец. Я оставался с ней тогда все время. Для подростка это было, видимо, то самое либеральное обучение – действительно либеральное!
– Обучение чему?
– Элементарной Прикладной Бессмыслице. А всего через неделю, как я прошел свой личный курс этой науки, начались всеобщие занятия ею. Вторая мировая война. За которой незамедлительно последовала программа повышения квалификации в виде первой «холодной войны». Я же все это время провел в стремлении стать поэтом и постепенном осознании, что попросту лишен необходимых для этого качеств. Потом, уже после войны, мне пришлось заняться журналистикой ради заработка. На самом деле я готов был жить впроголодь, если необходимо, но писать нечто достойное – хорошую прозу, если настоящей поэзии не получалось. Но в будущих планах я не учел своих дражайших родителей. К тому времени, когда в январе сорок шестого мой отец умер, он успел промотать те небольшие сбережения, которые унаследовала наша семья, и так вышло, что к моменту долгожданного и благословенного вдовства мою мать окончательно изуродовал артрит – она нуждалась в материальной поддержке. Вот так я оказался на Флит-стрит, материально поддерживая ее с такой легкостью, с таким успехом, что это стало бесконечно унизительным.
– Почему же унизительным?
– А вы бы не чувствовали себя униженной, зарабатывая приличные деньги на самых дешевых, самых поверхностных, самых бездарных текстах? Я добился успеха именно потому, что оказался такой явной и неисправимой посредственностью.
– И в чистом остатке получили окружение из червяков?
Он кивнул:
– Не простых червяков – призрачных. И здесь наступает момент, когда в моем рассказе пора появиться Молли. Я познакомился с ней на великосветской червячной вечеринке в Блумсбери. Нас представили друг другу, мы вежливо, но банально побеседовали о беспредметном искусстве. Не желая видеть перед собой еще одну личинку, я избегал смотреть на нее, но она, должно быть, все время смотрела на меня. У Молли были очень бледного оттенка серо-голубые глаза, – добавил он как бы в скобках, – но глаза, которые видели все. Она отличалась поразительной наблюдательностью, но наблюдала все и вся без тени предвзятости или осуждения. Если она видела зло, то не спешила предавать его анафеме, а просто ощущала огромную жалость к человеку, которого одолевали подобные мысли или что-то заставляло совершать дурные поступки. Так вот, как я уже сказал, она, вероятно, смотрела на меня все то время, пока я с ней разговаривал, потому что совершенно внезапно спросила, отчего я такой грустный. Я к тому времени успел изрядно выпить, а ее вопрос не казался назойливым или неуместным, и потому я рассказал ей о червяках. «Вы – тоже один из них, – закончил я и впервые бросил на нее взгляд. – Голубоглазая личинка с лицом одной из тех святых женщин, что обычно окружают распятого Христа на картинах фламандских живописцев».
– Неужели ей польстило такое сравнение?
– Мне показалось, что да. Она отошла от католической религии, но все еще питала слабость к распятию и святым женщинам. Как бы то ни было, но на следующее утро, когда я завтракал, она мне позвонила. Не хочу ли я поехать вместе с ней за город? Было воскресенье, и, чудесным образом, день выдался ясный. Я согласился. Мы провели час в зарослях орешника, собирая примулы и любуясь анемонами. Анемоны никто не собирает, – объяснил он, – потому что они уже через час вянут. Я тогда много смотрел то на орешник, то на цветы. Сначала невооруженным глазом, а потом через увеличительное стекло, которое захватила с собой Молли. Не знаю почему, но это возымело на меня изумительное терапевтическое воздействие – просто разглядывать сердцевины примул и анемонов. До конца дня я больше не встретил ни одного червяка. Но Флит-стрит оставалась на своем месте, дожидаясь меня, и к обеду в понедельник она вся кишела ими, как всегда. Миллионами личинок. Но теперь я знал, что мне делать. В тот же вечер я отправился в мастерскую Молли.
– Она была художницей?
– Нет, настоящей художницы из нее не вышло, и она понимала это. Понимала, но не раздражалась, а просто делала все как можно лучше для человека, обделенного талантом. Она писала не ради создания произведения искусства. Ей нравилось смотреть на вещи, и сам процесс попытки тщательно воспроизвести увиденное тоже нравился. В тот вечер она снабдила меня холстом и палитрой, посоветовав тоже попробовать.
– И это сработало?
– Сработало так хорошо, что, когда через пару месяцев я разрезал подгнившее яблоко, червяк в его центре оказался не трупной личинкой, формально оставаясь червяком. Объективно говоря, он обладал всеми качествами червя, и мы оба его так и изобразили – нам всегда нравилось писать одно и то же.
– Да, но что происходило с другими личинками, с фантомными червями, а не с паразитом в яблоке?
– Со мной все еще случались рецидивы видений, особенно на Флит-стрит и на приемах с коктейлями, но их стало определенно меньше, и они больше не преследовали меня так настойчиво и пугающе. А тем временем в мастерской началось нечто новое. Я заметил, что влюбляюсь – влюбляюсь, потому что любовь заразительна, а Молли, совершенно очевидно, уже по уши влюбилась в меня. Чем я ее так привлек? Одному Богу известно.
– Даже я вижу несколько вероятных причин для этого. Она могла полюбить вас потому… – Сузила оценивающе посмотрела на него и улыбнулась. – Просто потому, что вы довольно привлекательны для столь странной породы рыб, к которой принадлежите.
Он рассмеялся.
– Вот уж спасибо за роскошный комплимент!
– Но с другой стороны, – продолжала Сузила, – и здесь уже нет ничего для вас лестного, она могла влюбиться в вас, поскольку чувствовала к вам несусветную жалость.
– Боюсь, что вторая версия ближе к истине. Молли была прирожденной Сестрой Милосердия.
– Но вот только Сестра Милосердия и Жена-Любовница – это далеко не одно и то же.
– Что я и испытал на собственной шкуре, – сказал он.
– После того как женились на ней, полагаю?
Уилл секунду колебался с ответом.
– Вообще-то, – ответил он, – это произошло даже раньше. Но не потому, что она проявляла какое-либо нетерпение в своих желаниях, а всецело из-за ее стремления сделать все возможное, чтобы угодить мне. Потому что на словах она в принципе не верила в прочность уз брака и всегда выступала за свободную любовь, а что еще более удивительно, – вспомнил он совершенно невероятные вещи, которые Молли не моргнув глазом могла произносить даже в присутствии его матери, – обожала обсуждать эту самую свободную любовь. Тут я должен был насторожиться.
– То есть вы все заранее знали, – подвела итог Сузила, – но все же женились на ней?
Уилл ничего не сказал, а лишь кивнул в ответ.
– Потому что как джентльмен чувствовали себя обязанным жениться, верно?
– Да, отчасти по этой старомодной причине, но и потому, что влюбился в нее.
– Так вы все-таки ее полюбили?
– Да. Нет. Не знаю. Но в то время я действительно знал. Или мне так казалось. Я убедил себя, что в самом деле люблю ее. Хотя я понимал, как понимаю и сейчас, в чем заключалась причина подобной убежденности. Я был благодарен ей за изгнание червей из моей жизни. А к благодарности примешивалось уважение. И восхищение. Она была настолько лучше и честнее меня самого. Но к несчастью, вы правы: Сестра Милосердия не равноценна Жене-Любовнице. Вот только я готов был принимать Молли такой, какой она была. На ее условиях, а не на моих собственных. Мне тогда легко верилось, что ее условия намного предпочтительнее моих.
– И как скоро, – поинтересовалась Сузила после продолжительного молчания, – вы начали заводить интрижки на стороне?
Уилл снова улыбнулся пристыженной улыбкой.
– День в день ровно через три месяца после свадьбы. Впервые я согрешил с одной из секретарш в редакции. Боже, какое занудство! А потом появилась юная художница, маленькая кудрявая еврейка, которой Молли помогала деньгами, пока она училась в школе изобразительного искусства Слейда. Я навещал ее в мастерской дважды в неделю с пяти до семи. Молли узнала об этом только почти через три года.
– И, как нетрудно догадаться, была очень огорчена, не так ли?
– Значительно сильнее, чем я мог себе даже вообразить.
– И что же вы сделали по этому поводу?
Уилл тряхнул головой.
– С этого места все начинает усложняться, – сказал он. – В мои планы не входило прекращать свои визиты на коктейли к Рейчел, но я ненавидел себя за то, что приношу Молли столько горя. Но в то же время я ненавидел и ее за такую острую реакцию на все. За неизбывную печаль. У меня вызывали отторжение ее страдания и любовь, которая была причиной страданий. Мне представлялось это несправедливым. Чем-то вроде шантажа, чтобы принудить меня отказаться от несерьезных и почти невинных любовных утех с Рейчел. Но своей безмерной любовью и безысходным горем из-за того, что я делал – хотя она сама толкала меня на это, – Молли невыносимо давила на меня, хотела ограничить мою свободу. Но и печаль ее была неподдельной, а потому, даже ненавидя ее за шантаж, я не мог не испытывать к ней жалости. Но только жалости, – подчеркнул он, – а не сострадания. Потому что сострадание подразумевает совместную муку, а я любой ценой желал избавить себя от всякой боли и мук, причиняемых мне ее страданиями, избежать тех жертв, которые были необходимы с моей стороны, чтобы ее мучения прекратились. Жалость стала моим ей ответом. Я жалел ее как бы со стороны, если вы понимаете смысл моих слов, жалел, играя роль независимого наблюдателя, эдакого эстета, знатока любовных пыток. Причем моя эстетская жалость принимала такие интенсивные формы каждый раз, когда я начинал думать о том, как она несчастна, что порой я мог даже счесть это почти признаком моей к ней любви. Но только почти. Потому что когда я пытался выразить свою жалость физической нежностью (а мне приходилось прибегать к этому единственному способу, чтобы хотя бы на время притупить ее боль, а значит, – и расстройство чувств, в которое приводила ее боль меня самого), то нежность оборачивалась разочарованием намного раньше, чем достигала желаемого результата. И разочарование наступало именно в силу того, что она на самом деле была для меня Сестрой Милосердия, а не настоящей женой. И все же во всех проявлениях, кроме чувственного, она преданно любила меня – и эта преданность взывала к ответной верности с моей стороны. Но я не желал слышать этот зов. Быть может, я попросту в силу своей натуры не способен на преданность. И потому вместо благодарности за ее самоотверженность я испытывал чувство отвращения. Таким путем кто-то заявлял свое право на исключительное обладание мной, а я подобные посягательства заведомо и решительно отвергал. Вот так мы и жили, постоянно на грани кризиса, непрерывно возвращаясь к началу старой, как мир, драмы – драмы любви, неспособной к чувственности, и чувственности без любви, что вызывало странную смесь реакций: вины и гнева, жалости и отвращения, порой истинной ненависти (но всегда с налетом раскаяния), и все это сопровождалось – хотя всего лишь контрапунктом – моими тайными вечерами наедине с маленькой кудрявой художницей.
– Надеюсь, хотя бы они приносили удовольствие? – полюбопытствовала Сузила.
Он пожал плечами:
– Лишь весьма умеренное. Рейчел никак не могла забыть, что она – интеллектуалка. У нее была манера в самый неподходящий момент вдруг спросить, что ты думал о Пьеро ди Козимо. Подлинного наслаждения, как, разумеется, и настоящей агонии я ни разу не испытал до того, как на сцене появилась Бабз.
– Когда это произошло?
– Чуть больше года назад. В Африке.
– В Африке?
– Меня послал туда Джо Альдегид.
– Тот человек, которому принадлежат газеты?
– И многое другое. Он был женат на Эйлин – тетушке Молли. Могу добавить: это образцовый семьянин! Вот почему он так непоколебимо убежден в своей правоте, даже когда занимается самыми постыдными финансовыми махинациями.
– А вы на него работаете?
Уилл кивнул:
– Это был свадебный подарок Джо для Молли – он пристроил меня в одну из своих газет за жалованье, которое в два раза превышало то, что я получал у предыдущего работодателя. По-королевски! Но и то правда – он очень любил Молли.
– Тогда как он реагировал на Бабз?
– О ней он так и не узнал. Даже не подозревал, что Молли попала в аварию не без причины.
– Значит, он продолжает давать вам работу ради памяти вашей покойной жены?
Уилл передернул плечами.
– Меня извиняет то, – сказал он, – что я должен материально поддерживать больную мать.
– И само собой, вам не нравится идея снова стать бедным.
– Само собой.
Они помолчали.
– Давайте вернемся в Африку, – предложила под конец паузы Сузила.
– Меня командировали туда для написания серии статей о негритянском национализме. Не говоря уже о нескольких мелких и щекотливых деловых поручениях Дяди Джо. И когда я сел в самолет из Найроби, чтобы вернуться домой, она занимала соседнее кресло.
– Так вы оказались рядом с той женщиной, у которой было меньше всего шансов вам понравиться?
– Она теоретически не могла мне ни нравиться, ни быть даже симпатичной, – подтвердил он. – Но если вы наркоман, то вам не обойтись без зелья – хотя вы заранее знаете, что оно станет причиной вашей гибели.
– Занятно, но на Пале у нас почти нет наркоманов, – задумчиво сказала она.
– Даже тех, для кого наркотик – секс?
– Для сексуальных наркоманов наркотиком служат люди. Другими словами, это попросту любвеобильные персоны.
– Но даже любовники порой ненавидят людей, которых любят.
– Естественно. Потому что тот факт, что у меня всегда одно и то же имя, те же глаза, тот же рот, не делает меня все время одной и той же женщиной. Признание этого факта и умение разумно реагировать на него – важная часть Искусства Любви.
Как можно более сжато он рассказал ей последнюю часть своей истории. В основе своей это была та же история даже с появлением на сцене Бабз, но только все значительно усугубилось. Бабз оказалась той же Рейчел, но наделенной большей властью, если можно так выразиться, возведенной в квадрат или даже в энную, значительно более высокую степень. Поэтому горе, которое он приносил Молли из-за Бабз, возросло в той же пропорции, оказалось куда как значительнее, чем любые страдания, связанные с Рейчел. И в той же степени увеличилось его собственное озлобление, чувство досады и гнева, которые вызывал шантаж со стороны Молли своей любовью и душевными муками, его раскаяние и жалость, его решимость вопреки раскаянию и жалости получать то, чего ему хотелось, то, за вожделение к чему он сам себя ненавидел, но категорически отказывался отвергнуть. Бабз же между тем становилась все требовательнее, занимала все больше и больше его времени. Причем не только в клубнично-розовом алькове, но и вне его: в ресторанах, в ночных клубах, на вечеринках у ее омерзительных друзей, в поездках на уик-энды за город. «Только ты и я, милый, – говорила она, – одни лишь мы вместе». Эти моменты уединения и изоляции давали ему возможность ненадолго забыть всю глубину ее пустоголовой вульгарности. Но его вожделение оказывалось сильнее любой скуки и банальности отношений, моральной и интеллектуальной чужеродности Бабз. И после очередного жуткого уик-энда он оставался столь же безнадежно привязан к Бабз и зависим от нее, как и прежде. А Молли, со своей стороны, не изменяла роли Сестры Милосердия и, несмотря ни на что, не могла избавиться от безнадежной зависимости от Уилла Фарнаби. Впрочем, безнадежной только для него – потому что его единственным желанием было, чтобы она перестала так сильно любить его и позволила спокойно отправиться в ад. А что касалось Молли, то ее привязанность к нему неизменно подкреплялась оптимистическими ожиданиями и надеждами. Она не переставала жить предчувствием чудесной трансформации, которая бы превратила его в того доброго, менее эгоистичного и любящего Уилла Фарнаби, каким, по ее упрямому мнению (несмотря на горькую реальность и бесконечные разочарования), он и был в своей истинной ипостаси. И только во время того фатального последнего разговора, только когда (наступив на горло жалости и дав волю злости на моральный шантаж с ее стороны) он объявил о своем намерении уйти от нее и переехать к Бабз, только тогда надежда окончательно уступила место безнадежности. «Ты это серьезно, Уилл? Ты и в самом деле собираешься так поступить?» – «Да, собираюсь». И с этим чувством безнадежности она направилась к своей машине, с этой безнадежностью уехала в пелену дождя – навстречу смерти. На похоронах, когда гроб опускали в могилу, он дал себе слово никогда больше не встречаться с Бабз. Никогда, никогда, никогда больше. Но тем же вечером, когда он сидел дома за письменным столом, стараясь сосредоточиться на статье «В чем проблемы нашей молодежи», пытаясь не вспоминать больницу, разверзшуюся могилу и собственную вину в том, что произошло, его заставил вздрогнуть резкий звук дверного звонка. Кто-то, видимо, прислал телеграмму с запоздалыми соболезнованиями… Он открыл, но на пороге увидел не почтальона, а Бабз, патетически не наложившую на лицо косметики и одетую во все черное.
«Мой бедный, бедный Уилл!»
Они сели на диван в гостиной. Она гладила его по голове. Оба плакали. А через час лежали в постели нагие. Три месяца спустя, что мог предвидеть последний недоумок, Бабз начала уставать от него. Прошло четыре месяца, и она познакомилась на каком-то коктейле с абсолютно восхитительным мужчиной из Кении. Одно потянуло за собой другое, и через три дня Бабз пришла домой, чтобы подготовить альков для нового обитателя и предупредить прежнего, что скоро ему освобождать место. «Ты это серьезно, Бабз? Ты и в самом деле собираешься так поступить?»
Да, она собиралась так поступить…
За окном послышался треск веток кустов, и мгновением позже раздался ужасно громкий, но странно немелодичный крик говорящей птицы:
– Здесь и сейчас, парни.
– Заткнись! – заорал Уилл в ответ.
– Здесь и сейчас, парни, – твердила майна. – Здесь и сейчас, парни. Здесь…
– Заткнись!
Воцарилась тишина.
– Мне пришлось заставить ее замолчать, – объяснил Уилл, – потому что, конечно же, она совершенно права. Здесь, парни; сейчас, парни. А там и тогда не имеют никакого значения. Или все не так? Как, к примеру, воспринимать смерть вашего мужа? Она тоже не имеет значения?
Сузила некоторое время молча смотрела на него, а потом медленно кивнула:
– В контексте того, чем я должна заниматься сейчас, – да, она не имеет никакого значения! Это то, чему мне пришлось научиться.
– Разве можно научиться забывать?
– Здесь дело не в том, чтобы все забыть. Учиться следует тому, как помнить, но не сгибаться под грузом прошлого. Как оставаться там, вместе с мертвыми, но одновременно быть здесь, в этом месте, рядом с живыми. – Она с грустью улыбнулась ему. – Это нелегко.
– Это нелегко, – повторил Уилл, и внезапно все его защитные стены рухнули, вся его гордость улетучилась. – Вы мне поможете? – спросил он.
– Договорились, – ответила она и протянула ему руку.
Приближавшиеся шаги заставили их обоих повернуть головы. В комнату вошел доктор Макфэйл.
38
Первый день Великого поста у англиканцев.
39
Улица в Лондоне, где примерно до начала 1990-х годов располагались редакции всех ведущих британских газет.