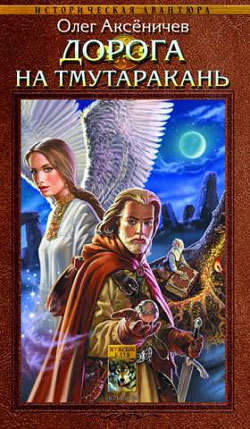Читать книгу Дорога на Тмутаракань - Олег Аксеничев - Страница 2
1. Дорога к Каяле
1—7 мая 1185 года
ОглавлениеРассвело, словно не вечер был, а утро. Всадники, сгрудившиеся на переправе через Малый Донец, не торопились вести коней в воду. Ждали князя Игоря, словно он был способен защитить от страшного знамения в небесах или, по меньшей мере, раздвинуть воды, подобно Моисею. Только несколько черниговских ковуев, подчиняясь повелительному жесту Ольстина Олексича, перебрались, растревожив неспешное течение реки, на другой берег и отправились на разведку.
Солнце, едва не погибшее только что, оставалось у сторожи за правым плечом, там, где христианин мечтает увидеть своего ангела-хранителя, а язычник – нить судьбы, нерушимо связывающую его с миром богов.
Солнце разгоралось, как угли в не до конца затушенном кострище.
Игорь Святославич подъехал к дружине в окружении напуганных, а оттого еще больше настороженных гридней. Последним, уже за линией охраны, двигался Миронег, опустивший взгляд к луке седла.
Перед князем Игорем всадники расступались, очищая дорогу, и вскоре он оказался в центре полукруга, человеку суеверному напомнившего бы серп зловещего солнечного затмения.
– Видели? – спросил князь Игорь так тихо, что многие и не расслышали его. – Видели знамение?.. Понимаете, что оно значит?..
– Князь! – ответил кто-то из дружинников. – Не на добро знамение это!
– Братья и дружина! – сказал князь Игорь, и голос его окреп, зазвучал мощно, как во время боя. – Тайны Божьи известны немногим, а знамению этому Творец тот же, что и всему нашему миру. Что сотворено Богом – на добро нам или на зло, – ему ведомо, не нам! Что делать теперь будем, ответьте?!
– Не наше время для похода, князь, – загомонили дружинники и бояре.
Игорь Святославич взглянул на сына, князя путивльского Владимира. Тот сидел, выпрямившись в седле, как суслик на пригорке, и лицо юноши окаменело. В камне этом высечена была непреклонная решимость продолжать задуманное.
– Возвратиться прикажете? – спросил Игорь, оглядывая ряды дружинников. – Не то что копья не преломив с неведомым противником, но даже не увидев его? Не проведав, есть ли он вообще?
Глухой ропот был ответом князю. Воины понимали, что бесславное возвращение станет пятном трусости, которое не отмоешь всей последующей жизнью.
Трусом быть – страшно!
Но не ужасней ли пойти против воли богов?
– Если не бившись возвратиться, то срам будет пуще смерти, – продолжил князь Игорь. – А что касается божественной воли… Она высказана, спору нет! Только кто осмелится истолковать сказанное нам Божественным Создателем? И нам ли? Представьте, сколько людей видели знамение! Что же – оно всем сулит несчастье?!
Молчали воины, и князь Игорь не мог, хоть и пытался, разглядеть выражение глаз, скрытых за низко надвинутыми краями шлемов.
– Держать не могу, приказывать – тем более, – говорил Игорь Святославич склоненным шлемам, ладоням, ласкающим рукояти мечей и сабель, кольчужным перчаткам, пленившим черенки копий.
Говорил тому, что видел, потому что обязан был это сказать. Имеющий уши – да услышит! А имеющий душу – поймет и поддержит…
– Судьба так повернется – преломлю копье на краю поля Половецкого! – говорил князь Игорь. – С вами, сыны русские, или без вас голову сложить на Дону Великом придется или шеломом испить из реки!
Молчали мечи и шлемы. Молчала дружина.
– Как Бог даст, отец! – воскликнул князь путивльский Владимир и подвел коня ближе к Игорю Святославичу.
– Как Бог даст, – эхом откликнулся князь рыльский и тоже тронул поводья.
Медленно, неспешным шагом, как победители на ристалище, князья направились к броду. Дружинники расступались, и полумесяц распался на две неравные части, словно разрубленный невидимым клинком.
Только всплеск воды и храп лошадей нарушали вечернюю тишину.
Затем все громче стал слышаться металлический лязг. Это дружинники потянулись следом за своими князьями, решившись до конца разделить уготованную им судьбу. Срам страшнее смерти!
Вскоре русский берег Малого Донца опустел, и лишь следы кованых копыт выдавали недавнее присутствие войска.
Среди последних через реку переправился Миронег, все еще не поднимавший головы. Словно боялся взглянуть на солнце.
Только зачем же сразу предполагать худшее? Воин не должен бояться.
Но Миронег – не воин.
* * *
Весна выдалась жаркой, как никогда. Степь высохла, и зеленую траву можно было увидеть только на тенистых склонах оврагов и в редких березовых рощицах. Высохла и земля, копыта коней поднимали густые клубы пыли, кутавшие русских дружинников подобно погребальному савану.
Шли по ночам, выбирая утром удобное место стоянки, сторожи заранее выискивали безопасные урочища, близкие к источникам воды. К полудню под тенью деревьев, а то и просто в чистом поле вырастали походные шатры русского войска, окруженные по укоренившейся степной традиции сцепленными повозками обоза. И только боевые разъезды, подчиняясь приказу, вынуждены были терпеть дневной жар на открытом пространстве. Сталь кольчуг, казалось, обжигала даже через войлочную подкладку, не спасали и тюрбаны, намотанные поверх шлемов для предохранения от солнечного удара.
Миронег ехал без доспехов. Уступками предосторожности стали кожаная безрукавка, одетая на голое тело под кафтан, и аварской работы шлем с деревянной основой, не так сильно давивший на голову. Шлем, разумеется, прятался от солнца под большим, серым от пыли тюрбаном.
Лекарь замечал, как в последние дни его стал сторониться князь Игорь, единственный, кто раньше удостаивал не просто словом – беседой. Дружинники избегали лекаря, считая вслед за христианскими священниками, что все в руках Божьих и пытаться изменить Господний промысел самонадеянно, самое малое. Правда, Миронег знал и другое. После сечи раненые звали сначала мать, а затем лекаря. Только чернецы-монахи стремятся ускорить встречу с Создателем, да и то, как думал лекарь, только на словах.
Миронег держался на небольшом расстоянии от основного войска, между большей частью дружинников и боевым охранением.
Однажды его уединение оказалось нарушенным.
Уже не первый день неподалеку от Миронега кружил незнакомец в странных одеждах, похожих на ромейские, но тем не менее иных по покрою. Незнакомец был явным чужаком в свадебном кортеже Владимира Путивльского.
Когда темнело, дружинники, ехавшие в голове войска или на флангах, зажигали факелы, чтобы уверенно разбирать дорогу. Остальные ориентировались на огни, стараясь не забирать от них в сторону.
Свет в степи виден издалека, но это особо никого не тревожило. Половецкие следопыты по гулу земли, протестующей против жестоких ударов подкованных копыт, все равно узнают о приближении войска еще раньше. По степи звук идет быстрее света, это вам не физика, дорогие мои!
– Здесь страшные ночи, – сказал незнакомец, подъехав поближе к Миронегу. – Я чувствую свою полную беззащитность.
Незнакомец замолчал. Лекарь понимал, что тот выжидает, ответит ли собеседник или нет. Молчание в разговоре – лучшая оценка собеседника. Молчат, когда хотят выслушать, и молчат, когда не хотят говорить.
– Привыкли к стенам? – решил поддержать разговор Миронег.
– Стены бывают разными, – ответил незнакомец. – На моей родине, в Болгарии, взгляду всегда есть за что зацепиться. Там – линия не такого уж далекого леса, там – вершина горы или холма, там – изгородь вокруг поля или крестьянской хижины. Здесь же – плоскость! Если земля – дом для нас, то в этом здании строители позабыли возвести стены.
– Таков взгляд горожанина, – заметил Миронег. – Здесь, в степи, кочевникам не требуются стены. Стена отделяет человека от окружающего мира, а степняк чувствует себя частью Поля. Вы же не станете огораживать, скажем, свою голову от тела?
– Возможно, это действительно выше моего понимания, – не стал спорить незнакомец. – Я воспринимаю разумом ваши доводы, но познать их душой – увы, не могу!
– Я не видел вас раньше, – сказал Миронег. – Кто вы? Я понял по вашим словам, что вы подданный ромейского кесаря?
– Болгары никогда не станут подданными ромеев, – несколько громче, чем раньше, сказал незнакомец. – У нас еще будет свой царь!
– Не смею спорить, – мягко произнес Миронег. – Я – Миронег, лекарь.
– Богумил, – ответил незнакомец. – Паломник.
– Вот как? Куда же, если не секрет, вы направляетесь? Не припомню, чтобы в этих местах объявлялись христианские святыни. Или же вы нехристианин? Рассказывают, что у вас в Болгарии много поклонников иной веры.
– Вера может быть только одна, – ощетинился Богумил. И почему эти паломники всегда так нетерпимы? – Вера в Создателя… Мне было видение!
– Видение смогло отправить вас в такой дальний путь? Видение, где явь легко заменяется просто мороком?
Болгарин так и не понял, что было в тоне Миронега. Точно, что не вопрос. Возможно, сочувствие или насмешка, но, главное, понимание.
Да, лекарь действительно оказался непростым человеком, как и говорил болгарину незадолго до того боярин Ольстин Олексич, суеверно отводя возможный приход зла магическим сплетением пальцев.
– Завидую вашей вере, – сказал Миронег. – Хорошо, наверное, знать, что есть тот, кто непогрешимей тебя.
– Вы отрицаете существование Бога?
– Отчего же? Я верю… Боги есть, и они часто вмешиваются в наши дела, а еще чаще просто используют нас в своих целях; так мы, не задумываясь, ломаем прут за неимением хлыста или срываем подорожник, чтобы остановить кровь. Боги есть, и они злы так же, как жесток и несовершенен человеческий род, породивший их. Стоит ли служить злому господину, тем более – верить ему?
– Боги… Так вы – язычник? Нам, христианам, ведомо, что боги, которым поклонялись язычники, на самом деле всего лишь демоны, прельстившие наивное человечество. Силен Люцифер, он способен наделять великим могуществом своих приверженцев! Но Бог един, и Сын Божий принял смерть на кресте, чтобы взять на себя все грехи наши.
– Я читал Библию, – ответил Миронег. – И мне кажется, что вы превратно понимаете свою священную книгу. Весь путь Иисуса Христа, как о нем рассказывают, – это попытка полубога стать полноценным богом. Много таких историй рассказывали в языческой, по-вашему, Элладе. Припомним хотя бы героя Геракла, испытавшего больше, нежели ваш Иисус, и принявшего смерть, еще более мучительную, от разъедавшего его тело яда и огня, куда он вошел добровольно, чтобы избавиться от непереносимых мук. Чем отличается Геракл от Христа? Мне кажется, что только характером выпавших испытаний, которые у Геракла связаны с физической, плотской стороной существования, а у Христа – с духовным противостоянием. Читал я и о некоем Аполлонии Тианском, древнем мудреце, способном творить чудеса и, как утверждают некоторые, причисленном к богам. Чем не Иисус?
– Это даже не ересь, – в ужасе проговорил болгарин, поспешно отводя коня в сторону. – Это кощунство!
Богумил оставил лекаря в привычном одиночестве.
– Увы, – сказал Миронег, глядя вслед исчезающей тени.
* * *
К полудню снова разбили лагерь. Палатки дружинников и бояр, шатры князей были сноровисто обнесены сцепленными подводами обоза, на все четыре стороны отправилось боевое охранение. Многие из воинов устроились поудобнее в тени тканых и кожаных пологов палаток и шатров, чтобы ухватить никогда не лишний час-другой сна. Стреноженные кони лениво выискивали молодую, еще не пожелтевшую на недоброй майской жаре траву. Утрачивая зеленый цвет, она становилась похожа на проржавевшие наконечники стрел, вырывающиеся наружу из чрева не принявшей их земли.
Степь была нашпигована останками старого оружия, как сало чесноком. И было это оружие ржавым не от теплых капель редкого в Половецком поле дождя, не от холодных потоков таящихся от солнца грунтовых вод – от бесчисленных ручейков и луж крови, которыми всласть, если не чрезмерно напиталась здешняя почва.
Миронегу не спалось. Неясное предчувствие беды гнало хранильника прочь из лагеря. Миронег оседлал запасного коня, нацепил на пояс ножны с мечом, взвесил на руке бесформенный ком кольчуги и, не долго думая, отложил его обратно. Шлем же с намотанным вокруг него тюрбаном Миронег все же оставил, он знал, какими неприятными могут стать даже касательные раны головы.
Дружинники из северской сторожи, привыкшие к частым отлучкам княжеского лекаря, беспрепятственно пропустили его за пределы лагеря. Только молодой черниговский ковуй Беловод Просович неодобрительно покачал головой, рассудив, что бродить в одиночку по степи рядом с половецкими разъездами – чистое безумие. Время неспокойное. Или зарубят сразу, чтобы не выдал присутствия соглядатаев, или отвезут к своему хану, чтобы побольше выведать о русском войске. И потом все равно зарубят, это уж точно.
Солнечные лучи недоверчиво обшаривали зеленый плащ Миронега, словно дневное светило не могло поверить самому себе, заметив одинокого всадника в степи. Выглядывавшее из тюрбана острие шлема недвусмысленно грозило солнцу скорой карой за излишнее любопытство.
Долго ли, коротко ли – Миронег остановил коня. Степь была пуста, только полегший прошлогодний ковыль и посвистывание невидимых сусликов беспокоили зрение и слух лекаря. Высоко в небе парили стервятники, обратившиеся на расстоянии в подобие скопища навозных мух над свежей коровьей лепешкой.
И еще в голой степи было дерево. Оно стояло здесь так давно, что уже не верилось, было ли оно когда-либо тонким ростком, жалким маленьким прутиком с ласковыми, доверчиво липнущими по весне к рукам листиками. Зрелость этого дерева тоже ушла в прошлое, нещадно завернув толстый ствол наподобие витого основания церковного подсвечника. Ушла и старость.
Уже давно дерево было мертво. Ни единого листочка не оживляло его ветви, даже вездесущий мох не решался взобраться по измученной долгой жизнью колонне ствола. Кора была то ли объедена голодным степным зверьем, то ли сама расслоилась и упала к подножию дерева, где и сгнила, дав бесполезную пищу давно умершим и окостеневшим корням. Обнаженная древесина, бесцеремонно изнасилованная дождем и снегом, заласканная чуткими и вездесущими руками ветров, потемнела и разгладилась, как кожа прибрежного жителя.
На дереве сидела птица. Она была огромна, и Миронег никак не мог решить, подъехать ли поближе, чтобы удовлетворить естественное любопытство исследователя, или же гнать коня галопом прочь, пока любопытство не проснулось у неведомой птицы.
Любознательность пересилила осторожность. Миронег направил коня прямо к высохшему дереву.
Как бы в порядке ответной любезности птица оттолкнулась лапами и прыгнула с дерева вверх, к небу, чтобы там, на просторе, расправить громадные перепончатые крылья.
Да полно, птица ли это?
Крылья она взяла у летучей мыши, хвост, большой и пушистый, – у степной лисицы, а поросшая кудрявым волосом морда явно принадлежала в прошлой жизни большой дворовой собаке. Собачьими же были и сильные когтистые лапы, направленные после прыжка прямо в голову Миронега.
Лекарь машинально поискал рукой у седельной луки притороченное копье, и только сейчас вспомнил, что оставил его в лагере, чтобы не мешалось. Нет, все-таки в Половецком поле не может помешать дополнительное вооружение, а вот его отсутствие…
Меч бесполезен, подумалось Миронегу. Все равно у неведомой твари когти вполовину клинка. Хотя и без них простой удар лапы, слепленной, казалось, из сплошных мускулов, мог просто расплющить любого противника, ростом и весом равного хранильнику.
Тварь приближалась. Конь под Миронегом, испуганно храпя, растопырился на все четыре ноги и опустил шею, словно предлагая всадника на обед неведомому крылатому животному вместо себя.
Зверь сел, умудрившись вывернуть крылья почти перпендикулярно земле. При этом его сильно качнуло, так что он неуклюже и с резким хлопком подался назад. От опрокидывания его спасли только когти, вцепившиеся в землю и пропахавшие в ней глубокие, лоснящиеся черным полосы.
Змеиные глаза, неподвижные, зеленые, почему-то с горизонтальной полосой зрачка, уставились в лицо Миронега. Черные в синеву губы приоткрылись, продемонстрировав блестящий набор белых зубов с впечатляюще выпиравшими клыками и обдав лекаря смрадом гниющего мяса.
– А нет ли у вас соды? – спросило крылатое существо и высунуло длинный розовый язык, как делает любая собака, когда ей жарко.
Миронег, ожидавший неминуемой смерти, смог только отрицательно покачать головой.
– А жаль, – искренне огорчилось существо. – Ужасная изжога, знаете ли… Уже четвертый день мучает, сил больше нет! Кстати, возможно, присоветуете что, а то в нашей дыре и словом перемолвиться не с кем.
– Как бы мой совет не навредил вместо помощи, – засомневался опешивший лекарь. – Сожалею, но собак, – Миронег бросил осторожный взгляд на ужасные челюсти, не щелкнули бы, – лечить не пробовал… Да и, – добавил он неуверенно, – птиц тоже.
– Жаль, – совершенно убитым голосом проговорило существо. – Что ж, видимо, умру я скоро, и никто не явится, чтобы оплакать последнего Дива на земле!..
Последние слова Див договаривал уже на взвизге, ожесточенно хлопая при этом перепончатыми серыми крыльями. Взвизг оборвался неожиданно разразившимся ливнем слез, угрожающе превращавшимся в весеннее половодье. Зверь прикрыл крыльями, как руками, глаза и рыдал, содрогаясь всем телом и всхлипывая, как малое дитя в объятиях матери.
– А братья-то, – захлебывался Див слезами, – братья-то! Службу выше родства ставят; в гости не зазвать, самому без приглашения не приехать… А горды все, словно не звери при богах, а сами – боги, представляете?! Один, не поверите, клички собственной, родителями пролаянной, стесняется, так и живет безымянный. Пес Бога, вот стыдоба-то!
Ковшиком подложив под нижнюю челюсть концы крыльев, Див опустил морду к земле. Миронег, повинуясь внезапному порыву, сошел с коня и, подойдя вплотную, положил ладонь в кожаной перчатке правее и ниже печально опущенного уха летучего пса. Выше все равно не достать. Шерсть у зверя была жесткая, но податливая, и лекарь стал перебирать ее пальцами. Див подался вперед, стараясь впитать побольше нежданной ласки. Всхлипы прекратились, но из полуприкрытых от удовольствия глаз продолжали выкатываться крупные, с лесное яблоко, слезинки.
– А Цербер-то? – продолжил жаловаться Див. – Как стал трехголовым, так, кажется, ума не приобрел, наоборот, последний растерял… Залетел тут к нему как-то, так он смотрит не на меня, а словно сквозь, будто я не из плоти и крови, а душа бестелесная, как прочие в его сумрачном Аиде. А одна из голов так и глядит прямо в глаза, и не моргает даже, словно век лишилась. Как человек смотрит, не ужасно ли?
Миронег был готов согласиться, что взгляд многих людей неприятен, но сказал иное:
– А знаете, – как быстро пристает мусор: не так давно услышал Дива, а фразу построил по-собачьи, с излишними «а», – кажется, я встречался с одним из ваших родственников…
– Ну? – удивился Див. – Вот сочувствую! Постойте-ка! Дайте взглянуть поближе!
Крылатая собака осторожно, чтобы не задеть Миронега, повернула голову и не только осмотрела, но и старательно обнюхала человека. Хранильник чувствовал волну горячего дыхания, то приливавшую, окутывая все находившееся поблизости неприятным ароматом внутренностей, измученных изжогой, то отступающую прочь, в милосердии оставляя место свежему воздуху.
– Живой вроде… – с недоумением произнес Див. – После встречи с Цербером-то?.. Геракла вот помню, так то – полубог… Хотя собак не любил, как последний, извините, человек. Так братика дубинкой приложил, что тот потом три века в Аиде каждой душе норовил в мякоть вцепиться. А тут человек – и живой? Не понимаю!
– Другого родственника, – поправил Миронег.
– Какого еще? – не понял Див. – Вроде бы Цербер у нас был один. А такие уроды часто не рождаются, генетика это доказала… Хотя откуда вам про нее знать? Вы ее еще не познали.
Миронег постеснялся спросить, какую Генетику – ромейское имя-то! – и когда ему доведется познать, и сказал снова не то, что думал. Это, видимо, становилось у него вредной привычкой.
– Я недавно видел Пса Бога.
– Кошмар! – расстроился Див, и слезы снова полились из его глаз. – А что, он все такой же толстый? Хозяин-то его, знаете ли, Пса, как теленка, откармливает! Говорит, по жирным бокам бить сподручнее, пальцы на ногах целее будут… Братик мой родненький! Как он там, страдает, поди?
– Я нашел его в добром здравии, – сказал Миронег и тотчас удивился перемене, приключившейся с Дивом.
– В добром здравии? – возопил Див. – А брата, страдающего от одиночества в диком поле, уже, значит, и навестить некогда? Видать, птицей стал другого, чем родственники, полета! Птицей-небылицей! Да тьфу на него вместе с его богом!
В небе прокатился раскат грома. Грозы только и недоставало, подумалось Миронегу. Но откуда гром при ясном небе?
– Ой! – в испуге сжался Див. – Ой, что сказал-то! Гнев обуял, гордыня запутала, а глупость рот открыла…
– Не прекратишь ныть и ругаться – в землю закопаю, – почувствовал Миронег шелестящий голос. Почувствовал, не услышал. То глас не человека – Божий!
– Прекращу, обязательно прекращу, – говорил Див, глотая крупные слезы.
– Смотри мне, – продолжил бог. – И человека зазря не держи! Скажи, что должен, и поди прочь!
– Как прикажете, – всхлипывал Див. – Как прикажете!
Див улегся на все четыре лапы, вдавив брюхо в землю, и жарко, смрадно зашептал Миронегу:
– Слово слушай, так говорит именем всех богов последний Див последнему хранильнику! – Очевидно, говорил Див действительно именем кого-то еще, поскольку раньше Миронег не замечал у крылатой собаки склонности к риторике. – Слушай, Земля Незнаемая, поле Половецкое, Волга и Поморье, Посулье и Сурож, Корсунь и идол тмутараканский! Уже пошли половцы дорогами непроложенными к Дону Великому, кричат их телеги в полуночи, словно лебеди испуганные!.. Понял? – уже привычным плаксивым тоном спросил, перебив самого себя, Див.
– Нет, – честно признался Миронег.
– Идолов иначе зовут болванами, – заметил Див, – как и людей, у которых вместо головы камень. Суди сам, человек. Все уже знают, что против вас идет половецкое войско. Отчего-то только вы и не знаете. Вот и предупреждают вас: отступитесь, мол, из степи. Спасайтесь, мол, пока не поздно. Скачите прочь так, чтобы копыта задних ног ваших коней били по вашим спинам, когда вы трясетесь в седле. Проваливайте, болваны, у нас и без вашего похода голова болит!
И добавил жалобно:
– И животик тоже…
Див, не дожидаясь ответа, неуклюже подпрыгнул и поднялся в воздух. Нашарив крыльями опору, он, заваливаясь влево, тяжело полетел прочь, напоминая силуэтом драный половик.
* * *
Ханский бунчук старательно держал небо. Делал он это, упершись надежным основанием древка в теплую, немного влажную землю, а бычьими рогами, закрепленными наверху, ткнувшись в нежную мякоть плывших по небесной тверди облаков. Свисавшие с рогов лисьи хвосты вели то ли хоровод, то ли брачный танец – неведомо. Ветер с реки никак не мог решить, приласкать запыленный мех или же гневно сорвать его вместе с рогами, низвергнув в прах, откуда все мы родом и куда, увы, нам суждено рано или поздно возвратиться.
Где бунчук, там поблизости и хан. И точно. На пригорке, поодаль от оставшегося в низине бунчука, стоял вышитый золотыми узорами роскошный шатер, принадлежавший ранее булгарскому купцу, приведенному однажды своей злой судьбой в места, где кочевали дикие половцы. Кости купца давно выбелило солнце, а шатер продолжал служить верой и правдой самозваному хану Гзаку, вождю всех, кто не терпит вождей, объединившему под своей жилистой рукой не только отверженных своими родами-юртами половцев, но и подавшихся в поисках лучшей доли и вольной жизни в степь славян-бродников.
Гзак сидел на корточках перед шатром, внимательно следя узкими темными глазами за тем, как слуга чистит боевой кожаный нагрудник, усиленный немного потемневшими от ночной влаги стальными бляхами и украшенный прихотливой арабской вязью, уместной, казалось, в книжной миниатюре, а не на доспехе.
– Три осторожнее, – поучал Гзак слугу. – А то смотри, вон уже краска от кожи отстает, так и испортить вещь недолго.
Слуга сопел и тер. Тер, как раньше, не обращая внимания на слова господина. Он еще учить станет, что и как делать! Вещь чувствовать надо, это вам не разбой или погоня, когда воин забывает все. Раз забывает, другой, а там, глядишь, и как самого зовут, не вспомнит…
Внимание хана привлек столб пыли, рассекший линию горизонта.
– Эй, кто-нибудь, посмотрите, что происходит, – сказал Гзак, указывая в ту сторону.
Несколько половцев вскочили на коней и, погоняя их ударами витых плетей, помчались прочь. Но, отъехав от лагеря на два броска копья, они осадили коней, остановившись в ожидании.
– Именем Тэнгри, – заорал, поднимаясь с корточек, Гзак, – что случилось?!
– Ковуи! – раздался крик. – Черниговские ковуи!
Потомки касожского племени, всадники и воины от рождения, они были опасным противником, верой и правдой защищая степные границы Черниговских земель от непрошеных гостей. Половцы Гзака еще не забыли, как несколько лет назад, при попытке грабительского набега, ковуи прижали их к кромке непроходимых для конницы лесов и расстреляли из мощных дальнобойных луков. Тот-У-Кого-Нет-Имени попировал тогда всласть, заглотив души многих хороших воинов. Немногие уцелели после той бойни, и сам Гзак был вынесен верными людьми с тяжелой раной бедра, заставлявшей его и поныне прихрамывать в сырые дни.
Появление ковуев вызвало панику в становище диких половцев. Люди прыгали на коней, часто не утруждаясь их оседлывать, всадники хаотически метались между юрт, часто сталкиваясь друг с другом коленями и локтями. Кони, которым передалось волнение хозяев, беспокойно ржали, норовя вцепиться зубами в соседей, оказавшихся на расстоянии вытянутой шеи.
– Спокойствие! – надсаживался в крике Гзак. – Спокойствие, сволочи! Нет никакой опасности! Это друзья и союзники!.. Да прекратите мельтешить, вы не блохи, а воины!
И все же ковуи застали в половецком лагере полный хаос, и Ольстин Олексич, ехавший во главе дюжины своих воинов, процедил сквозь зубы:
– Содом и Гоморра.
Гзак, лицо которого было краснее шелкового халата из Поднебесной, надетого прямо на голое тело, подъехал на взмыленном коне ближе к черниговцам.
– Вот, боярин, – сказал хан, позабыв или не захотев произнести традиционные слова приветствия, – взгляни, с каким сбродом мне приходится иметь дело. Дюжина хороших воинов испугала три сотни моих овец.
Заметив, как ухмылялись окружившие своего боярина ковуи, Гзак рассвирепел окончательно.
– Проклятие утробам, выносившим и породившим вас! – заорал хан на своих воинов. – Зарублю! Каждого зарублю, кто празднует труса!..
Затем он подумал, спрятал вынутую было саблю обратно в ножны и пояснил, сплюнув на землю:
– Только благородную сталь поганить…
Половецкий лагерь успокоился почти так же быстро, как чуть раньше взбесился от страха. Всадники оглаживали мокрых от пота, мелко дрожащих коней. Особо любопытные старались держаться ближе к своему хану, явно заинтересовавшись неожиданными гостями.
– Сволочи, – уже спокойно произнес Гзак. – Что ж, боярин, не гневись на шумную встречу, пойдем кумыс попьем, о деле поговорим…
Гзак протянул руку вперед, указывая путь. Этот жест он скопировал у Кончака. Но отсутствие породы и природная грубость сыграли с самозваным ханом дурную шутку. Аристократизм, столь явный у Кончака, обернулся скоморошеством. Гзак был смешон в своих попытках казаться высокородным, но еще ни один человек не осмелился сказать ему об этом – кто из боязни ханского гнева, кто, как черниговский боярин, просто от равнодушия или брезгливости.
Гзак проводил черниговцев к своему шатру, где на примятой траве валялся так и не дочищенный слугой кожаный нагрудник. Сам слуга исчез бесследно, испугавшись или любопытствуя – неизвестно.
Носком сапога отправив нагрудник точно внутрь шатра, Гзак жестом радушного хозяина – скоморох, прости, Господи, только сабля у него все время ржавая от пролитой крови, думал Ольстин – пригласил гостей на разбросанные по пригорку войлочные кошмы, накрытые богатыми восточными коврами. Каждый ковер по отдельности был произведением искусства, но вместе они производили на имеющего художественный вкус человека отталкивающее впечатление варварским сочетанием цветов и узоров.
Вор кичится награбленным богатством, а для нувориша, как для сороки или дикаря, красота заключается в количестве, цене и яркости, а не в гармонии.
Столь же пестрым был набор чаш и кубков, где сунский фарфор, покрытый зеленоватой, под нефрит, глазурью, казался кусками полуразложившейся плоти рядом с нечищеной патиной серебряных ромейских изделий. И непонятно было, сушеный ли изюм перед вами, или это трупные мухи опустились на свою страшную находку, и ароматное ли фряжское вино либо зловонный гной наполнил украшенные рельефной резьбой сосуды.
– Видишь, боярин, – сказал Гзак, – пока не голодаем. Отведай, что по милости богов попало на наш обед, не побрезгуй!
– Благодарю, хан, – степенно ответил Ольстин Олексич, стараясь отогнать воспоминания о том, как недавно его принимал с утонченной, истинно восточной обходительностью хан Кончак. Черниговского боярина поразило тогда, что Кончак, оказавшийся в сыром Посулье после нескольких никчемных по результатам, но кровавых стычек с берендеями Кунтувдыя, занят не столько военными заботами, сколько толкованием смысла картины на шелке, привезенной из далекого Южного Суна. Там, на фоне выступающих из тумана далеких гор, у искривленного возрастом и непогодой дерева, стояла маленькая человеческая фигурка, широко раскинувшая руки. Кончак, развернув свиток, в задумчивости водил над ним ладонями, рассуждая, что схожий образный ряд можно представить, изучая некую «Книгу пути и добродетели», но, с другой стороны, если верить Чжу Си…
Гзак опрокинул в себя полную чару вина и сыто рыгнул, вернув черниговского боярина в реальность.
– Вам, христианам, вино пить нельзя, – заметил Гзак.
– Вино не пьют сторонники Мухаммеда, не Христа, – поправил Ольстин Олексич.
– Ошибся, – хохотнул окончательно успокоившийся после недавней вспышки ярости хан. – Конечно же, я вспомнил! Ваш бог любил пьяных, однажды он даже превратил воду в вино. Скажи, боярин, он не может сделать это еще раз? Клянусь, если твой бог превратит любую из степных рек в винный источник – тотчас стану христианином!
Руки юноши, прислуживавшего хану за едой, дрогнули, и комки вареного несоленого риса рассыпались по ворсу ковра.
– Отец! – с горечью и укоризной сказал юноша, поставил прямо на землю блюдо с остатками еды и, вспыхнув, бросился прочь.
– Мой сын, – пояснил невозмутимый Гзак, смахнув крошки рядом с собой. – Был воин, а как крестился, стал словно девица красная. То не скажи, это не делай. От имени прирожденного отказывается, требует, чтобы его Романом звали, как ромея какого-то! Это с нашим-то разрезом глаз!
И Гзак жирными от мяса пальцами еще больше подтянул к вискам и без того раскосые глаза, став удивительно похожим на древние печенежские изваяния, стоявшие по степи. И снова хохотнул, довольный тягостным впечатлением, произведенным этой выходкой на ковуев, верных христиан, вынужденных терпеть все ради политических выгод.
Ухмылка Гзака сама собой превратилась в болезненную гримасу, которую самозваный хан собирался выдать за выражение повышенного внимания к собеседнику. Но, за неимением актерского дара, Гзак изобразил лишь безграничную гордыню и презрение к гостям. Ольстин Олексич остался невозмутим, в степи он повидал и не такое.
– Что ж, боярин, – сказал Гзак, – рассказывай, с чем пожаловал. Добрые ли вести от тебя услышу?
– Что считать добрыми вестями, хан?.. Как христианин, я осуждаю войну и убийство, а говорить нам придется именно об этом. Ответь мне, хан, остался ли в силе наш договор, заключенный ранее?
– Хан слова не меняет!
– И твои воины готовы выступить, когда придет время?
– Безусловно. Мне нужны только срок и место, дальше – мое дело!
– Тогда смотри!
Боярин Ольстин достал из-за голенища кривой засапожный нож и начал его острием набрасывать на вытоптанном клочке земли примитивную, но тем не менее ясную для собеседника схему местности.
– Вот это, – черниговец провел глубокую борозду, – граница русских земель и Половецкого поля. Мы где-то здесь, – укол острием ножа пониже борозды, – а вы – здесь, – еще один укол, левее. – Условленно, что куряне Буй-Тура должны выйти навстречу перед Сальницей, где будет переправа через Великий Дон.
– Здесь бы и ударить, – заметил Гзак, внимательно следивший за каждым движением ножа черниговского боярина.
– Не время, – покачал головой Ольстин Олексич. – Подумай сам, силы Кончака там, в часе-другом неспешной езды, а сам хан пойдет по пятам твоих воинов навстречу Игорю. Стоит ли рисковать, подставляя себя под двойной удар? Нет, наша удача впереди! Смотри дальше, хан.
От точек, показывавших положение русских дружин и половецких отрядов, Ольстин прочертил прямые линии, сомкнувшиеся в нижней части рисунка.
– Вот так, – хрипло и тихо сказал черниговский ковуй. – Вот так… Невесту нельзя похитить на землях отца; это оскорбление, смываемое только кровью. Кончаковна будет ждать жениха здесь, на Бычьей реке.
– Где? – не понял Гзак.
– Вы называете ее Сюурлий, – пояснил Ольстин. – Там хватит травы лошадям и воды для всех. Там ничейные земли. И там с юга и запада болота, так что сама природа устроила ловушку каждому, кто осмелится остановиться в тех местах без соблюдения особых предосторожностей. После пира бдительность сторожи будет затуманена винными парами, и тогда я подам сигнал к нападению…
Засапожный нож с силой воткнулся в землю, прямо туда, где пересекались две линии.
– Тогда Кончак заговорит иначе, чем раньше. – Гзак не отводил взгляд от торчащей из земли наборной рукояти ножа.
– Это ваш спор, и нас он не касается.
– Разумеется. Но он касается Кончака. – Гзак хохотнул. – Если, конечно, он не желает, чтобы касались его дочери, красавицы Гурандухт!
Хан громогласно расхохотался, словно сказал что-то очень смешное. Ольстин Олексич вежливо скривил губы в гримасе, означавшей улыбку.
– Мы пойдем за вами, как хвост за собакой, – сказал Гзак, вырывая нож из земли. – И клянусь, меня ничто не остановит! Ничто, боярин, слышишь? Если пойдете на попятный, я один сделаю все. Не отступлюсь.
Гзак быстро и сильно полоснул себя по запястью левой руки, и черная степная земля, прилипшая к лезвию засапожного ножа, изменила цвет, став еще темнее.
Есть оттенки черного, как есть ступени предательства. Но черный цвет всегда останется черным, как предатель – подлецом.
Вскоре черниговские ковуи, охватив защитным полукольцом своего боярина, галопом шли обратно, к русскому лагерю, тайно покинутому несколько часов назад. Ольстин Олексич думал, как неосторожно наносить себе раны за несколько дней до грядущего сражения.
А еще отчего-то вспоминалось Святое Писание, то место, где Господь спрашивает Каина: «Где брат твой, Каин?» А Каин отвечает: «Что я, сторож брату моему?»
Где брат твой, Каин?
Где твои братья, черниговский боярин Ольстин Олексич?
Или Господь в своем милосердии наложил заклятие на утробу твоей матери, не дав ей породить еще одного Каина?
Еще одного предателя и убийцу.
* * *
Днем люди отдыхали, ночью шли вперед. Луна с плачущим лицом тоскливо глядела вслед всадникам. Дробящиеся тени людей и коней беспокойно пластались по земле в предчувствии скорой смертной агонии, ожидавшей многих из них в грязевых болотах у Бычьей реки Сюурлий. Выбеленные луной лица бояр и дружинников походили на образа покойников, а поблескивающие то здесь, то там металлические иконки на шлемах казались припасенными заранее амулетами, облегчающими дорогу в мир иной.
Во вторую ночь была гроза. Боевые кони, привычные к грохоту битвы, все равно пугались, когда с громовым треском рвалась ткань небосвода и Перуновы всполохи бешеным пламенем приваривали небо к земле у недостижимой для смертного линии горизонта. Отсветы молний причудливо играли на перьях орланов, неотступно следовавших за войском.
Призрачной радугой всех оттенков серого цвета возгорались при электрическом освещении волчьи шкуры. Могучие хищники молча текли серебристыми ручьями по флангам русской дружины, терпеливо ожидая поживы. При каждом ударе молнии на волчьей шерсти высыпали небольшие голубоватые огоньки, и треск соприкасавшихся волосинок, казалось, призывал новую песню грома в небесах.
Когда гроза успокаивалась, гласом Божьим от низких облаков доносился орлиный клекот. «Все сюда, – захлебывались хищные твари. – Будет пир, будет праздник. И на разбросанных по Половецкому полю костях каждый ценитель падали найдет себе трапезу по настроению, блюдо по вкусу. Все сюда!»
А праздновавшие весну соловьи твердили свое. «Свадьба!» – пели соловьи, и тоненькие горлышки вздрагивали в такт каждой руладе. «Любовь», – слышался звонкий ночной щекот, засыпавший только под утро.
Любовь… Тоже – увы! – иногда гибельное чувство.
Утром на смену исчезавшим до темноты волкам приходили лисы. Хитрые и злобные, они не уживались среди себе подобных, напоминая поведением большинство людей. Но сейчас они держались большими стаями, бросаясь изредка прямо под копыта коней, визгливо тявкали, задрав окаймленные черными губами морды цвета свернувшейся крови. Бывалые дружинники, повидавшие степь, говорили, что лисы боятся красных щитов, притороченных к седлам, но веры им не было. Все чаще видно было, как воины делают знаки, отражающие злые чары, или хватаются за кресты или змеевики-обереги, висевшие на шее у каждого.
Русская земля, ты уже за шеломянем!
Шеломянь – водораздел рек, водораздел Дона и Днепра, говорят одни.
Шеломянь – старый могильный курган, похожий на шлем воина, утверждают другие.
Между русским воинством и Русью легла смерть. Как хотелось бы мне ошибиться, написать, что зловещие предзнаменования были просто неверно истолкованы, но…
Но мы с вами говорим о том, что было, а история, как известно, не терпит фантазий.
Выдумки оставьте иным музам.
Новый храм был схож с ящером из детских сказок. Вздернутый портал входа казался распахнутой пастью, поглощающей всех, кто, добровольно или по принуждению, заходил во внутренние помещения, еще не отделанные до конца.
Каменотесы исходили потом, капли которого едва не замерзали под холодным, по-настоящему зимним ветром, лелеявшим на своих крыльях отвратительные миазмы Меотийских болот. Каменотесы исходили ужасом, стараясь не смотреть на затянутых в черное надсмотрщиков, стоявших спиной друг к другу в центре храмовых залов. В скрещенных на груди руках они держали плети, где кожаные ремни переплетались для усиления удара со стальной проволокой.
«Это даже не Вавилонское пленение, брат Иосиф бен-Иешуа, – опасливо шептал один из каменотесов другому. – Это вернулись времена владычества фараонова».
«Это вернулись времена Содома и Гоморры, – тихо отвечал Иосиф бен-Иешуа. – И молю Господа, чье имя неизреченно, чтобы гнев его поразил нечестивцев, как в старые времена!»
Они молили о том, чтобы гнев Божий упал на город Тмутаракань, не подозревая, что это давно уже случилось.
Один из Старых Богов, чей древний истукан горделиво возвышался на залитом кровью пьедестале, пылал гневом, источая его в окружающее пространство, напитывая им не только населявших город людей, но и, казалось, самые стены.
Человек любит дом и ненавидит тюрьму. Но ведь все едино, стены есть везде.
Только разные – добрые и злые.
Тмутаракань стала городом злых стен.