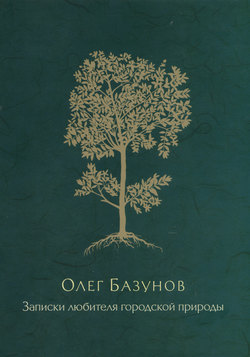Читать книгу Записки любителя городской природы - Олег Базунов - Страница 8
Тополь за окном
Эскизы к портрету Олега Базунова
Домосед
ОглавлениеОлег Базунов слыл домоседом, одиноким затворником, к концу жизни чуть ли не монахом в миру, но как-то так получалось – без видимых усилий с его стороны, – что в ленинградской литературной среде его присутствие было заметно. Глеб Горышин в середине 1970-х, рекомендуя к изданию сборник «Холмы, освещенные солнцем» и вспоминая первую встречу с Олегом при чтении «Рабочего дня» двадцать лет назад, писал: «Все эти годы Базунов участвовал в литературе, но несколько необычным образом. Ни одной книги у него не вышло, журнальных публикаций почти не было, между тем начинающие писатели, становясь мало-помалу писателями средними – если не по уровню, то по возрасту, – числили Базунова в своей среде. Он был нужен в литературе, участвовал в обсуждениях на литературных четвергах, конференциях. С мнениями его привыкли считаться, они всегда отличались страстностью, в них звучала завидная начитанность… Между тем собственные писания Олега Базунова оставались малоизвестными или вообще неведомыми, как бы их и не существовало».
Олег Базунов не принадлежал к горделивому андерграунду замкнутому литературному подполью, куда его впоследствии кое-кто пытался зачислить. По натуре он был человеком открытым, человеком с активным общественным темпераментом; в нем, по словам Ольги Миттельман, «жил неуемный просветитель, даже – пропагандист, разумеется, близких ему идей». И все же образ домоседа, «охотника сидеть дома» (по Далю) Олегу вполне приличествовал. В сентябре 1968 года Любовь Дмитриевна писала его соученику по «подготу»: «Вы спрашиваете про Олега. Он семьянин, у него чудесная, умная жена, но так уже вся в его власти. Двое детей – девочки. Олег не пьет, не курит. Любит только семью и книги. Любит также старину, особенно русскую. Пишет какую-то очень большую философскую писанину, но нам с Виктором читать не дает. Давал двум большим писателям. Те говорили Виктору, что вещь совершенно замечательная, но непроходимая…»
Положение домоседа, пишущего что-то «в стол» и необходимого литературе, – неслучайный штрих базуновской биографии, изобиловавшей моментами, казалось бы, несовместимыми. Даже неплохо знавшим его друзьям он представлялся личностью резко контрастной. Правда, наделенной контрастами не только от рождения, но и с возрастом приобретенными, такова уж была дерганая кардиограмма его судьбы.
По впечатлениям Бориса Сергуненкова, Олег «сочетал в себе два противоположных качества: это был эстет и аскет. На его письменном столе рядом со стопкой листков рукописи лежал рваный кусок железного крюка, подобранный им на трамвайных линиях, которым он не только любовался сам, но и заставлял любоваться своих гостей: „Какая мощь, какая красота!“ Весной рабочие спилили тополь возле его дома. и он втащил по лестнице на третий этаж огромный ствол тополя – целое дерево, поставил в бак с водой, и тополь зеленел у него, заняв половину комнаты, пока не опал, до глубокой осени. Он любил хорошую одежду, хотя по бедности не мог ее приобрести, ходил в поношенных брюках и в свитере с кожаными заплатками на локтях, любил красивый и вкусный обеденный стол, хорошее вино, старинную мебель, антикварную посуду, чистую постель, свежие цветы… И вместе с тем это был аскет, духовный человек, мыслящий и взыскующий истины, Града Небесного. Он избегал грубой речи, неразборчивых знакомств, пьянства, скабрезностей. Он часто и подолгу постился, годами жил на одной овсяной каше, хлебе и воде»[4].
За контрастными проявлениями характера, за настороженной манерой поведения таился мучительный духовный процесс. И. Рожанковская, подтверждая, что Олег жил «в святой нищете, на которую не роптал, а скорее изумлялся, как это он выживает» – «перенасыщенный мыслями», «сверхчувствительный до мнительности», – стремился к простоте, той, что выше сложности, и ценил в других нравственную опрятность. Прочитав впервые стихи Николая Рубцова, он, человек городской и вроде бы книжный, услышал в них «родной ему звук предельной чистоты и прозрачности» и был, по словам И. Рожанковской, этими стихами «утешен и обнадежен», ликовал и плакал от восторга.
Напряженный духовный процесс «открытия себя в себе» имел свои истоки, свои взлеты и падения, свои явные и неявные грани и границы. Начальная веха была обозначена в «Триптихе», где автор, как помним, заявлял, что им наконец-то сделаны некоторые важные выводы и что он более или менее последовательно проводит их в жизнь. В результате, как уверен Б. Сергуненков, «где-то в середине жизни» с Олегом произошло преображение, то, что древние греки называли метанойя, и он окончательно освоился в той творческой позиции, когда художник пишет не «себя в Горе», а «собой пишет Гору», о чем мечтал еще герой «Холмов, освященных солнцем».
Процесс духовного преображения подпитывался различными обстоятельствами. Свою роль сыграл здесь обширный, но весьма избирательный круг чтения, простиравшийся от добиблейской мифологии, святоотеческой литературы, Платона и Данте до Гоголя и Достоевского, Вячеслава Иванова и по-особому чтимого Райнера Мариа Рильке. Философская начитанность, знание мировой литературы, эстетические предпочтения Олега в искусстве – предмет отдельного разговора. Равно как отдельного разговора заслуживают аллегорическое содержание базуновской прозы, выяснение ее художественных истоков и определение тех нравственных сверхзадач, которые в первую очередь продиктованы, по-моему, моральным императивом автора «Выбранных мест из переписки с друзьями».
В 1960-е годы Олег интересовался антропософией Рудольфа Штейнера, разного толка духовными трактатами, выискивал у букинистов, как сообщает Б. Сергуненков, редкие книги Блаватской, Безант, Шюре, Папюса, труды по восточной и христианской теологии. Его привлекала литература «философствующего чувства», провозглашавшая органичное слияние человека со Вселенной, – чтение именно такой литературы, по мнению Б. Сергуненкова, привело Олега в конце концов в лоно Русской православной церкви.
Думаю, это не совсем так. У религиозности Олега были устойчивые семейные корни, путь в Церковь начинался у него издалека – в доме на канале, где царила атмосфера, какую ощущаешь в старинных петербургских квартирах, вобравших в себя дыхание длинной череды поколений, для которых религиозность, сам быт, расписанный по православному календарю, были так же естественны, как и евангельское понимание человеческого достоинства. И любимая бабушка Мария Павловна, и, воплощенная святость, тетушка Матюня, умершая в блокаду, и матушка, ригористически веровавшая в Бога Любовь Дмитриевна, знали силу притяжения их намоленного родного угла.
Они, собственно, эту крепкую силу, каждая по-своему, олицетворяли, и Олег, с его обостренной восприимчивостью, такого притяжения избежать не мог. Тяготение к Церкви он до поры до времени никак не афишировал, но в какую-то трудную минуту строгое подчинение церковному уставу стало для него насущной потребностью. И даже ближайшие друзья эту перемену обнаружили не сразу
И. Рожанковская вспоминает: «Как-то он исчез на год или более, а когда позвонил, то начал с важного вопроса: считаю ли я себя христианкой? До этого откровенных разговоров на эту тему у нас не было. А тут он признался, что ходит в Никольский собор – молится, исповедуется и причащается». У Олега, судя по всему, уже вконец расстроилось здоровье. И. Рожанковская вспоминает, что ради укрепления здоровья он бегал по утрам, голодал по определенной схеме, не ел мяса и рыбы, но вегетарианство его было «нравственным, а не диетическим». Потом прогрессировала преследовавшая его в последние годы болезнь Паркинсона. У Олега изменилась походка, он исхудал, истончился и в глазах И. Рожанковской «стал похож на апостола Павла с картины Эль Греко».
Интеллектуал-идеалист, немилосердно отринутый к тому времени едва ли не в изгои, Олег Базунов на протяжении всей своей жизни демонстрировал непреклонную волю – и в повседневном поведении, блюдя собственное достоинство, и в скрупулезной работе над рукописями, и борясь с болезнями. Борясь с болезнями, может быть, прежде всего. О своем горьком опыте по этой части он еще в ноябре 1967 года писал находившемуся в лечебнице Генриху Шефу: «…наверное, у тебя нет сейчас такого другого знакомого тебе человека, который бы понимал тебя, как тебе тяжело сейчас во всех планах, как это понимаю я. Ведь подобное твоему мне пришлось пережить, о чем ты давно, наверное, догадался по некоторым моим намекам в наших разговорах…» Олег советовал: «Самое главное, как бы ни было тебе трудно, старайся не поддаваться отчаянию. Недаром древние считали отчаяние в любом случае жизни одним из самых тяжких грехов. Смирись с самим фактом того, что на твою долю выпало такое испытание. Это, конечно, не значит, что нужно примириться с самим фактом болезни. Я на опыте знаю, что в этой ситуации нужно упереться и терпеть, терпеть во что бы то ни стало и с возможным максимумом мира в душе…» «Старайся, – писал Олег, – сколько можно идти навстречу страху и страхам. Мне лично пришлось заниматься этим еще много спустя после выписки. смотри чаще в окно, на деревья, на небо, на птиц, с желанием скорее возвратиться в заоконный мир. Все это нужно не только как тренировка воли, которая в этих ситуациях очень падает…» «И еще, – добавлял он, – очень важное, на мой взгляд и по моему опыту. Старайся поддерживать максимум возможного для твоей натуры контакта с людьми, причем чем проще, народнее человек, тем даже лучше, кто бы он ни был по профессии и по болезни…»
Наделенный с блокадного детства недюжинной энергией преодоления, Олег всю жизнь старался жестко контролировать себя. К сожалению, это ему не всегда удавалось. Неусыпное противоборство со всяческими недугами, болезненная мнительность, психологические перегрузки и нервные перебои не сулили ему душевного равновесия, чего он так добивался. Вслед за философом он мог признаться: «Во мне самом мне многое чуждо…» А энергия преодоления меж тем слабела. И «заоконный мир» все сильнее был в тягость.
Высокие литературные замыслы, гнет «личной преисподней» опасно сталкивались с житейским бытом. Возникавший душевный дискомфорт приводил к трениям с самыми близкими людьми. Человек крайне щепетильный во всем, Олег страдал оттого, что не может содержать семью, и не хотел быть кому бы то ни было обузой. Он не бравировал аскетизмом, не чуждался простых домашних удовольствий, любил свою жену, своих дочерей, отвечавших ему взаимностью, суеверно радовался выходу в свет своих книг, – но он знал и неизменность духовного одиночества, знал, что чувство собственного достоинства дороже счастья. Веруя в старинную максиму: мы рождаемся, чтобы «жить на пути к истине».
Случилось так, что Олег покинул воспетый им дом на канале, получил скромную квартирку на набережной Смоленки, в двух шагах от залива, и, конечно же, чувствовал себя в огромном нелепом доме (подъезд 19, кв. 673) неуютно, так и не признав новое жилье своим. «Он был тяжко и мучительно болен, – вспоминала Г. М. Цурикова, знавшая его не один десяток лет, – житейские невзгоды конца 1980-х и самого начала 1990-х годов его терзали, одиночество донимало. Семья распалась, дочери выросли, у них были свои заботы и свои увлечения… Бурные перемены, происходившие в это время в стране, его не оставляли равнодушным, хотя в принципе он не любил говорить о политике…»
Владимир Алексеев передавал их разговор где-то в сентябре 1992 года, когда Олег признавался: «С тех пор как я уехал из центра – я задыхаюсь. А сейчас я просто разваливаюсь. Я бы давно покончил с собой, но мне священник не разрешает. Мне на лекарства не хватает. Недавно стоял у метро и продавал „Светония“. Очень дешево. Два часа простоял – никто не купил. „Жить не хочется“, – вот что я постоянно слышу вокруг. и я не хочу. Не хочу видеть, как все продается и все покупается. Как одни на глазах бешено богатеют, а другие ходят голодные. И хоть бы богатели честно. Вот поэтому и не хочу…»
Личная трагедия Олега Базунова, со всеми его духовными метаниями и житейскими невзгодами, со всеми и откровенными и спрятанными от посторонних глаз страданиями, совпала с историческим переломом, когда и вернувший себе исконное имя Санкт-Петербург, и вся Россия в очередной раз шагнули на край бездны. Такое совпадение по-своему симптоматично, однако трагедия писателя Базунова этим не исчерпывается. В том разговоре с В. Алексеевым Олег жаловался, что «не написал еще „одной вещи“, здоровья не хватило». Запечатленная в его книгах исповедь так и осталась незавершенной.
12 октября 1992 года Олег Базунов погиб, упав с седьмого этажа на асфальтовый двор дома на Смоленке.
В некрологе, опубликованном во вдруг тогда возникшем и тут же исчезнувшем журнале «Русский разъезд», в частности, говорилось: «Ушел из жизни Олег Базунов. Ушел так же мужественно, как и жил. Ушел, как уходят уставшие от болезней и старости восточные люди… Первооткрыватель новых литературных форм, он в своем „Мореплавателе“ пел трагическую песнь истинного художника. Эстетика его лучших произведений зиждется на духовности, и подтекст его письма незрим для людей непосвященных и воспитанных на рациональном сознании однолинейной советской литературы…»
4
Дружески благодарю Б. Н. Сергуненкова (члена нашего литобъединения) за разрешение использовать текст его неопубликованных воспоминаний.