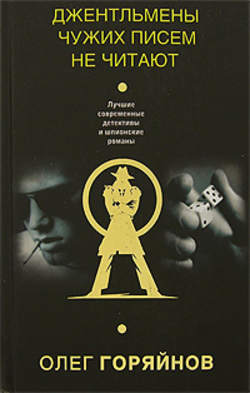Читать книгу Джентльмены чужих писем не читают - Олег Горяйнов - Страница 4
Глава 4. Очевидец
ОглавлениеТеперь меня сошлют куда-нибудь в Нарьян-мар, весь дрожа, терзал себя старший лейтенант Курочкин. На остров Ямал. Или это полуостров? А, какая, к чёрту, разница… О, я Мудацких Мудак Мудакович, кретино-болвано-импотенто!..
– Que, сеньор? – переспросил охранявший его Пабло Каррера. – Что?
Последнее Курочкин нечаянно произнес вслух.
– Ничего, жопа ты маньянская, – улыбнувшись дипломатической улыбкой, ответил он линейному сержанту первой категории на чистом русском языке. – Кирдык моей карьере, брат. И даже не ты тому причиной. Я на тебя не сержусь.
Старший лейтенант Курочкин заломил в отчаянии руки и замолчал. На секунду ему показалось, что было бы куда лучше, если бы бешеная сучка застрелила его, а не майора Сергомасова, которого он прикрывал. Его будущее теперь представлялось ему оглушительно ясным.
Через полчаса приедет консул, а с ним приедет третий секретарь посольства, он же – резидент СВР. Ещё через полчаса под портретом Железного Феликса в тяжёлой дубовой раме, висевшим в посольском кабинете резидента ещё со времен Александры Михайловны Коллонтай, его, Курочкина, будут метелить его коллеги.
И хорошо, если только вербально. Завтра первым же самолётом его отправят в Москву. Вместе с “грузом 200”, то есть запаянным в цинк майором Сергомасовым, погибшим по его, старшего лейтенанта Курочкина, вине. Или всё же не по его? Как во времена Тараса Бульбы, с горькой обидой на свою неласковую Родину-мать подумал Курочкин. Кладут в могилу сначала убийцу связанного, а потом – гроб с телом убиенного…
Дикая страна, дикие нравы.
А потом сорвут погоны и с треском вышибут из органов.
Может, ему и сошло бы с рук всё с ним произошедшее, когда бы он был старый заслуженный кадр. Зубр разведки. Тоже, конечно бы, не сошло, но всё же… Но старший лейтенант Курочкин прибыл в страну вечных субтропиков ровно неделю назад – его и в СВР-то перевели только после того, как президент велел спецслужбам «не совать свой нос в гражданское общество», и ФСБ его услуги стали не нужны. Вот и учли знание испанского языка…
И сегодня было у него самое что ни на есть первое задание на вражеской территории. Он работал в прикрытии, то есть наблюдал тылы майора Сергомасова, который целый день выслеживал какого-то местного мужика.
Что за мужик и зачем покойнику понадобилось за ним следить, Курочкин не знал, знал только, что, вроде бы, из террористов. Цивилизованный мир объявил терроризму войну, а тут, в Латинской Америке, каждый второй – террорист, так что слежка за одним из них – дело не удивительное.
Битых пять часов таинственный мужик таскал их за собой по раскалённому городу. Впереди – террорист, следом за ним, обливаясь потом, ‑ майор Сергомасов и ещё дальше ‑ старший лейтенант Курочкин. Ясное дело, что Сергомасов держался на изрядной дистанции от мужика, а Курочкин – на изрядной дистанции от товарища майора. Так они следили друг за другом, пока откуда ни возьмись не выскочила из подворотни какая-то сумасшедшая баба и не выстрелила два раза в майора, после чего куда-то исчезли и она, и тот мужик, за которым следил Сергомасов. Курочкин в этот момент находился в толпе, метрах в пятнадцати от майора. Когда тот упал, Курочкин растерялся и в течение некоторого времени стоял столбом посреди взбесившейся толпы, не зная, что ему в данной ситуации полагается делать. Гнаться за бабой ему даже в голову не пришло. Она и, наверное, её мужик были при пушках, тогда как он и майор даже перочинных ножиков при себе не имели. Подойти к майору, оказать первую помощь – а можно ли?..
Такой инструкции ему дадено не было. Да и не умеет он оказывать никакой первой помощи. И от крови у него голова кружится и тянет в обморок упасть. Кроме того, он покойников до смерти боится. Он сроду вблизи не видел ни одного покойника. Даже когда отца хоронил, старался держаться как можно далее от гроба, накрытого кумачом.
Тем более никогда не приходилось ему видеть, как человек помирает. Он думал, что это бывает вона как: оглушительный выстрел – бабах! – по ущелью – человек изгибается – лицо обращено кверху – к небу – побелевшие губы что-то шепчут – знамя падает из рук – кадр замедляется – убитый падает долго-долго, так, что можно самому двадцать раз помереть, пока он падает. А тут всё было не так. Всё было как-то чересчур просто. Стоял-стоял человек, и вдруг упал. Щёлк-щёлк, и он упал без звука.
И от этой простоты так сделалось Курочкину жутко, что неизвестно ещё, как бы он себя повёл, когда бы не толпа маньянцев вокруг. Может, сразу бы сошёл с ума. Может, завыл бы. Но толпа его быстро отрезвила. Одну лишь минуту он ощущал нереальность, нелепость, ужас, чудовищность и т. д. произошедшего, и время вокруг него раскололось и обтекало его с двух сторон, в него не проникая. Потом, благодаря, отчасти, поднявшейся суете, он пришёл в себя и решил смыться, с каковою целью вошёл в первый попавшийся кабак, где его и повязал этот потный толстомордый полицейский, которого он только что недипломатично обозвал жопой.
И на всём белом свете некому было теперь заступиться за старшего лейтенанта, которому – видит бог – просто не повезло. Просто обстоятельства так сложились, а он-то в чём виноват? Ни в чём! Но кому теперь это докажешь. Были бы живы батя или дед – поддержали бы последнего представителя династии.
Но Курочкин-дед, полковник в отставке, награждённый орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, а также знаком “Почетный сотрудник государственной безопасности”, помер ещё в конце восьмидесятых. Всю жизнь дедан держал язык за зубами, и только под самый занавес начал плести всякие небылицы. Будучи под мухой, рассказывал внуку о том, как в пятидесятом году на своих руках затащил на высоту четыре тыщи метров и засыпал в жерло вулкана Мауна-Лоа на Гавайях три с половиной тонны тротила. Или о том, как в пятьдесят втором слямзил у американов ракету Р-5, которую вскоре Васька Сталин, прилетевший с проверкой на Капъяр[7], да подпив со свитой, лично запустил полетать, вследствие чего в одну секунду сгорело в ядерном пламени пол-Магнитогорска. Потом вдруг какой-то бойкий щелкопёр из перестроившегося “Московского Козломойца” ни с того ни с сего взял у дедушки интервью. Старый мудак сообщил, что собирается писать мемуары и ещё выдал буквально следующее: “Думаю, что молодым читателям будет любопытно узнать из первых рук подробности о таких значительных событиях, как убийство президента Кеннеди, карибский кризис и т. д.” Через три дня после публикации интервью дедушка скоропостижно скончался, не успев приступить к мемуарам. Похороны были по-чекистски скромными.
Курочкин-папа, полковник бывшего Пятого управления, впоследствии контрразведчик, окочурился в конце ельцинского правления на конспиративной квартире возле Белого Дома в умелых объятиях штатной сотрудницы Седьмого Управления, оперативный псевдоним Дерьмовочка. Организм старого служаки, подорванный алкоголем, не вынес ударной дозы стимулятора. Курочкин-сын, в то время ещё никакой не штатный сотрудник органов, а молодой художник, не имевший ещё персональных выставок, но многообещающий, об обстоятельствах отцовской смерти узнал из уст самой Дерьмовочки, которая ему, как и его папаше, никогда не отказывала в приватных удовольствиях.
Разумеется, ни словом он мамане об этом не обмолвился. Маманя свято верила в то, что супруг ея и повелитель принял смерть на боевом задании. Что, впрочем, не помешало ей спустя некоторое время утешиться с начальником местного собеса, наглым и нахрапистым ворюгой моложе её лет на десять. Вскоре начальник собеса радостно поселился в гэбэшном билдинге сталинской постройки неподалеку от метро Таганская-радиальная. Курочкина он ни в грош не ставил, а тот, будучи человеком мягким, порой даже чересчур мягким, противостоять этому паразиту не мог, тем более что маманя во всех домашних спорах брала сторону своего сожителя.
И когда жизнь Курочкина под одной крышей со сладкой парочкой сделалась совсем невыносимой, он пошёл в органы, где его, надо сказать, давно ждали. Ведь династия – великое дело для тех, кто понимает. А в органах непонимающих не держали и не держат. И надо же ему было так опрофаниться в первой же своей загранкомандировке!
И куда мне теперь, распалял себя Курочкин. В Чечню завербоваться? Так я крови боюсь. В коммерцию? Но у меня всегда было плохо с арифметикой. Вернуться в художники?..
А что, это мысль. Только там ковровой дорожки для меня не постелено. Придётся сидеть на Арбате и карандашные портреты рисовать по сто рублей штучка.
Тут какая-то интересная мысль скользнула в голове старшего лейтенанта, но так быстро, что он не успел схватить её за хвост и пристально рассмотреть.
И на что я променял искусство, горько вопрошал он сам себя. А? Нет бы, поселиться в Малаховке на даче, устроить там мастерскую на просторном чердаке, писать картины… Реализовывать свои таланты надо. Пусть я хоть три года посижу на Арбате, бабок набомблю, а там, глядишь, займусь серьёзной живописью, выставляться начну – хорошо! Ну, не выпустят за границу лет пять, да и чёрт с ней. Вот я и так за границей, и много мне с того радости?..
А что потом? Потом-то что? Когда сбудется обещанное отцом, когда Проект Века, разработанный великим Ювеналием Вацлавичем (который так скоропостижно скончался в восемьдесят третьем году, когда Курочкин ещё пешком под стол ходил) и осуществляемый его последователями, войдёт в свою третью, завершающую стадию, и снова затрепещут над Россией красные стяги, и снова будет СССР, и снова будут среди народа и паршивой интеллигенции страх и уважение к доблестным чекистам… Как караси на сковородке запрыгают тогда сучьи предатели, изменившие делу Железного Феликса – ради чего? Ради паршивых зелёных бумажек?.. Виляя хвостом, с этими самыми бумажками в зубах, на четвереньках приползут они на Лубянку, будут лебезить, врать, что ради дела партии полезли они в дерьмовище, будут унижаться, только бы взяли их обратно… Тьфу!..
Да нет, не пустят меня на Арбат с мольбертом, вдруг отчётливо понял Курочкин. Не дадут бабок набомбить. Не в традициях это советских органов государственной безопасности. Упекут меня в тюрягу без суда за то, что дал боевого товарища убить, и буду я там гнить, пока совсем не сгнию. И никаких красных флагов и счастья трудящегося человечества никогда уже не будет… Никаких выставок и признания в мире и в Отечестве.
Ну ладно, не тюрьма. Но со службы точно выгонят с волчьим билетом. И точно никаких выставок.
А не выгонят – то загонят служить на Чукотку, где двенадцать месяцев зима, остальное – лето. И эскимосы вокруг, одни эскимосы…
Это и была, что ли, та мысль, которую я поймать не успел, подумал он. Нет, мысль была другая. Что-то определённо связанное с живописью и Арбатом…
Боже, как не хочется на Родину!..
Комиссар Посседа слыл в уголовной полиции занудой и формалистом. Он троекратно спросил толпу, не видел ли кто, как произошло убийство, и толпа троекратно отреклась, хотя на самом деле видел каждый второй. Посседа ни на что и не рассчитывал. С чувством отчасти выполненного долга он направился к задержанному русскому дипломату.
– Итак, сеньор, – занудел комиссар, – как мы уже установили, на месте убийства вы присутствовали. Вы имеете право не отвечать мне без вашего консула и без переводчика, кстати, и за тем, и за другим уже послали, но я обязан задать вам вопрос: видели ли вы, кто стрелял?
Исполненный ненависти к зануде-комиссару, линейный сержант первой категории Пабло Каррера тем временем нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Его клокочущей утробе до убийства русского дипломата не было никакого дела. Утроба, сдобренная виноградной водкой, требовала воскресного обеда и надсадно урчала, не смущаясь присутствием ни комиссара Посседы, ни русского дипломата, который был тих и задумчив и больше ничего себе под нос не бормотал.
Труп уже увезли куда следует. Вместо незадачливого майора Сергомасова на раскалённом асфальте лежал очерченный мелом один только контур его силуэта. Два детектива из отдела по расследованию убийств задумчиво рассекали толпу, которая уже начала рассасываться, утратив интерес к произошедшему. Двое репортёров попивали пиво, демонстрируя на наглых мордах полное безразличие к Посседе, к русскому и к самому Пабло, что было последнему несколько обидно. Впрочем, он успел дать блиц-интервью, не преминув отметить свои заслуги в этом деле, и надеялся, что по радио прозвучала уже в дневных дежурных новостях его динамичная фамилия.
Теперь же, по мнению Пабло, делать здесь им более было нечего. Убийство – типичный висяк, свидетелей нет и не будет, орудия убийства нет и не будет, и не жалко: пускай бы эти русские сами разбирались между собой на своих заснеженных просторах. Конечно, комиссар обязан исполнить разные формальности, предписываемые протоколом. Но двадцатилетний опыт службы в столичной полиции подсказывал Пабло, что результат будет определенно равен нулю. То есть, конечно, всякому понятно, что не менее сотни человек видели, кто стрелял, из чего стрелял, в какую сторону потом побежал. Но лицезреть своими глазами живого и здорового очевидца, свидетеля преднамеренного убийства, дающего показания следствию, Пабло за всю службу ни разу не доводилось. Мёртвых свидетелей – тех видел пару раз. Избитого до полусмерти и забывшего как маму зовут – тоже разок пришлось. Живого, здорового и говорящего – нет.
Так что чего, спрашивается, усердствовать? Тем более, что Посседа всё равно не будет этим делом заниматься – совсем в другое ведомство это убийство передадут. Всё-таки дипломата убили, не абы кого. Но и там ничего не раскопают. А если даже и раскопают что-нибудь? Например, что русский сидел на игле, купил у драгдилера дозу, а платить отказался, положившись на свой дипломатический иммунитет, вот и схлопотал по полной программе. К примеру. И что тогда? А ничего. В лучшем случае поставят в известность посла. А скорей всего, не поставят. А постараются забыть об этом как можно скорей.
Санта Мария, неужели ему придется торчать на этой жаре, пока не приедет русский консул?.. Если ещё его сразу найдут в воскресенье. Если он не смотался с парочкой путан на всё воскресенье куда-нибудь в Акапулько размять мослы на берегу океана. Будь оно всё неладно. Пабло сглотнул слюну.
– Не надо консула, – вдруг заговорил хриплым голосом задержанный русский.
– Извиняюсь? – переспросил комиссар.
– Я говорю, не надо консула, – заговорил русский на ужасающем испанском. – Я видел, кто стрелял. Я готов дать показания. Только не надо консула. Por favor.
Комиссар выронил на асфальт блокнот, который держал в руке, и полез в карман. Дон Пабло вытаращил глаза.
Святая Мария! Матерь Божья!
Мир рушится! Живой свидетель убийства готов говорить!..
– Я всё расскажу, – проглатывая слова, забормотал русский странным голосом. – Только не надо консула. И возьмите с меня подписку о невыезде!.. Пожалуйста!..
– Простите, сеньор, я, наверное, неправильно понял? – осторожно осведомился Посседа. – Вы действительно не хотите видеть вашего консула?
– Да! Нет! – нервно сказал русский.
Дальше он говорил захлёбываясь, перемежая понятные испанские слова непонятными русскими словами и ещё более непонятными междометиями.
– Не хочу, сука, не хочу я консула никакого! Забери меня куда-нибудь отсюда, куда-нибудь в участок, я тебе всё расскажу! И не только расскажу, я тебе портрет нарисую той бабы, которая стреляла! Доскональный портрет! Лучше любой фотографии! Я художник!
– Но так не полагается, сеньор, – вежливо сказал Посседа. – Вы обязаны потребовать присутствия кон…
– Мудак ты гребаный! – Курочкин перешёл на чистый русский. – Ты знаешь, козёл, что такое двенадцать месяцев зима, остальное лето? И одни эскимосы вокруг?..
– Que, сеньор?..
– Фуйкэ! – воскликнул старший лейтенант и заплакал.
Тут, деликатно кашлянув, вмешался дон Пабло:
– Ruego que me perdone[8], сеньор комиссар, но, если я правильно понял, парень собирается нам нарисовать портрет убийцы?
– Пердон ты, оба вы пердоны, – простонал русский, топая от страха ногами. – Поедем, сволочи! У них же на тачке мотор форсированный!..
– Вот видите, значит, я прав, сеньор комиссар. Мне кажется, надо этим воспользоваться.
Узкая сизая физиономия комиссара стала приобретать осмысленное выражение. Он быстро сказал:
– Если вы, сеньор, не откажетесь проехать с нами в Управление Полиции… Без малейшего принуждения, что будет зафиксировано в протоколе… Прямо сейчас.
– Да si[9] же, твою мать, тупая ты скотина! – сказал Курочкин, и плач его сразу прекратился, как тёплый майский дождичек в Москве. – Поехали скорей!
– Тогда я должен зачитать вам ваши права…
– Да какие у меня права! – закричал Курочкин. – Поехали скорей!
И они начали рассаживаться по машинам, причём предусмотрительный Посседа приказал исчезнуть с места преступления всем детективам, включая изнемогавшего от голода Пабло. Пока русские прочухают, куда увезли их сотрудника, пока прорвутся внутрь государственного учреждения, пока доберутся до высшего руководства – парень, пожалуй, успеет им кое-что рассказать.
Ровно через пять минут неподалеку от места происшествия взвизгнули тормоза тёмно-синего “мерседеса” с сине-бело-красным флажком на капоте. Выскочившие из машины резидент внешней разведки генерал-майор Петров и консул Гречанинов, расталкивая людей, бросились туда, где, раскинувшись на асфальте, загорал под тропическим солнцем нарисованный мелом мёртвый человек.
Но они опоздали: никого из полицейских чинов уже не было на месте. Уехал и Пабло Каррера. Многолетний опыт, а вернее, особое шестое полицейское чувство, выработанное за долгие годы безупречной службы, подсказывало ему, что всё произошедшее может обернуться для него внезапной выгодой. Пусть он простой маньянский дядька с пистолетом, деньги ему – в силу обстоятельств – во как нужны!.. А если удастся добыть адрес этого русского художника, то эту информацию можно потом продать журналистам, которые, ну, конечно же, захотят побеседовать с живым свидетелем убийства, готовым говорить.
Ведь это такая редкость в стране Маньяне!
7
Капустин Яр – секретный ракетный полигон под Волгоградом.
8
прошу прощения (исп.)
9
да (исп.)