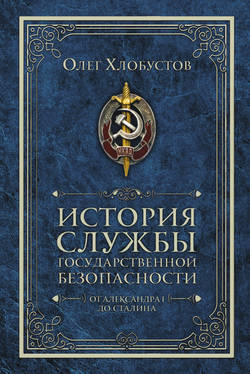Читать книгу История службы государственной безопасности. От Александра I до Сталина - Олег Хлобустов - Страница 2
Часть 1
Политический сыск и контрразведка в России в XIX – начале XX века
Собственная Его Императорского Величества канцелярия
ОглавлениеНесмотря на то что разведка, контрразведка и политический сыск в России фактически ведут свою родословную со времен царя Ивана IV Грозного, как особая государственная служба они оформились лишь к концу XIX – началу XX веков, и тогда же возникли соответствующие государственные институты.
Сам термин «государственная безопасность» впервые встречается в Манифесте Николая I от 13 июля 1826 года «О совершении приговора над государственными преступниками» (как нетрудно догадаться, речь в нем идет о вооруженном выступлении на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в декабре предыдущего года).
В России в XVII–XVIII веках функции политического сыска и отчасти борьбы с «иностранным шпионством» последовательно выполняли Преображенский приказ, Тайная канцелярия и Тайная экспедиция.
Убийство в результате очередного дворцового переворота императора Павла I и восшествие на престол его старшего сына Александра Павловича повлекли за собой масштабную реформу, сопровождавшуюся ликвидацией коллегий и учреждением новой системы государственного управления.
На образованное 8 сентября 1802 года Министерство внутренних дел в числе прочих функций возлагалось и «попечение о повсеместном благосостоянии народа, о спокойствии, тишине и благоустройстве всей империи». Второй экспедиции этого министерства были вверены «дела благочиния».
Тринадцатого января 1807 года был учрежден Комитет общей безопасности (формально он просуществовал до января 1829 года, однако пик его деятельности пришелся на 1807–1810 годы). Задачей этой структуры было «предупреждать пагубные замыслы внешних врагов государства», а также организовать политический сыск и «предписывать порядок следствий и наблюдать за производством оных». Фактически же на комитет возлагалась также и контрразведка: он ведал делами о «переписывающихся с неприятелем, подозреваемых в зловредных разглашениях, в государственной измене», а также делами о возбуждении народа «слухами и наветами», о составлении «возмутительных воззваний и вредных сочинений», об «обществах и запрещенных сходбищах».
С образованием в 1810 году Министерства полиции ему были поручены все дела «внутренней безопасности». На учрежденную императорским указом 25 июня 1811 года Особенную канцелярию в числе прочих «дел благочиния» были возложены и дела об иностранцах, шпионаже, деятельности масонских лож, религиозных сект, распространении всевозможных слухов и толков.
Возглавил Особенную канцелярию Максим Яковлевич фон Фок, оказавшийся непревзойденным мастером агентурной работы и впоследствии, с 1826 по 1831 год, занимавший пост управляющего III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (С. Е. И. В. К.). С упразднением Министерства полиции в 1819 году Особенная канцелярия во главе с фон Фоком вновь вошла в структуру Министерства внутренних дел Российской империи. В губерниях организацией работы по «делам благочиния» и политическому сыску долженствовало заниматься губернаторам.
Несмотря на доносы и сообщения агентов о появлении многочисленных тайных обществ и активной деятельности масонских лож (последняя, правда, была запрещена императором в 1822 году), а также о о брожении в офицерских кругах и возникновении оппозиционных организаций, выдвигавших конституционно-республиканские программы, вооруженное выступление на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года стало для властей полной неожиданностью.
Примечателен тот факт, что в период работы в следственной комиссии по делу декабристов А. X. Бенкендорф не только познакомился с идеями П. И. Пестеля об организации «высшего благочиния», изложенными этим «государевым преступником» в проекте «Русской правды», но впоследствии и реализовал многие из них при создании III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
В январе 1826 года Бенкендорф представил императору Николаю Павловичу первую «верноподданическую записку» об учреждении новой тайной полиции, «какую бы боялись и уважали». В результате указом императора от 3 июля 1826 года и было основано III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии под началом генерал-адъютанта Бенкендорфа.
Ныне истории этой структуры в отечественной историографии посвящено немалое число работ. Однако первой из них является очерк в юбилейном издании «Министерство внутренних дел России. 1802–1902 годы», подготовленном под руководством министра Д. С. Сипягина и изданном по его дозволению. Большая часть текста была написана чиновником упомянутого министерства С. А. Андриановым.
Познакомим читателей с фрагментами этого первого официального очерка по истории органов государственной безопасности Российской империи.
«Высочайшим указом 3 июля 1826 г. Особая канцелярия Министерства внутренних дел преобразована в Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Круг ведения нового учреждения определен так:
1. все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей полиции;
2. сведения о числе существующих в государстве разных сект и расколов;
3. известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, монетам, штемпелям, документам и проч., коих розыскание и дальнейшее производство остаются в зависимости министров финансов и внутренних дел;
4. сведения подробные о всех людях, под надзором полиции состоящих, равно и все по сему предмету распоряжения;
5. высылка и размещение людей подозрительных и вредных;
6. заведывание наблюдательное и хозяйственное всех мест заключения, в коих заключаются государственные преступники;
7. все постановления и распоряжения об иностранцах, в России проживающих, в пределы государства прибывающих и из оного выезжающих;
8. ведомости о всех без исключения происшествиях;
9. статистические сведения, до полиции относящиеся».
В 1828 году к этим обязанностям присоединена была еще и театральная цензура.
«Таким образом, – писал официальный полицейский историограф Андрианов, – высшая полиция и жандармская часть соединялись под начальством одного лица и вступали в тесную связь, которая значительно видоизменила круг обязанностей жандармских чинов».
Граф Бенкендорф в своих записках так объясняет возникновение вверенного ему учреждения: «Император Николай стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во многие части управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего кровью первые минуты нового царствования, в необходимости повсеместного, более бдительного надзора, который окончательно стекался бы в одно средоточие. Государь избрал меня для образования высшей полиции, которая бы покровительствовала угнетенным и наблюдала бы за злоумышлениями и людьми, к ним склонными».
Таким образом, отмечает Андрианов, император создавал орган, при помощи которого он мог непосредственно следить не только за появлением антигосударственных элементов в обществе, но и за действиями всей сложной административной машины. Поэтому Высочайшее повеление об учреждении Третьего отделения гласит между прочим: «Предписать всем начальникам губерний и сообщить всем другим лицам, до которых сие касаться может, дабы они о всех предметах, входящих в состав III отделения Собственной Моей канцелярии, доносили прямо на мое имя, с надписью: по III отделению сей Моей канцелярии».
Четырнадцатого июля 1826 года Бенкендорф представил на утверждение Николаю I структуру и штат нового отделения императорской канцелярии, а уже 27 июля оно приступило к работе.
Изначально организация III отделения С. Е. И. В. К. была следующая.
Первая экспедиция «ведает предметы высшей полиции и сосредотачивает сведения о лицах, состоящих под полицейским надзором».
Вторая экспедиция занималась сектантами и раскольниками, а также теми, кто изготовлял фальшивые деньги и документы. Кроме того, под ее началом находилась хозяйственная часть всех мест, где держали в заключении государственных преступников.
Выполнение, выражаясь современным языком, контрразведывательных функций по наблюдению за иностранцами и их выдворению за пределы империи возлагалось на Третью экспедицию.
Четвертая экспедиция составляла отчеты и вела «переписку о всех вообще происшествиях в империи».
Штат сотрудников III отделения в 1826 году был определен в 16 человек; в 1829 году он был увеличен до 20 человек, а в 1841-м – до 28. Затем, в 1842 году, была образована Пятая экспедиция (занимавшаяся театральной цензурой) в составе 3 сотрудников; в 1849 году определены еще 3 чиновника для содержания архива, и, наконец, в 1850 году разрешено было усилить III отделение еще 6 чиновниками.
В апреле 1856 года штат отделения включал 41 чиновника и еще 8 прикомандированных лиц. А к моменту его ликвидации в августе 1880 года там насчитывалось 72 сотрудника.
Правда, к этому необходимо прибавить также около 5500 чинов Корпуса жандармов: он был учрежден 28 апреля 1827 года, а с 1835 года стал официально именоваться Отдельным корпусом жандармов, и к концу следующего года там было уже 4278 служащих. А всего на 1 января 1880 года в штате Отдельного корпуса жандармов состояли 521 офицер и 6287 нижних чинов.
В отличие от своих предшественников, III отделение было не только головным органом политического сыска, но и координировало деятельность полицейских и жандармских властей на всей территории Российской империи.
Помимо прочего, III отделение С. Е. И. В. К. готовило ежегодные нравственно-политические отчеты «о состоянии народного духа», представляющие собой интереснейший источник для изучения социально-политической истории России.
Процитируем первый из указанных отчетов о деятельности III отделения. Он был составлен на французском языке управляющим канцелярией III отделения М. Я. фон Фоком, что свидетельствует как о степени доверия Бенкендорфа этому сотруднику, так и о его роли в истории страны.
Стремясь представить императору полную картину о назначении и «методологии» деятельности политической полиции, фон Фок осмелился начать «всеподданнейший краткий обзор общественного мнения за 1827 год» следующими словами: «Общественное мнение для власти то же, что топографическая карта для начальствующего армией во время войны. Но составить верный обзор общественного мнения так же трудно, как и сделать точную топографическую карту. Чтобы ознакомиться с мнением большинства во всех классах общества, то есть с мнением лиц, пользующихся в своем кругу наибольшим влиянием, органы высшего надзора использовали все находящиеся в их распоряжении средства, а также содействие достойных доверия и уважения лиц. Все данные проверялись по нескольку раз для того, чтобы мнение какой-либо партии не было принято за мнение целого класса. Представляем здесь краткий обзор результатов этого исследования…»
Обращаем внимание читателей на два важных обстоятельства.
Во-первых, понимание политической элитой того времени объективного факта: структура общества складывается из различных групп населения, уже тогда именовавшихся классами.
Во-вторых, наличие внутри подобных «классов» течений и групп, придерживавшихся различной ориентации и взглядов, именовавшихся «партиями», хотя понятно, что они и не являлись политическими партиями в современном значении этого слова.
Далее в упомянутом документе III отделение информировало монарха о настроениях двора, «высшего общества» (представленного классами «довольных» и «недовольных» политикой императора) и «среднего класса», к которому были отнесены помещики, купцы первой гильдии, «образованные люди» и литераторы, представители чиновничества, армии, духовенства и крепостных крестьян. Помимо этого давался обзор «умонастроений» населения национальных провинций: Эстляндии, Ливонии, Курляндии, Финляндии и Польши.
Приведем также полностью заключительный раздел этого документа, автор которого не только дерзнул представить на высочайший суд оценку состояния социальной ситуации в стране, но и изложил собственное видение мер, необходимых для укрепления авторитета самодержавной власти в различных классах общества:
«Отличительной чертой нашего века является его активность. Пружины правительственного механизма в большинстве случаев действовали плохо, ход дел пришел в расстройство; первые места были заняты людьми неспособными или нерадивыми; хищения и взяточничество не прекращались.
Вот что породило то неудовольствие, то болезненное настроение умов, которое так пагубно проявилось за эти последние два года. Деятельность Государя императора влила новую жизнь в умы и сердца. Большинство суждений ему благоприятно, но вся Россия ждет с нетерпением перемен как в системе, так и в людях. Требуется вновь завести машину. Ключами для этого являются правосудие и промышленность. Вот чего не хватало России. Чтобы у каждой пружины иметь верных двигателей, надо урегулировать воспитание и образование юношества.
Самые благонамеренные люди изнывают в ожидании и не перестают повторять: „Если этот Государь не преобразует Россию, никто не остановит ее падение. Российскому императору нужны только ум, твердость и воля (последние три слова подчеркнуты в подлиннике документа фон Фоком. – О. X.), а наш Государь обладает этими качествами во всей их полноте“».
Следует отметить, что с момента своего образования III отделение С. Е. И. В. К., как и его исторические предшественники и преемники, взяло на вооружение в качестве главных методов борьбы с крамолой внутреннее (агентурное) осведомление, наружное наблюдение за «злоумышленниками» и «неблагонадежными» и перлюстрацию частной и деловой корреспонденции, в том числе и иностранных граждан (так называемые черные кабинеты). Методы эти отнюдь не являлись чисто российским изобретением и применялись (да и применяются поныне) разведывательными и контрразведывательными службами и правоохранительными органами всего мира.
Точно так же во все времена, включая и советский период отечественной истории, среди агентов политической полиции было немало авантюристов и проходимцев. Многие из этих «секретных сотрудников» стремились использовать сотрудничество с «органами» для достижения собственных, сугубо личных и корыстных целей, не гнушаясь при этом оговорами, провокацией и фальсификацией доказательств. Нередко провокация (как это было во времена III отделения, а затем – Г. П. Судейкина, П. И. Рачковского, С. В. Зубатова) возводилась в организационный принцип оперативно-розыскной работы.
Вернемся, однако, к первому очерку по истории политической полиции России и вновь процитируем Андрианова: «Имея основною целью своей деятельности охранение устоев русской государственной жизни, III отделение С. Е. И. В. канцелярии сосредоточивало преимущественное внимание свое на разных вопросах, выбирая те стороны жизни, которые по обстоятельствам данного времени получали преобладающее значение.
Политическая часть в первые годы царствования императора Николая Павловича не требовала особых усилий, потому что почти все революционные элементы, образовавшиеся в предшествующую эпоху, были захвачены процессом декабристов. Поэтому деятельность III отделения по политическому надзору ограничивалась почти исключительно распоряжениями касательно осужденных декабристов.
Вполне спокойное настроение массы общества не подлежало сомнению, но некоторые отдельные личности и особенно кружки молодежи привлекали внимание III отделения, которое стояло на той точке зрения, что со злом надо бороться в его зародыше, так как отвлеченные разговоры в тесном кружке легко могут получить распространение и перейти в недопустимые поступки, а тогда неизбежной каре придется подвергать уже значительно большее количество лиц…»
«Спокойное течение общественной жизни в коренных русских губерниях, – продолжал полицейский историограф, – дало возможность III отделению внимательно отнестись и ко второй задаче его деятельности, то есть к наблюдению за недостатками общественного строя и администрации. С первых же месяцев своего существования III отделение занялось изучением состояния России и раскрытием тех сторон ее жизни, которые, не соответствуя современным требованиям действительности, уже вызвали отрицательное отношение лучших и наиболее сознательных умов, а в будущем, хотя бы и далеком, могли повести к массовому недовольству и, следовательно, нарушить общественное спокойствие.
Так, после тщательного изучения крестьянского вопроса, III отделение пришло к зрелому выводу о необходимости и даже неизбежности отмены крепостного состояния в непродолжительном времени…»
Хотим обратить внимание читателей на следующий абзац данного документа: «Особое значение придавало III отделение и рабочему вопросу, о котором у нас в то время мало кто думал, так как самое количество профессиональных рабочих было в России ничтожно и достигало некоторой значимости только в столицах. Заботясь об улучшении быта столичных рабочих, III отделение настояло на устройстве в Санкт-Петербурге постоянной больницы для чернорабочих, а вскоре по ее образцу была открыта такая же больница и в Москве».
Не менее интересно и то, что автор первой официальной истории политической полиции Российской империи пишет далее: «Усиление деятельности по политической части возобновилось в III отделении с 1848 года, когда Февральская революция во Франции и ряд политических движений, взволновавших почти всю Европу, нашли отражение и у нас в Западном крае. Поляки с живейшим интересом следили за европейскими революционными движениями: появились многочисленные прокламации, пошла усиленная пропаганда, местами вспыхивали беспорядки, много поляков эмигрировало за границу (в течение 1848–1849 гг. – свыше 1500 человек)».
Однако «остальные части империи оставались совершенно спокойны, и не было никакого повода опасаться волнений или беспорядков», хотя III отделение и беспокоил тот факт, что «мнения, господствовавшие в некоторых наших литературных кружках, казались органически связанными с крайними учениями французских теоретиков». А поэтому «состоялось Высочайшее повеление принять энергичные и решительные меры против наплыва в Россию разрушительных теорий; часть этих мер была возложена на III отделение».
Вот как пишет Андрианов о самом главном политическом процессе времен Николая I: «В такую-то тревожную пору и возникло дело о кружке Буташевича-Петрашевского. Впрочем, к делу Петрашевского III отделение имело только косвенное отношение, так как ведение следствия и самый суд над виновными были сосредоточены в Военном ведомстве».
Появление за границей политической эмиграции, состоявшей в основном из поляков, покинувших Россию после подавления очередного восстания, вызвало как зарождение института заграничной агентуры III отделения С. Е. И. В. К., так и усиление надзора за иностранцами, прибывающими в пределы страны. При этом, как и во времена Екатерины II, свободолюбивая мысль Европы считалась одной из главных внешних угроз спокойствию государства.
Готовя на основании полученных от заграничных агентов сообщений обзоры внешнеполитического состояния Российской империи, III отделение фактически выполняло также функцию внешнеполитической разведки. Правда, этим занимались наряду с ним посольства и посланники Министерства иностранных дел и военные агенты (атташе) Военного ведомства.
Революционные события 1848 года в Европе привели к еще более тесному сплочению для «борьбы с крамолой» не только III отделения, Отдельного корпуса жандармов и губернской полиции. К этой борьбе подключили также и другие структуры: министерства иностранных и внутренних дел, юстиции и просвещения. Это объяснялось тем, что, по мнению руководства III отделения, «умственная зараза» проникала в Россию тремя основными путями: «путешествиями наших по Европе, просвещением и ввозом к нам иностранных книг».
Первые оперативные контакты со своими зарубежными коллегами III отделение установило в 1835 году, командировав в Австрию по приглашению ее канцлера жандармского подполковника Н. И. Озерецкого.
В 1850-1860-е годы эта структура самое пристальное внимание уделяла слежке за Вольной русской типографией А. И. Герцена в Лондоне, издания которой, нелегально переправляемые в Россию, встречали здесь большой интерес и отклик.
Но деятельность агентуры III отделения не оставалась секретом и для самих поднадзорных. Так, в декабре 1860 года А. И. Герцен и Н. П. Огарёв уведомляли издателя газеты «Дэйли ньюз» о приезде в Лондон управляющего III отделения А. Е. Тимашева, целью которого являлось преследование Вольной русской типографии и ее создателей.
Позднее не меньшее беспокойство политической полиции империи стали внушать политэмигранты: С. Г. Нечаев, М. А. Бакунин и П. Л. Лавров.
В конце 50-х годов XIX века губернаторы и жандармские штаб-офицеры все чаще доносили в III отделение об усилении «глухого брожения» среди крестьянства. И действительно, только в 1857–1861 годах в России произошло 2165 крестьянских волнений, причем почти 62 % их приходится на январь – май 1861 года.
Как отмечалось в официальном обзоре деятельности III отделения за пятьдесят лет работы, оно, совместно с Отдельным корпусом жандармов, «принимая участие в предупреждении крестьянских волнений… в то же время следило за беспристрастием и правильным ходом дела, постоянно обращая внимание на те уклонения от закона, которые извращали высочайшую волю».
Уже во второй половине 1830-х годов жандармские офицеры все чаще стали доносить Бенкендорфу и сменившему его на посту начальника III отделения А. Ф. Орлову о волнениях рабочих промышленных предприятий, докладывая о вызывавших их причинах, ходе следствия по возникающим в связи с этим делам, бедственном положении мастеровых и необходимости оказания им помощи для предупреждения социального взрыва.
Причем эта информация, на основании которой готовились доклады Николаю I, зачастую более объективно освещала события (радение о спокойствии империи в целом и в отдельных ее местах!), нежели сообщения местных властей, стремившихся скрывать подлинные причины и масштабы происходившего.
Так, по представлению III отделения в соответствии с указом Николая в мае 1839 года в Санкт-Петербурге была основана больница на четыреста коек для беднейших слоев населения, а в 1844 году аналогичная больница появилась в Москве. В 1841 году, сообщалось в юбилейном отчете, «была учреждена под председательством генерал-майора корпуса жандармов П. Ф. Буксгевдена особая комиссия для исследования быта рабочих людей и ремесленников в Санкт-Петербурге. Представленные ею сведения были сообщены подлежащим министерствам и вызвали некоторые административные меры, содействовавшие улучшению положения столичного рабочего населения». По результатам работы комиссии 18 декабря 1841 года Бенкендорф представил императору записку «О мерах к отвращению беспорядков в содержании рабочих и ремесленников в Санкт-Петербурге».
Еще в апреле 1869 года Александр II предписывал начальнику Московского губернского жандармского управления генералу И. Л. Слёзкину обратить «особенное внимание на фабрики и фабричных рабочих». Последний, в свою очередь, отмечая, что «рабочие… весьма легко могут быть увлекаемы к разным беспорядкам и даже стачкам», обязал своих подчиненных «иметь самое тщательное наблюдение за фабриками, заводами, мастерскими и вообще за всеми теми местами, где находится приток рабочих, стараться узнавать негласно, не находятся ли между ними злонамеренные лица».
В июне 1869 года в циркуляре III отделения начальникам губернских жандармских управлений подчеркивалось, что «в среде молодежи сильно распространяется вредное в общественном и политическом отношениях направление, и молодежь эта предполагает действовать в возмутительном духе преимущественно среди нижних слоев населения…», причем «агитирующие обращают особое внимание на рабочие артели, в среде которых предполагают развивать социализм».
С середины 1850-х годов все чаще стали возникать также студенческие волнения в университетах. Как отмечалось в нравственно-политическом отчете III отделения за 1858 год, студенты «начали предъявлять неудовольствие на существующий порядок, желать преобразований, обращаться к начальству с разными просьбами». А начиная с 1861 года волнения студентов приобретают «хронический характер» и будут продолжаться вплоть до выхода «даровавшего свободы» царского Манифеста от 17 октября 1905 года.
Так, только при разгоне сходки 12 октября 1861 года были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость триста студентов Санкт-Петербургского университета. В тот же день в Москве были задержаны за участие в демонстрации перед домом генерал-губернатора еще три сотни человек, тридцать девять из которых впоследствии были высланы под надзор полиции.
«Волнения в университетах, – писал в 1888 году один из первых аналитиков-криминологов Департамента полиции Николай Николаевич Голицын, – которые принимали иногда очень серьезный размер, открыли собою начало революционных волнений в русском обществе. Дурные примеры прививались очень быстро, и 17 октября 1861 г. уже имел место первый „политический процесс“, рассмотренный Сенатом (процесс Михаила Михайлова). Переживалось тяжелое время… разгул печати, беспорядки в высших учебных заведениях, появление нового типа женщины – „нигилистки“, „стриженой“… нового и совершенно неизвестного до сих пор типа русского бунтаря, анархиста и „нигилиста“; собрания, темные слухи, сильное экономическое потрясение вследствие изменений отношений между помещиками и крестьянами и т. п. – таковы были новые факторы в первые годы освободительной эпохи. Подпольное движение начало приобретать устойчивость; политические процессы продолжались непрерывно: в 1861 г. их было 2; в 1962 г. – 8, в 1863 г. – 6, в 1864 г. – 4. Становилось очевидным, что приходится иметь дело с известной силой, если не организованной, то во всяком случае широкой, завладевшей частью общества, главным образом молодежью, этой представительницей ближайшего будущего, силы которой были столь необходимы стране для того чтобы довершить дело реформ, уже дарованных и тех, которые должны были еще последовать».
Далее, по словам Голицына, движение начало вовсю развиваться и «выдвигать тип смелых характеров вроде Рахметова – тип непоколебимого физического колосса, вышедшего из низших слоев общества, нечто вроде Геркулеса, каких мог еще в то время выставлять русский народ».
Здесь необходимо пояснить, что мы процитировали выше официальный отчет, подготовленный в Департаменте полиции по поручению министра чиновником для особых поручений Голицыным. Документ этот назывался «Хроника социалистического движения в России. 1878–1887» и был предназначен для передачи французской полиции с целью укрепить взаимное сотрудничество в деле борьбы с российской политической эмиграцией. В 1890 году типография Министерства внутренних дел издала эту брошюру тиражом в сто экземпляров. В самом начале революции 1905 года один экземпляр данного издания попал в руки революционеров и весной следующего года был ими легально опубликован в Москве, в типографии книгоиздательства В. М. Саблина.
Выстрел Д. В. Каракозова, покушавшегося на жизнь императора Александра II 4 апреля 1866 года у ворот Летнего сада в Санкт-Петербурге, открыл новую эпоху в истории России – эпоху политического терроризма.
«События 4 апреля», как в официальных документах того времени именовалось покушение на монарха, и расследование связанных с этим обстоятельств положили начало ужесточению карательной политики самодержавия. Так в России зародился известный алгоритм, действовавший потом на протяжении многих лет: террористическое покушение ведет к ужесточению политических репрессий, в том числе и необоснованных, а последние, в свою очередь, – к новым террористическим актам.
Только в Петербурге в апреле 1866 года было проведено около 450 обысков и арестовано около 200 человек. В Москве была вскрыта целая организация, вынашивавшая планы цареубийства.
В связи с последовавшим после покушения Каракозова усилением реакции все учреждения, порожденные реформами 1860-х годов, были взяты под жандармско-полицейский контроль, в том числе суды, земства, губернские и творческие собрания, университеты, школы и народные училища.
Особый интерес для III отделения представляли высшие учебные заведения, их преподаватели и, конечно, студенты. По сведениям его сотрудников, в период с 1873-го по январь 1877 года учащиеся высших и средних специальных заведений составляли свыше половины от общего числа лиц, «причастных к антиправительственной пропаганде и деятельности».
«События 4 апреля» закономерно повлекли за собой резкое усиление «охранительных» настроений, прежде всего в придворных и правительственных кругах.
В записке нового начальника III отделения и шефа жандармов П. А. Шувалова указывалось, что «под внешностью общего спокойствия и порядка некоторые слои общества подвергаются разрушительным действиям вредных элементов, выпускаемых отчасти из извращенных ученых и учебных заведений», которые «проникнутые самым крайним социализмом… образуют себе приверженцев, распространяющих в народе вредные теории».
Тринадцатого мая 1866 года появился царский указ, определявший задачи «воспитания юношества в духе истин религии, уважения к правам собственности и соблюдения основных начал общественного порядка». Александр II при этом апеллировал к содействию «здравых, охранительных и добронадежных сил» общества. В мае же последовало закрытие журнала «Русское слово», а в июне – «Современника», бывших, с точки зрения властей, главными «рассадниками крамолы».
Во «всеподданнейшем» отчете о действиях III отделения и Корпуса жандармов за 1866 год подчеркивалось, что «обстоятельства дела о событиях 4 апреля представили фактические доказательства, что те разрушительные начала и пагубное направление, которые вкоренились в известной среде нашего общества, преимущественно в юношестве, не только продолжают существовать, но и приобретают все более последователей, не останавливающихся ни перед какими преградами и готовых на самые безнравственные и кровавые преступления».
Правительство, писал все тот же Голицын, «которое до сих пор мягко относилось к вопросу о нигилизме и нигилистах, теперь прибегнуло к более энергичным мерам… В 1867 г. был один только политический процесс, а с 1868-го по 1870-й – ни одного. Преследуемые внутри России нигилисты и социалисты принуждены были эмигрировать за границу, и в этот именно период началось усиленное бегство и паломничество в Цюрих и Женеву».
В сентябре 1867 года вместо ранее существовавших жандармских округов образуются губернские жандармские и жандармско-полицейские управления железных дорог (правда, последние до 1906 года не принимали участия ни в осуществлении политического розыска и надзора, ни в дознании по делам о государственных преступлениях, исполняя лишь общеполицейские функции).
Эти преобразования должны были осовременить систему политического розыска, приспособить ее к изменяющейся обстановке в стране. При этом губернским жандармским управлениям, ставшим основными розыскными органами империи по политическим делам о покушениях на государственную безопасность, вменялось в обязанность заводить и активно использовать «секретную агентуру для освещения и пресечения действий неблагонадежных лиц».
Как уточнялось в циркуляре № 17 шефа жандармов А. Л. Потапова от 14 февраля 1875 года, основной задачей жандармских управлений является наблюдение «за духом всего населения и за направлением политических идей общества», а также раскрытие и преследование любых попыток «к распространению вредных учений, клонящихся к колебанию коренных основ государственной, общественной и семейной жизни» в соответствии с законом от 19 мая 1871 года «О порядке действий чинов Корпуса жандармов по исследованию преступлений».
О масштабах деятельности III отделения как головного органа политического сыска империи свидетельствует тот факт, что только в 1869 году им было представлено императору 897 «всеподданнейших» докладов, заведено 2040 новых дел, получено 21 215 входящих и разослано 8839 исходящих документов.
В 1871 году в Петербурге возникает знаменитый кружок Н. В. Чайковского. Он просуществовал восемь лет, привлек в свои ряды тысячи участников и явился одним из главных организаторов знаменитого хождения в народ 1874–1875 годов – массовой общественно-политической кампании, охватившей, по официальным данным, тридцать семь губерний Европейской части России.
Полицейский аналитик Голицын сокрушался по этому поводу: «начался период образования и деятельности „кружков самообразования“ среди молодежи; кружки эти должны были заменить революционную организацию, и преследовать их было труднее. Кружки эти возникали повсюду, они были во всяком большом провинциальном городе».
В связи с этим правительство изыскивает новые способы борьбы с крамолой. Закон от 19 мая 1871 года вернул III отделению право производства дознания по всем государственным и политическим преступлениям, которого оно было лишено после издания судебных уставов 1864 года, а также позволил ему выносить «частные определения об отправлении неблагонадежных в ссылку или под надзор полиции в особом порядке».
Этот же закон, в связи с увеличением числа политических процессов в судах, возложил ведение дознания и следствия по государственным преступлениям на жандармские управления, минуя судебных следователей, как это было предписано судебной реформой.
С 1871 года III отделение С. Е. И. В. К. начинает ежегодно рассылать в жандармские управления «алфавитные списки» всех лиц, состоящих под негласным наблюдением политической полиции, а также тех эмигрантов, кто подлежит «задержанию в случае попытки приникнуть в Россию».
В 1872 году под негласным надзором 59 губернских жандармских управлений (не считая Петербурга и ряда уездов Петербургской губернии) состоял 1061 человек, а к январю 1878 г. эта цифра увеличилась до 2575 человек, причем сюда не входили поднадзорные в Польше, Финляндии и на Кавказе.
Если в административной ссылке на 1 января 1875 года (исключая Сибирь, Кавказ и Закавказье) находилось 15 829 человек, то к маю того же года их число возросло до 18 945 человек.
Для борьбы с «распространением крамолы», вскрытым в ходе многочисленных арестов 1874–1875 годов участников хождения в народ, в III отделении начинают создаваться так называемая библиотека «всех противу-правительственных изданий», а также «алфавит лиц, политически неблагонадежных» и фототеки «государственных преступников» (уже осужденных) и «неблагонадежных граждан» (к этой категории относились те, кто находился под гласным или негласным надзором жандармов и полиции). Губернские жандармские управления были обязаны высылать в Петербург фотографические портреты всех политически неблагонадежных подданных империи.
Начальник Московского управления генерал Слёзкин сообщал в III отделение, что в ноябре 1872 года там под тайным наблюдением находились 382 человека, причем он считал необходимым учредить секретное наблюдение еще за 250 лицами, в том числе за знаменитым адвокатом Ф. Н. Плевако по подозрению «в сочувствии к социально-демократическим идеям».
О тех, кто находился под негласным наблюдением, шеф московских жандармов писал следующее: «Преимущественная часть всех этих лиц ведет большое знакомство и старается в своих целях расширить круг его. Лица, с коими находящиеся под наблюдением знакомы и кои своим поведением обращают на себя внимание, жандармскому управлению частью уже известны. За сими последними… представляется также необходимость иметь самое строгое и бдительное наблюдение».
Для усиления борьбы с разраставшимся в стране оппозиционным движением Александр II 18 марта 1877 года образовал Особую комиссию, перед которой была поставлена задача «исследования и обнаружения причин быстрого распространения разрушительных учений в среде молодого поколения». К сожалению, материалы работы этой комиссии до историков не дошли.
Но, как впоследствии писал полицейский историограф Андрианов, «брожение в некоторых слоях интеллигенции, начавшееся в 60-х годах, быстро усиливалось, несмотря на меры правительства, направленные к пресечению его, и во вторую половину 70-х годов приняло террористический характер. Для искоренения зла требовались, очевидно, чрезвычайные меры».
После того как 2 апреля 1879 года А. К. Соловьев предпринял еще одну попытку покушения на императора Александра, деятельность III отделения С. Е. И. В. К. заметно активизируется: если в 1866 году расходы на его содержание и деятельность составляли около 250 тысяч рублей, то в следующем году – свыше 320 тысяч, а в 1869–1876 годах на нужды данного подразделения ежегодно выделялось уже около 400–500 тысяч рублей и 2100 червонцев. Обратившись к смете за 1877 год, мы увидим, что 30,5 % средств пошло на содержание личного состава, 8,7 % – на хозяйственные нужды, а 60,8 % – на «секретные расходы», то есть на оплату агентуры и филеров.
Ежегодные расходы на содержание созданной в мае 1879 года Охранной стражи (всего туда входило 89 человек), призванной впредь предупреждать покушения на императорскую фамилию, составляли 52 тысячи рублей.
Дополнительно 29 тысяч рублей было выделено на нужды секретного отделения при петербургском обер-полицмейстере и 7,5 тысяч рублей – на деятельность политического отдела при московском генерал-губернаторе (прообразы созданных впоследствии охранных отделений). Всего же к 1880 году «секретные расходы» III отделения возросли до 559 тысяч рублей (причем около 300 тысяч из этой суммы предназначались для «противодействия противуправительственной пропаганде»).