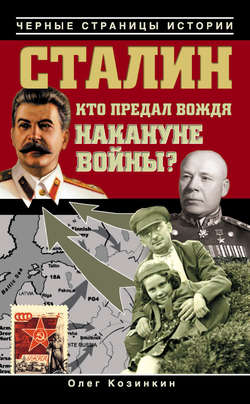Читать книгу Сталин. Кто предал вождя накануне войны? - Олег Козинкин - Страница 3
Воспоминания генералов РККА о событиях перед войной и о 22 июня
ОглавлениеО предвоенных днях в советские времена было написано достаточно в мемуарах генералов-маршалов. Но даты, время суток и многие важные детали ими опускались из-за цензуры Главпура и в связи с тем, что официальная история начала войны уже написана и утверждена в «Воспоминаниях и размышлениях» Г.К Жукова.
Но всё же часть информации по интересующей нас теме можно у маршалов почерпнуть. В книгах «Кто проспал начало войны?» и «Адвокаты Гитлера» некоторые мемуары были разобраны и сопоставлены между собой. И здесь этот разбор будет продолжен.
Но начнём пока с кино.
В одном из старых, но очень известных читателям-зрителям кинофильмов конца 1960-х годов был такой диалог между главными героями (многоточия означают паузы в разговоре):
«– Папке обезврежен. Сведения получены. Проверены. Неплохая работа…
Война начнётся – не рыпаться. Сколько у нас до неё времени? – спросил куратор.
– Шесть дней.
– 22-го… – задумчиво произнёс куратор.
– Кто сообщит? – спросил собеседник.
– Сообщат… На будущее запомни: никакой резкой инициативы. Рискнуть? Чем? Собой… Но тем самым подвергнуть риску задание, цель которого пока тебе да и мне пока неизвестна, сверхглупо. Чтобы ни было – вживаться. Самому с себя содрать шкуру, вывернуть наизнанку, снова напялить… и улыбаться. Такая работа…»
Надеюсь, вспомнили – это диалог агента Йогана Вайса со своим куратором Бруно на развалинах Варшавы за несколько дней до нападения Германии на СССР из кинофильма «Щит и меч», советского 4-серийного художественного фильма о Великой Отечественной войне, снятого в 1967–1968 годах по одноимённому роману Вадима Кожевникова. Сценарий написан самим Кожевниковым, писателем и бывшим фронтовым корреспондентом, вместе с режиссёром В. Басовым, последний и сыграл роль Бруно.
По некоторым данным В. Кожевников образ советского разведчика Александра Белова списывал с легендарного разведчика Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера), на вымышленную фамилию которого и намекает имя А. Белов:
«Мы договорились с писателем Вадимом Кожевниковым, что он возьмётся за обширный труд о наших разведчиках. Я представил ему Рудольфа Абеля. <…> Героя произведения назвали Александром Беловым, чтобы намекнуть о прообразе Абеля (А. Белов). <…> Первая же глава романа, получившего название, Щит и меч”, вызвала у меня и Рудольфа Абеля категорические возражения. Советский разведчик Александр Белов предстал перед читателями как некая модификация Джеймса Бонда, с авантюристическими выходками, безнравственными поступками. <…> Рудольф Абель решительно высказал твёрдое нежелание связывать своё имя с таким героем». (Павлов В.Г. Операция «Снег», М., 1996 г., с. 188, гл. «Рассекреченные жизни»).
Кто читал саму книгу, согласятся: уж больно крут главный герой. «Джеймс Бонд» отдыхает. Поэтому в фильме крутизны нашему разведчику поубавили.
Но добавили то, чего в книге не было.
Человек уговоривший написать книгу о А. Белове, генерал-лейтенант В.Г. Павлов, в 1960-е годы был заместителем начальника советской внешней разведки КГБ СССР. В конце 1930-х – начале 1940-х годов руководил американским отделом внешней разведки, с 1971 по 1973 год был начальником Краснознамённого института КГБ СССР им. Ю.В. Андропова (впоследствии – Академия внешней разведки). После очередной долгосрочной «загранкомандировки» в 1984 году работал старшим консультантом одного из управлений внешней разведки. В 1987 году вышел в отставку по возрасту. Скончался 11 апреля 2005 года.
В вышедшей в том же году, когда снимался фильм, книге Кожевникова «Щит и меч» (М.: Советский писатель, 1968 г., есть на сайте «миллитера» в Интернете, сама книга написана в 1965 году) подобного диалога нет. Точнее, в нём нет ничего о дате нападения на СССР – 22 июня.
Почему? Попробуем «пофантазировать»…
Дело в том, что книга начала писаться в 1963–1964 годах как минимум. Ещё до того, как Хрущёва, оболгавшего не только Верховного Главнокомандующего Сталина, но и Внешнюю разведку, как ГРУ, так и КГБ, которые якобы не сообщали дату нападения, или ей якобы «тиран не верил», сняли. Поэтому в книге нет ничего о том, что агент Вайс сообщал в Москву точную дату нападения на СССР – 22 июня, и тем более за неделю до нападения. Однако, когда начали снимать фильм и сам Кожевников, который также был и историком, знающим тему разведки в ВОВ (он также по некоторым данным был «то ли племянником, то ли внуком» одного из основателей и руководителей разведки в СССР в начале 1920-х), и приглашённые «консультанты» от генерала КГБ СССР В.Г. Павлова пошли на создание данного диалога.
Они пытались таким образом и отстоять честь мундира Внешней разведки СССР, и восстановить историческую правду. Этим диалогом Павлов и Кожевников в 1968 году открыто заявляли, что дату нападения на СССР внешняя разведка в Москву «докладывала вовремя», и даже за несколько дней до начала войны. За время, вполне достаточное для принятия необходимых решений! И это правда.
В 1965 году вышел сборник воспоминаний командиров Бреста «Буг в огне», где офицеры также попытались сказать правду о начале войны. Кстати, Г.К Жуков, начиная писать свои «Воспоминания и размышления» в те же годы, также многое показал. В черновиках. Однако к 1969 году партия решила, что история начала войны будет такая, какая удобна и выгодна ей в тот момент, и сегодня мы имеем то, что имеем.
Книгу «Буг в огне» и черновики воспоминаний Жукова рассмотрим отдельно и подробно далее, а пока начнём разбирать другие воспоминания и мемуары…
Если возьмётесь изучать предвоенные дни на основе только генеральских или тем более солдатских мемуаров, то у вас создастся такое впечатление, что в те предвоенные дни вообще ничего не происходило. Совсем ничего. Ну, может, кто упомянет, что некие учения вроде как проводились, но даты их чаще всего не будут указаны. А ведь 18 июня приказом по тому же ПрибОВО № 00229 («О подготовке театра военных действий Прибалтийского округа») ставилась задача: «1. Начальнику зоны противовоздушной обороны к исходу 19 июня 1941 г. привести в полную боевую готовность всю противовоздушную оборону округа,<…>
19-6.41 г. доложить порядок прикрытия от пикирующих бомбардировщиков крупных железнодорожных и грунтовых мостов, артиллерийских складов и важнейших объектов.
До 21.6.41 г. совместно с местной противовоздушной обороной организовать: затемнение городов: Рига, Каунас, Вильнюс, Двинск, Митава, Либава, Шауляй, противопожарную борьбу в них, медицинскую помощь пострадавшим и определить помещения, которые могут быть использованы в качестве бомбоубежищ…» (Ф. 221, оп. 7833сс, д. 3, л. 17–21. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. М.: Воениздат, 1958, т. 34. Есть в Интернете.)
Следом, 18 июня, уже отдельно для ПВО командующий войсками ПрибОВО дал такой уточняющий приказ о приведении ПВО в боевую готовность:
«.КОМАНДУЮЩИЙ ПРИКАЗАЛ:
1. Частям ПВО зоны, батальонам ВНОС и средствам ПВО войсковых соединений и частей принять готовность № 2 (повышенная боевая готовность)…
3. Части ПВО, находящиеся в лагерях, в том числе и войсковые, немедленно вернуть в пункты постоянной дислокации…
6. Срок готовности 18.00 19 июня 1941-го. Исполнение донести 20.00 19 июня 1941-го.
Начальник штаба ПрибОВО генерал-лейтенант КЛЁНОВ». (ЦАМО, ф. 344, оп. 5564, д. 1, л. 14. ВИЖ № 5, 1989 г, с. 29).
Кстати говоря, этот приказ показывает, что именно командующему округом ПВО зоны и подчинялось! Границы зоны ПВО соответствовали границам округов, и ПВО на местах подчинялось именно округам, а не Москве (к этому важному вопросу ещё отдельно вернёмся в главе, посвящённой ПВО и ВВС и тому, как их приводили в боевую готовность перед 21 июня).
Не отменяя приказ по округу на приведение ПВО в повышенную боевую готовность к 19 июня, само затемнение потребовал отменить своей телеграммой Г.К. Жуков 21 июня: «Вами без санкции наркома дано приказание по ПВО о введении в действие положения № 2 – это значит провести по Прибалтике затемнение, чем и нанести ущерб промышленности. Такие действия могут проводиться только по решению правительства. Сейчас Ваше распоряжение вызывает различные толки и нервирует общественность.
Требую немедленно отменить незаконно отданное распоряжение и дать объяснение для доклада наркому.
Начальник генерального штаба Красной Армии генерал армии ЖУКОВ». (ЦАМО, ф. 251, оп. 1554, д. 4, л. 437. ВИЖ № 5, 1989 г., с. 29. http://liewar.ru/content/view/186/2)
Эта отмена приказа о затемнении из той же серии, что и запрет занимать предполья даже в ночь на 22 июня, – нельзя было дать ни малейшего повода быть обвинёнными в подготовке к войне, в итоге – в обвинении в агрессии. Если хотите, это некая подстава – жертвовали этим, чтобы выиграть в будущем…
(Примечание. Кстати, вот вам и ответ резунам: почему Сталину важно было, что скажут и где насчёт того, жертва СССР или агрессор. Мол, Англия была бы только рада, если бы СССР первым ударил по Германии, и тут же стала бы помогать Сталину. Мол, мировое общественное мнение в 1941-м было бы всё равно на стороне СССР, т. к. это самое мнение и было в основном мнением Англии и США, которые «воевали» с Гитлером. Но Сталин как раз и отличался умом и умением трезво просчитывать ситуации. И на самом деле Сталина интересовало «общественное» мнение США и Англии не столько на июнь 1941 года, сколько в перспективе.
Война когда-нибудь закончится, и после окончания мировой войны, после победы всё легко может поменяться и вчерашние «союзнички» готовы будут атомные бомбы на нас бросать, чтобы опустить до каменного века. Ведь это они же и притащили Гитлера к власти в Германии – для последующей его войны с СССР, как тот и обещал в «предвыборной программе», в «Майн Кампф» ещё. В июне 1941-го они, может, и подтвердят своё «одобрение» превентивному удару Сталина по Германии, но никакой гарантии, что после войны не поменяют своё отношение к СССР на противоположное, нет и быть не могло.
И ведь в реальности Сталин оказался прав – операцию «Немыслимое» по началу войны Запада против СССР планировали уже на лето 1945 года. Те. не успели закончиться совместные банкеты по случаю победы над Гитлером, а Англия (и США) уже готовилась наносить удар по вчерашнему союзнику и действительно жертве агрессии Германии, по СССР. Переиначивая известную фразу об Англии, можно сказать и так: «У Англии нет постоянных врагов, есть постоянные интересы». А представьте, с какой лёгкостью черчилли и трумены нападут на СССР, если СССР – сам агрессор, с какой лёгкостью они «убедят» своих граждан, что СССР – это мировое зло («Империя Зла») и т. п., и те поддержат своих правителей в этой новой войне уже против СССР-России.
Но если СССР не только победитель, но ещё и однозначная жертва гитлеровской агрессии, то «мировое общественное мнение» на Западе в виде избирателей и вынудит черчиллей и рузвельтов-труменов считаться с этим. И не позволит им начать новую войну против СССР. Ведь авторитет СССР был ох как высок после Второй мировой войны именно как победителя, который по милости Запада стал жертвой агрессии и который в одиночку сражался долгое время один на один с Германией! И коммунисты Франции прямо сказали своим правителям после войны: сунетесь в СССР – получите партизанщину такую, что нацистам не снилась… А представьте, что СССР будет серьёзно объявлен агрессором и это будет документально подтверждено – это значит, даже если он и победит, то уже не будет иметь такого морального веса и авторитета, какой был в реальности.
А теперь представьте, что было бы сегодня – ведь даже притом, что СССР-Россия именно жертва агрессии, на нас пытаются повесить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. А если бы СССР напал первым в июне 1941-го, сегодня уже подняли бы вопрос о пересмотре итогов Второй мировой?
В ответ резуны пытаются утверждать, что в те годы Рузвельтам и черчиллям плевать было на общественное мнение своих стран. Однако это не так, не плевали, и Сталин именно на будущее это учитывал. В те годы Рузвельтам приходилось считаться со своим «общественным мнением». И считались серьёзно, ведь Рузвельту пришлось пойти на подставу Перл-Харбора, чтобы переломить мнение населения США, не желающего вступать в мировую войну в Европе…
19 июня по ПрибОВО была отдана директива, в которой ставилась уже конкретная задача:
«1. Руководить оборудованием полосы обороны. Упор на подготовку позиций на основной полосе УР, работу на которой усилить.
2. В предполье закончить работы. Но позиции предполья занимать только в случае нарушения противником границы.
Для обеспечения быстрого занятия позиций как в предполье, так и основной оборонительной полосе соответствующие части должны быть совершенно в боевой готовности.
В районе позади своих позиций проверить надёжность и быстроту связи с погранчастями.
3. Особое внимание обратить, чтобы не было провокаций и паники в наших частях, усилить контроль боевой готовности, всё делать без шума, твёрдо, спокойно. Каждому командиру и политработнику трезво понимать обстановку.
4. Минные поля установить по плану командующего армией там, где и должны стоять по плану оборонительного строительства. Обратить внимание на полную секретность для противника и безопасность для своих частей. Завалы и другие противотанковые и противопехотные препятствия создавать по плану командующего армией – тоже по плану оборонительного строительства.
5. Штарм, корпусу и дивизии – на связи КП, которые обеспечить ПТО по решению соответствующего командира.
6. Выдвигающиеся наши части должны выйти в свои районы укрытия. Учитывать участившиеся случаи перелёта государственной границы немецкими самолётами.
7. Продолжать настойчиво пополнять части огневыми припасами и другими видами снабжения.
Настойчиво сколачивать подразделения на марше и на месте.
Командующий войсками ПриОВО генерал-полковник Кузнецов
Начальник управления политпропаганды Рябчий Начальник штаба генерал-лейтенант Кленов». (ЦАМО, ф. 344, оп. 5564, д. 1, л. 34–36. Подлинник. ВИЖ № 5 1989 г. Первые дни войны в документах, с. 48. – http://liewar.ru/content/view/200/3)
Данная директива появилась в ПрибОВО во исполнении приказа ГШ от 18 июня, которым, по всей видимости, ставились такие задачи:
– закончить работы в предполье (на них перед этим была отдельная директива Генштаба, о чём пишет маршал М. Захаров в своих воспоминаниях «Генеральный штаб в предвоенные годы», М.: ACT, 2005 г.
с. 218: «За несколько дней до начала войны в этих укрепрайонах по указанию округа и в соответствии с директивой Генерального штаба проводились работы по оборудованию предполья в глубину до 35 километров» от границы) – об этом п. 2 директивы ПрибОВО, также Москвой указывался срок окончания работ – «к исходу 21 июня» и давались ограничения: «позиции предполья занимать только в случае нарушения противником границы»;
– ускорить выдвижение дивизий второго эшелона, которые начали движение в округах с 11–15 июня, срок окончания выдвижения первоначально им был указан – «к 1 июля» – об этом п. 6 директивы ПрибОВО, и также Москва меняла срок окончания выдвижения с «к 1 июля» на «к исходу 21 июня»;
– приводить в боевую готовность приграничные дивизии первого эшелона и выводить (отводить) их на их рубежи обороны – об этом п. 2 директивы ПрибОВО, указано также: «Для обеспечения быстрого занятия позиций как в предполье так и основной оборонительной полосе соответствующие части должны быть совершенно в боевой готовности», т. е., части, не приведённые в б/г, не могут «быстро занять позиции в предпольях»;
– привести в повышенную боевую готовность части ПВО округов, в готовность № 2.
Также должен был быть пункт о действиях приграничных войск в случае нападения, и генерал Абрамидзе это показывает: «Ни на какие провокации со стороны немецких частей не отвечать, пока таковые не нарушат государственную границу».
В округа пошла и команда приводить в боевую готовность и авиаполки (о том, как в повышенную б/г авиацию и ПВО 19–20 июня сначала приводили, а потом 21 июня её отменяли, распуская вечером лётчиков по домам, – чуть подробнее в отдельной главе).
Были наверняка ещё какие-то указания округам в том приказе ГШ от 18 июня, возможно, мог быть и не один приказ в эти дни, но пока не опубликуют текст шифровок за июнь 1941-го из архивов шифровального отдела ГШ, выяснить это сложно.
«Странность» опубликованной в Военно-историческом журнале в 1989 году (№ 5) директивы ПрибОВО от 19 июня уже разбиралась в книгах «Кто проспал начало войны?» и «Адвокаты Гитлера». Она заключается именно в отсутствии дат на окончание работ и срока выдвижения частей в «районы укрытия». Дело в том, что в армии, когда ставят задачу подчинённому командиру, указывают срок выполнения какой либо работы или мероприятия. Это требуется даже на уровне Устава. Нельзя ставить задачу без указания срока окончания. Даже в любимом армейском анекдоте «Копать отсюда и до обеда» указан срок – до обеденного перерыва. Но ставить задачу «Отсюда и до упора», с чем сталкивались обыватели, попав рядовыми в армию на плац подметать ломом окурки, нельзя. Иначе подчинённый может выполнять поставленную задачу хоть до Нового года и спросить начальник у него не сможет «за срыв выполнения приказа». Но если на уровне рядовой-прапорщик такие приказы и проходят (чаще для армейской хохмы), то на уровне округов-фронтов такое не допускается – срок должен быть указан.
Также не совсем ясен термин «район укрытия», точнее, это такой своеобразный термин тех лет, наподобие «выжидательный район». Но данная директива ПрибОВО от 19 июня на сегодня одно из самых основных доказательств существования приказа ГШ от 18 июня на приведение войск западных округов в боевую готовность до 22 июня. Есть множество косвенных фактов в виде воспоминаний, приказов по отдельным частям, но среди всех этот – самый серьёзный приказ по округу.
Также при публикации в ВИЖ явно убрали преамбулу, где должно быть указано, во исполнение какой конкретно директивы НКО и ГШ появилась данная директива округа. Например: «Во исполнении Директивы НКО и ГШ от 18.06.1941 г. №… Приказываю: …» (см. Директиву ЗапОВО № 002140/сс/ов 14 мая 1941 г.)
Повторяю: в данной директиве в обязательном порядке должны были быть проставлены сроки на окончание выполнения указанных в директиве мероприятий. Например:
«2. В предполье закончить работы к 24.00 21.06.1941 г.»
И тем более в пункте на выдвижение войск:
«6. Выдвигающиеся наши части должны выйти в свои районы укрытия к 24.00 21.06.1941 г.»
Отсутствие сроков в принципе для подобных приказов в армии немыслимо. Иначе командиру просто будет непонятно, к какому сроку он должен выполнить данное мероприятие («£> предполье закончить работы», или «части должны выйти в свои районы прикрытия») – к июлю, к осени, или действительно до Нового года можно валандаться.
Чтобы было понятно, что повырезали публикаторы в ВИЖ (им можно сказать «спасибо» даже за то, что они хотя бы так опубликовали данную директиву), достаточно просто сопоставить, как выглядят приказ по 12-му мехкорпусу от 18 июня и Директива штаба ПрибОВО от 19 июня. По пунктам…
«.ПРИКАЗ КОМАНДИРА 12-го МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА № 0038 ОТ 18 ИЮНЯ 1941 г. О ПРИВЕДЕНИИ ЧАСТЕЙ КОРПУСА В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ
18 июня 1941 г. Елгава
1. С получением настоящего приказа привести в боевую готовность все части
2. Части приводить в боевую готовность в соответствии с планами поднятия по боевой тревоге, но самой тревоги не объявлять. Всю работу проводить быстро, но без шума, без паники и болтливости, имея положенные нормы носимых и возимых запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и остальных видов военно-технического обеспечения. С собой брать только необходимое для жизни и боя.
3. Пополнить личным составом каждое подразделение. Отозвать немедленно личный состав из командировок и снять находящихся на всевозможных работах. В пунктах старой дислокации оставить минимальное количество людей для охраны и мобилизационные ячейки, возглавляемые ответственными командирами и политработниками.
4. В 23–00 18.6.41 г. частям выступить из занимаемых зимних квартир и сосредоточиться: <…>.
10. Командный пункт 12-го механизированного корпуса с 4.00 20.6.41 г. – в лесу 2 км западнее г. дв. Найсе (1266). До 22.00 18.6.41 г. командный пункт корпуса – Елгава <…>.
Командир 13 – го механизированного корпуса генерал-майор ШЕСТОПАЛОВ
Начальник штаба корпуса полковник КАЛИНИЧЕНКО» (Ф. 619, оп. 266019с, д. 11, л. 14–15. Машинописная копия. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Т. № 33, 1957 г. Есть в Интернете.)
Смотрим, каким образом могут указать время начала или окончания выполнения мероприятий в таких приказах. В приказе по 12-му мк указали «С получением настоящего приказа» начать приводить в боевую готовность, а в директиве ПрибОВО от 19 июня время должно было быть указано более конкретно: «В предполье закончить работы» к такому-то сроку и «Выдвигающиеся наши части должны выйти в свои районы прикрытия» к такому-то сроку…
(Примечание. Маршал М.В. Захаров писал, что перед войной в предполье велись работы по укреплению оборонительных сооружений, и делалось это по отдельной Директиве Генштаба. Но вот что не так давно появилось в Интернете…
На сайте В. Голицына, автора книги «Досье Барбаросса» (М., 2011 г.) – http://russiainwar.forum24.ru/71-6-000000095-000-40-0-1326829684 – 17.1.2012 г., некто А. Волков выложил интереснейшие документы в виде фотокопий страниц журнала «Боевые действия и донесения 800-го учебного полка „Бранденбург”…» По ним видно, что 11 июня немецкая радиоразведка перехватила приказ для штаба строительных работ ПрибОВО на границе об окончании этих работ к 20–22 июня. До 11 июня срок окончания работ был установлен – к 1 июля. Что также зафиксировала перед этим немецкая радиоразведка:
«Телеграмма
От начальника разведки и контрразведки штаба укреплений „Блаурок”
Начальнику разведки и контрразведки группы армий „Б”
11.6.41 г. 18.15
„Взводом радиоразведки на участке 6-й пехотной дивизии 11 июня перехвачен приказ русских, переданный по радио в штаб строительных работ вблизи озера Галадус, в котором срок окончания работ на укреплениях установлен 20–22 июня. Дословный текст радиограммы затребован.
Пополнение штаба укреплений: по поступавшим до сих пор донесениям агентов, срок – 1 июля”.
Начальник разведки и контрразведки штаба укреплений „Блаурок” № 1214/41, секретно, только для высшего командования» (ЦАМО, ф. 500, оп. 12462, д. 601, л. 38).
В апреле 1941 года 6-я пехотная дивизия вермахта прибыла в Восточную Пруссию для подготовки к вторжению в СССР. Дивизия действовала в составе 6-го корпуса 9-й армии группы армий «Центр», на её левом фланге, нанося удар на Алитус – Минск по 126, 128 сд ПрибОВО. Озеро Галадус – приграничное озеро в полосе 11-й армии ПрибОВО, где 128-я сд оказала достаточно серьёзное сопротивление танкам 12-й тд вермахта, наступавшей южнее 6-й пехотной дивизии вермахта, которые, по словам исследователя ПрибОВО С. Булдыгина, «выкатились к местечку Меркине только к вечеру» 22 июня.
По немецким радиоперехватам видно, что дату окончания работ в предполье, оказывается, и правда, корректировали с учётом возможного нападения Германии – с «1 июля» на «20–22 июня». И делалось это уже после 11 июня.
Гитлер 10 июня подписал приказ о нападении на СССР 22 июня. Этот приказ пошёл в вермахт 12 июня и, по воспоминаниям Черчилля, его по радио перехватили англичане. А группа К. Филби передала его в Москву тут же.
Однако это было уже после 12 июня, но, похоже, на дату нападения (на 20–22 июня) в СССР ориентировались ещё раньше. И дело тут, конечно, не в том, что Сталин предвидел заранее, что Гитлер подпишет 10 июня приказ о нападении 22 июня, а в том, что дата «22 июня» была озвучена самим Гитлером ещё в конце марта и также озвучивалась им же и позже, в апреле – мае. И это также попадало в Москву на стол Сталину. Но в начале июня дата возможного нападения «20–22 июня» стала более определённой и вероятной. Ведь не просто так уже 6–8 июня из Одессы и Минска в Москву ушли запросы о начале вывода войск в сторону границы в районы, предусмотренные планом прикрытия. Что и делается в угрожаемый период.
Строительные работы возле границы вели как батальоны и роты самих приграничных дивизий, так и специальные строительные части РККА, присланные для этих работ отдельно из внутренних округов. Вероятно, именно их шифровку и перехватили специалисты радиоперехвата из «Бранденбурга». И скорее всего, этот приказ штабу строительных работ на изменение сроков окончания работ был передан простым шифром, который достаточно легко и вскрыли немцы. Также А. Волков выставил документ, адресованный штабу 4-й армии вермахта, стоящей напротив ЗапОВО, напротив Бреста, в котором на 25 мая 1941 года даются оценка возможностей СССР напасть первыми и заключение: «Нет предположений, что русские перейдут в наступление».
На этот перенос сроков окончания работ с «к 1 июля» на «к 20–22 июня» исследователь ЗапОВО Д. Егоров высказал предположение, мол: «На 22 июня в частях РККА планировались спортивные праздники и прочие мероприятия».
На подобную «гипотезу» сразу вспомнилась своя служба в армии. Когда чуть не на каждые выходные в части устраивались такие «праздники». Что не выходной, то спортивный праздник на голову рядовых. «Если солдат не задействован в очередном „праздничном” кроссе, то он преступник», – гласит военная мудрость.
Есть ещё другой вид «праздников» в выходные для личного состава: рытьё каких-нибудь траншей. Главное, чтобы личный состав от безделья не начал думать о самоволках, девушках и где бы раздобыть нечто типа самогона…
А серьёзно: то какие могут быть «спортивные праздники», к которым надо закончить работы по укреплению полевых сооружений на границе, если война на носу? Об этом не знали только ленивые и слабоумные. Конечно, в частях на 22 июня продолжали планировать все эти «спортивные мероприятия», но уж точно 11 июня не стали бы давать команду заканчивать досрочно на 10 дней работы в предполье к 20–22 июня, санкционированные директивами Генштаба ради очередных спортивных достижений… Изменить таким образом директиву ГШ? Даже для Павловых это чересчур…)
И ещё обратите внимание, как в директиве ПрибОВО от 19 июня выглядит такая фраза: «Для обеспечения быстрого занятия позиций как в предполье, так и [в] основной оборонительной полосе соответствующие части должны быть совершенно в боевой готовности». То есть, во-первых, тут стилистическое сходство с фразой из «Директивы № 1» «быть в полной боевой готовности встретить возможный удар немцев», которая появится вечером 21 июня, и выходит, что так просто принято было тогда писать.
А во-вторых – в данном случае ясно видно, что «соответствующие части» могут быть готовы быстро занять позиции только в том случае, если они именно заранее были приведены в «совершенную боевую готовность», т. е. в «полную». Либо они должны быть приведены «в совершенную» б/г немедленно,
19 июня! По получении данной директивы.
Если кто-то сомневается, что данная директива по ПрибОВО именно «во исполнение приказа ГШ от
18 июня», то он всегда может пойти в ЦАМО и по реквизитам ВИЖа найти полный её текст и опровергнуть автора этой книги.
По ПрибОВО на сайте «Подвиг народа» также выложен «Журнал боевых действий Северо-Западного фронта с 18.06.1941 г. по 31.07.1941 г.», в котором указывается:
«3– К исходу 21.6 в боевую готовность были приведены только части прикрытия (шесть сд) и мехкорпуса.
4. Штабы фронта, армий, корпусов и дивизий заняли свои КП, предназначенные на случай военных действий». (ЦАМО, Ф. 221, оп. 1351, д. 200.)
То есть к 24.00 21 июня части прикрытия, приграничные дивизии («шесть сд», около 80 тысяч бойцов) были приведены в боевую готовность, как и два окружных мехкорпуса: «3 и 12 мк заняли районы сосредоточения согласно плану».
Но на каком основании эти приграничные дивизии приводились в боевую готовность до исхода 21 июня, и вообще 18–19 июня с места двинулись мехкорпуса (согласно приказов по ним)? Если кто-то хочет сказать, что приводились эти «шесть сд» прикрытия «Директивой № 1» в ночь на 22 июня, напоминаю: данная директива пришла в Ригу только около 1.00 22 июня, и приказ по ней отдали в армии только в 2.30, а никак не к «исходу 21.6».
Если мы знаем, что второй эшелон начал выдвижение ещё 14–15 июня, то на основании чего штаб ПрибОВО привёл в боевую готовность дивизии первого эшелона, которым в директиве от 12 июня наркомом обороны было оговорено: «Приграничные дивизии оставить на месте, имея в виду, что вывод их к госгранице в назначенные им районы может быть произведён по особому моему приказу»?! (Это сборный вариант из директив для КОВО и ЗапОВО.)
«ЖБД СЗФ»: «Таким образом, непосредственно у госграницы находились от Балтийского побережья до Аугстогаллен 10 ск – 10, 90 и 125 сд, 11 ск; от р. НЕМАН и до КОПЦИЕВО – 16 ск—5, 33, 188 сд и 128 сд.
Эти части в основном располагались в лагерях, имея непосредственно у госграницы прикрытие от роты до батальона, по существу усилив пограничную службу». При этом дивизии второго эшелона «совершали переброску или марши из районов лагерей или зимних квартир к границе», а часть дивизий к исходу 21 июня «продолжали оставаться в лагерях или на зимних квартирах».
Значит «особый приказ» наркома для приграничных дивизий о приведении их в боевую готовность всё же пришёл в этот округ, и именно после 18 июня, но до 21 июня? И это подтверждает командир именно приграничной 10-й сд ПрибОВО: «Генерал-майор И.И. Фадеев (бывший командир 10 стрелковой дивизии 8-й армии). 19 июня 1941 года было получено распоряжение от командира 10-го стрелкового корпуса генерал-майора И.Ф. Николаева о приведении дивизии в боевую готовность. Все части были немедленно выведены в район обороны, заняли ДЗОТы и огневые позиции артиллерии. С рассветом [20 июня] командиры полков, батальонов и рот на местности уточнили боевые задачи согласно разработанному плану и довели их до командиров взводов и отделений.
В целях сокрытия проводимых на границе мероприятий производились обычные оборонные работы, а часть личного состава маскировалась внутри оборонительных сооружений, находясь в полной боевой готовности. 8 апреля 1953 года». (ВИЖ № 5, 1989 г, с. 25.)
Часть текста приказа ГШ от 18 июня дал в своих показаниях командир 72-й горно-стрелковой дивизии КОВО генерал Абрамидзе, отвечая после ВОВ на вопросы Покровского (подробно эти ответы уже разбирались в книге «Адвокаты Гитлера», но эти стоит повторить):
«Два стрелковых полка (187 и 14 сп) дивизии располагались вблизи государственной границы с августа 1940 года. 20 июня 1941 года я получил такую шифровку Генерального штаба: „Все подразделения и части Вашего соединения, расположенные на самой границе, отвести назад на несколько километров, то есть на рубеж подготовленных позиций. Ни на какие провокации со стороны немецких частей не отвечать, пока таковые не нарушат государственную границу. Все части дивизии должны быть приведены в боевую готовность. Исполнение донести к 24 часам 21 июня 1941 года".
Точно в указанный срок я по телеграфу доложил о выполнении приказа. При докладе присутствовал командующий 26-й армией генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко, которому поручалась проверка исполнения. Трудно сказать, по каким соображениям не разрешалось занятие оборонительных позиций, но этим воспользовался противник в начале боевых действий.
Остальные части и специальные подразделения соединения приступили к выходу на прикрытие гос-границы с получением сигнала на вскрытие пакета с мобилизационным планом. 11 июня 1953 года». (ВИЖ № 5, 1989 г., с. 27.)
Дивизия Абрамидзе была приграничной, и директива НКО и ГШ № 504205 от 12 июня, поступившая в Киев 15 июня, её не касалась, т. к. отдельным пунктом этой директивы чётко было указано: «Приграничные дивизии оставить на месте, имея в виду, что вывод их к госгранице в случае необходимости может быть произведён только по моему особому приказу…» Т. е. данную дивизию также поднимали именно особым приказом наркома, и это был приказ ГШ от 18 июня.
Также существование «пр. ГШ от 18 июня» подтверждают и показания начсвязи ЗапОВО Григорьева, данные им на суде и следствии по делу Павлова. Ну, и хочется надеяться, что и приведённые в этой книге доказательства также покажутся читателю убедительными. И после этого остаётся только один вопрос: а кто виноват в том, что приведение в боевую готовность войск на границе перед 22 июня не состоялось, а точнее – было сорвано, и кем?
В октябре 2011 года по моей просьбе исследователь истории ПрибОВО С. Булдыгин попытался найти точный текст директивы ПрибОВО от 19 июня по указанным реквизитам, но ему ответили так: «Это опись шифровального отдела, и она до сих пор не рассекречена». Т.е при отправке директив НКО и ГШ в округа они все зашифровывались на бланках шифровального отдела Генштаба РККА (8-го Управления ГШ), которые также подписывались тем же Жуковым или его замами как исполнителями и на которых шифровальщик делал специальные пометки. К этим бланкам прикладывался черновик директивы-приказа с подписями, и затем бланк с черновиком сдавался в архив 8-го Управления ГШ на «вечное» хранение.
Иногда черновики приказов и директив попадали на хранение не в секретные папки и описи архивов. В таком случае их находят архивные копатели. Как нашёл черновик Директивы № 1 от 21.06.1941 г. исследователь С.Л. Чекунов («ник» в Интернете «Сергей ст.»).
(Примечание. Подобные черновики остались на отдельном хранении только потому, что в те годы шифровальщики ГШ входили в структуру Оперативного управления ГШ. «Затем, когда 8-е Управление получило самостоятельность и вышло из ОУ, часть документов, которые не подвергались обработке шифровальщиками, была возвращена в оперативное управление, т. е. это было связано с определёнными организационными мероприятиями и некоторыми нарушениями режима секретности, за что потом их и долбили в докладной наркому ГБ. Вот поэтому и всплыли сейчас эти черновики – они были в архивах 0У. А вот в последующем уже было жёстче с этим, и после разъединения шифровальщики хрен что вернули бы, тем более что 8-е Управление подчиняется лично НГШ» (С. Мильчаков).
Сегодня шифровальный отдел ГШ имеет свой отдельный архив, и он как раз и недоступен, хотя именно там и лежат «все разгадки трагедии 22 июня»…)
В ПрибОВО мехкорпуса поднимались также задолго до 22 июня:
«Генерал-полковник П.П. Полубояров (бывший начальник автобронетанковых войск ПрибОВО). 16 июня в 23 часа командование 12-го механизированного корпуса получило директиву о приведении соединения в боевую готовность. Командиру корпуса генерал-майору Н.М. Шестопалову сообщили об этом в 23 часа 17 июня по его прибытии из 202-й моторизованной дивизии, где он проводил проверку мобилизационной готовности.
18 июня командир корпуса поднял соединения и части по боевой тревоге и приказал вывести их в запланированные районы. В течение 19 и 20 июня это было сделано.
16 июня распоряжением штаба округа приводился в боевую готовность и 3-й механизированный корпус (командир генерал-майор танковых войск А.В. Куркин), который в такие же сроки сосредоточился в указанном районе. 1953 год». (ВИЖ № 5, 1989 г, с. 23.)
Как видите, Полубояров даёт точную дату, к которой мехкорпуса в ПрибОВО должны были закончить выдвижение на рубежи обороны – начали выдвижение 18 июня, а закончили, согласно приказу, 20-го: «18 июня командир корпуса поднял соединения и части по боевой тревоге и приказал вывести их в запланированные районы. В течение 19 и 20 июня это было сделано».
Также он ясно показал, что повышение боевой готовности мехкорпусов в ПрибОВО произошло уже
17 июня (на основании «директивы от 12 июня»)!
18 июня их подняли отдельным приказом «по боевой тревоге» и отправили в «запланированные районы» (запланированные по ПП округа). Напомню, по боевой тревоге и с выводом в «запланированные районы» не поднимают без приведения в полную б/г. Так как в запланированный район, в район, предусмотренный планом прикрытия, часть может выводиться только в случае военной опасности, угрозы войны.
В ПрибОВО было всего 2 механизированных корпуса и оба были приведены своим окружным командованием в боевую готовность после 16 июня, т. е. после получения директивы о «повышении боевой готовности…» от 12 июня (3-й мк подняли по тревоге аж 21 июня… но о том, почему Полубояров соврал, чуть позже).
Приграничные дивизии ПрибОВО тоже приводились в б/г до 22 июня:
«Генерал-полковник М. С. Шумилов (бывший командир 11 – го стрелкового корпуса 8-й армии ПрибОВО). Войска корпуса начали занимать оборону по приказу командующего армией с 18 июня. Я отдал приказ только командиру 125-й стрелковой дивизии и корпусным частям. Другие соединения также получили устные распоряжения через офицеров связи армии. Об этом штаб корпуса был извещён. Боеприпасы приказывалось не выдавать. Разрешалось только улучшать инженерное оборудование обороны. Однако я 20 июня, осознав надвигающуюся опасность, распорядился выдать патроны и снаряды в подразделения и начать минирование отдельных направлений.
21 июня в штабе корпуса находился член военного совета округа (корпусной комиссар П.А. Диброва. – В. К.), который через начальника штаба приказал отобрать боеприпасы. Я запросил штаб армии относительно письменного распоряжения по этому вопросу, но ответа не получил. 1952 год». (ВИЖ № 5, 1989 г., с. 24.)
То есть в 10-м и 11-м стрелковых корпусах 8-й армии по приказу командующего армией генерал-лейтенанта П.П. Собенникова свои приграничные дивизии после 18 июня приводили в боевую готовность! И вот что показывает он сам:
«Генерал-лейтенант П.П. Собенников (бывший командующий 8-й армией).
Утром 18 июня 1941 года я с начальником штаба армии выехал в приграничную полосу для проверки хода оборонительных работ в Шяуляйском укрепленном районе. Близ Шяуляя меня обогнала легковая машина, которая вскоре остановилась. Из неё вышел генерал-полковник Ф.И. Кузнецов ^командующий войсками Прибалтийского особого военного округа. – Авт). Я также вылез из машины и подошёл к нему. Ф.И. Кузнецов отозвал меня в сторону и взволнованно сообщил, что в Су в ситах сосредоточились какие-то немецкие механизированные части. Он приказал мне немедленно вывести соединения на границу, а штаб армии к утру 19 июня разместить на командном пункте в 12 км юго-западнее Шяуляя.
Командующий войсками округа решил ехать в Таураге и привести там в боевую готовность 11 – й стрелковый корпус генерал-майора М. С. Шумилова, а мне велел убыть на правый фланг армии. Начальника штаба армии генерал-майора Г. А. Ларионова мы направили обратно в Елгаву. Он получил задачу вывести штаб на командный пункт.
К концу дня были отданы устные распоряжения о сосредоточении войск на Тынице. Утром
19 июня я лично проверил ход выполнения приказа. Части 10, 90 и 25-й стрелковых дивизий занимали траншеи и дерево-земляные огневые точки, хотя многие сооружения не были еще окончательно готовы. Части 12-го механизированного корпуса в ночь на
19 июня выводились в район Шяуляя, одновременно на командный пункт прибыл и штаб армии.
Необходимо заметить, что никаких письменных распоряжений о развертывании соединений никто не получал. Все осуществлялось на основании устного приказания командующего войсками округа. В дальнейшем по телефону и телеграфу стали поступать противоречивые указания об устройстве засек, минировании и прочем. Понять их было трудно. Они отменялись, снова подтверждались и отменялись, в ночь на 22 июня я лично получил приказ от начальника штаба округа генерал-лейтенанта П. С. Кленова отвести войска от границы. Вообще всюду чувствовались большая нервозность, боязнь спровоцировать войну и, как их следствие, возникала несогласованность в действиях. 1953 год» (ВИЖ № 5, 1989 г., с. 24).
Как видите, сначала 18 июня Собенников получил приказ Кузнецова занимать оборону на границе, а в ночь на 22 июня уже начштаба округа Клёнов выдал ему приказ отводить войска от границы! Клёнов был арестован 9 июля 1941 года и расстрелян 23 февраля 1942 года. А вот действия Кузнецова так и пытаются выдать за мифическую «личную инициативу» командующего
ПрибОВО. Но в 8-й армии ПрибОВО «пр. ГШ от 18 июня» выполняли и приграничные дивизии поднимали по тревоге, а вот в соседней, 11-й армии, – нет. Но, кстати, и в КОВО 21 июня в полосе 5-й армии, под Новоград-Волынским, также отводили пехоту от границы, оставляя артиллеристов гаубичных полков без прикрытия. Об этом написал в своих подробнейших воспоминаниях кандидат военных наук дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант артиллерии B.C. Петров, служивший тогда в 92-м отдельном артиллерийском дивизионе (Прошлое с нами. Кн. 1. – К: Политиздат Украины, 1988. Есть в Интернете). Но самое интересное, что вроде как разумный приказ не занимать предполья в округах использовали именно для того, чтобы отвести пехоту чуть не на десятки километров от позиций. ГШ дал команду: «Части… расположенные на самой границе, отвести назад на несколько километров… на рубеж: подготовленных позиций», а в ПрибОВО передовые части отводили чуть не на 50 км.
«Генерал-лейтенант В.И. Морозов (бывший командующий 11-й армии). На основании устных распоряжений командующего войсками округа соединения 11-й армии выходили на подготовленный рубеж обороны. Делалось это под видом усовершенствования полевых укреплений.
На границе находилось по одному полку от каждой дивизии, усиленному, как правило, артиллерийским дивизионом. В начале июня была произведена замена одних полков другими.
В начале июня 1941 года дивизии в своих районах имели развёрнутые командные пункты, на которых постоянно дежурили офицеры. 1952 год» (ВИЖ № 5, 1989 г., с. 24).
В этом ответе Морозов ничего не говорит (или это не опубликовали в ВИЖ в 1989 г.) о том, что с 18–19 июня его приграничные дивизии по команде Кузнецова начали занимать свои рубежи обороны на границе. Однако он тут о другом говорит – о порядке «дежурства» на границе в те дни. И слова Морозова подтверждают «недавно» найденные документы. Действительно, уже с мая 1941 г. на границу выставлялись стрелковые полки, усиленные одним артдивизионом, чаще всего гаубичным.
На своем сайте (http://www.solonin.org/doc_i-esche-raz-o-vnezapnosti) историк М. Солонин 5 ноября 2011 г. выдал следующее:
«И ещё раз о „внезапности” (документы 11-й Армии 20 и 21 июня 1941 г.) – ДОБАВЛЕНЫ СКАНЫ («сканы» желающие могут посмотреть на сайте Солонина. – Лет.).
В военном архиве Германии, в фонде разведывательного отдела штаба 3-й танковой группы вермахта (RH 21-3/437) обнаружились два „трофейных” (с точки зрения немцев) документа. В первые дни войны 3-я ТГр наступала в полосе 11-й Армии Северо-Запад – ного фронта (Прибалтийского особого ВО). Соответственно, и захваченные документы были составлены в штабах 11-й Армии. В их содержании нет ничего сенсационного – обычная рутина войны: занять линию обороны, вести разведку, выявить группировку противника… Пристального внимания заслуживают только номера и даты подписания документов:
„Штаб 11 Армии
Опер. Отдел 20.6.1941 г. № 005/оп Сов. секретно. Экз. № 1
Командиру 128 сд
Командиру 374 сп
Командиру гаубичного полка
Карта 100.000
К утру 21.6 занять следующее положение для обороны:
1. Один дивизион ГАП (гаубичный артиллерийский полк. – М. С.) поставить на позицию в районе высоты 147,9 (юго-зап. Кальвария). (Кальвария – посёлок на границе Литвы и Вост. Пруссии. – М. С.)
Задача – в случае наступления противника поддержать батальоны 126 СД (стрелковой дивизии. – М. С.).
2. Вывести батальон 374 сп в район рощи Зелёнка (2452) (далее зачеркнуто: «где организовать оборону». – М. С.)
Окончание занятий только по моему указанию.
Командующий 11 Армии генерал-лейтенант подпись (Морозов)
Член Военного Совета бригадный комиссар подпись (Зуев)
Начальник штаба армии генерал-майор подпись (Шлемин)”».
Увы, никакой особой «сенсации» здесь нет. Возможно, резунам в этом хотелось бы увидеть подготовку нападения, а нам, казалось бы, стоило бы увидеть, что дивизии и артиллерию выводят к 22 июня (!!) (вроде как по «пр. ГШ от 18 июня»!!)… Но в реальности всё оказывается проще. Это была не более чем рутинная служба в угрожаемый период. Во всех округах с начала мая отдельные батальоны стрелковых дивизий и полков с артдивизионами выводились на границу – и в ПрибОВО, и в ЗапОВО (об этом чуть позже), и скорее всего, и в КОВО с ОдВО. И в начале мая, вероятно, была отдельная директива ГШ на этот счёт. Находились-дежурили на границе эти батальоны с артдивизионами примерно по 3–4 недели, а потом заменялись. Так было вплоть до 22 июня. И вот здесь и стоит поискать «криминал».
Дело в том, что если бы в округах до конца исполнили «пр. ГШ от 18 июня» о приведении в б/г приграничных дивизий, то такие «дежурства» были бы отменены. И вместо отдельных стрелковых батальонов к границе после 19 июня стали бы выводить стрелковые приграничные дивизии в полном составе. Как это было в отдельных местах (типа 8-й в ПрибОВО). Но, похоже, проводилась лишь некая имитация выполнения «пр. ГШ от 18 июня» – отдавали приказы с привязкой к «исходу 21 июня», но не более того.
По ЗапОВО, несмотря на саботаж приказов Москвы Павловым, также отдельные приграничные части занимали свои оборонительные позиции на госгранице до 22 июня. И в этом можно «сослаться» на… генерала Гальдера, который и указал в своём служебном дневнике 20 июня 1941 года:
«Сведения о противнике: на отдельных участках замечена повышенная внимательность русских. (Перед фронтом 8-го армейского корпуса противник занимает позиции.)». 8-й армейский корпус вермахта наступал как раз в полосе ЗапОВО, в группе армии «Центр» в Белоруссии.
Т.е. по имеющимся документам и фактам видно, что в западных округах достаточно активно шло приведение частей в боевую готовность до 22 июня (как сорвали его Павлов и его подельники в ЗапОВО, отдельно и достаточно подробно показано в книге «Адвокаты Гитлера»). Но в любом случае все (ВСЕ) шифровки НКО и ГШ предвоенных дней, с 11 по 22 июня, должны храниться в описях шифровального отдела. После их публикации придётся нашим специалистам переписывать историю начала Великой Отечественной войны! Нужны именно тексты приказов и директив с распоряжениями и телеграммами. Скорее всего, тексты директив за эти дни и особенно текст того самого «пр. ГШ от 18 июня о приведении в б/г», если они хранились отдельно, не в архиве шифровальщиков, а в архиве Оперуправления ГШ, – уничтожены Жуковыми. Но директивы, написанные на бланках 8-го Управления ГШ, наверняка хранятся в своих папках. Но пока они не опубликованы, попробуем продолжать искать информацию в мемуарах генералов. Хотя, как вы сами увидите, мемуаристы как будто вообще о другой войне писали, из другой «альтернативной реальности».
Начнём с воспоминаний адмирала Н.Г. Кузнецова, которые остались в «личном архиве» и не попали в «официальные мемуары».
Для этого опять же воспользуемся Интернетом и найдём «Архив семьи Н.Г. Кузнецова. Н.Г. Кузнецов. Начало войны не было „громом среди ясного неба” [1964 г.]» (http://glavkom.narod.ru/articl4.htm. http: //glavkom.narod.ru/archO 5.htm).
По ходу дела буду вставлять свои замечания и комментарии (наиболее ключевые или интересные слова адмирала будут выделены). Так как данные воспоминания, как уже говорилось, не вошли в этом виде в его «официальные мемуары», но достаточно интересны, стоит привести их достаточно подробно:
«В последние предвоенные недели я наблюдал, как занимается правительство вопросами безопасности. Это подталкивало меня на принятие мер предосторожности по своей линии и по линии местного командования. Это оказало влияние и на перевод флотов на повышенную готовность 19 июня 1941 г. <…>
И в то же время я не присутствовал ни на одном совещании, где бы рассматривался вопрос готовности Вооруженных Сил и флотов в целом к войне. Мне были известны многочисленные мероприятия распорядительного порядка по Советской Армии, но до Наркомата ВМФ не доходили указания о повышении готовности или поступках на случай войны».
Здесь адмирал слишком много на себя берёт, заявляя такое. Ведь он сам не на всех совещаниях в кабинете Сталина бывал в июне 1941 года. Всё, что надо по флоту, до наркома ВМФ доведут. Кузнецов потом сетовал, что было бы лучше, если бы наркомат ВМФ подчинялся главе правительства напрямую, как отдельное ведомство. Но скорее всего Кузнецов жалел, что не лично Сталин как секретарь ЦК курировал флот, – тогда было такое курирование.
«Думается, Сталин колебался: ему хотелось всячески оттянуть войну, а с другой стороны, видимо, было желание призвать к бдительности и повышению готовности.
Так, его речь на приёме выпускников академий 5 мая 1941 г. не оставляла сомнений в этом. В его открытом выступлении говорились вещи явно секретные, и не случайно о сказанном тогда помнят все присутствовавшие. Вспоминаю, кто-то сказал мне тогда:,^Это для устрашения Гитлера”. Возможно! Возможно и то, что, высказавшись за вероятность войны, Сталин думал, что все высокие начальники, от которых это зависело, примут надлежащие меры».
Вот это суждение адмирала кажется наиболее верным, важным и заслуживающим внимания – Сталин слишком положился на «чувство долга» наркома и нач. ГШ и на то, что эти руководители и сами «примут надлежащие меры» без излишней опеки и напоминаний с его стороны. Ведь Сталин допустил ещё одну огромную ошибку, когда для того чтобы «не нервировать» военных излишним надзором со стороны Л. Берии, в феврале 1941 года переподчинил особые отделы, военную контрразведку наркомату обороны. В итоге информация о возможном саботаже зависала у военных. А после начала расследования дела Павловых, в середине июля, эти доклады показали всю неприглядную картину саботажа военными приказов Москвы – см. доклады особых отделов (3-го управления) в статье М. Мельтюхова «Начальный период войны в документах военной контрразведки (22 июня – 9 июля 1941 г.)». Вышла она в 2009 году в сборнике о начале войны в издательстве «Яуза» (выложена на http://liewar.ru/content/view/l31/3).
По ЗапОВО: «…Согласно рапорту начальника 3-го отдела 10-й армии (начальника контрразведки армии. – Авт.) полкового комиссара Лося от 13 июля, „9-я авиадивизия, дислоцированная в Белостоке, несмотря на то, что получила приказ быть в боевой готовности с 20 на 21 число. была также застигнута врасплох и начала прикрывать Белосток несколькими самолётами МиГ из 41-го полка” (там же. Д. 99. Л. 331)…»
То есть приведение в боевую готовность авиационных частей происходило так же, как и наземных войск, ещё до 20–21 июня, но часть командиров проигнорировала эти приказы! (Командира этой 9-й САД расстреляли. Подробнее о ВВС и ПВО округов поговорим в отдельной главе…)
По этим докладам видно, что приказы о повышении боеготовности войск западных округов перед 22 июня проходили не только через командиров и особистов, но и по линии политорганов РККА. Но возвращаемся к Н.Г. Кузнецову, который, похоже, имел об этом смутное представление (или делал вид):
«Мне представляется совершенно необоснованным утверждение, что И.В. Сталин переоценил силу договора с Германией Этому трудно поверить, исходя из того, что Сталин считал фашизм и Гитлера своими самыми непримиримыми врагами В этом он, конечно, был убеждён и после войны в Испании. Как опытный политик и лично хитрый человек, он не мог чрезмерно доверять вообще какому-либо договору, а тем более договору с Гитлером.
Это подтверждается и высказываниями Сталина как в момент подписания договора, так и позднее. После приёма Риббентропа в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца, оставшись в своей среде, Сталин (по словам очевидцев, и в частности В.П. Пронина, сидевшего на приёме между Сталиным и Риббентропом) прямо заявил, что „кажется, удалось нам провести немцев”. Похоже на то, что он сам собирался обмануть, а не быть обманутым.
Из последующих косвенных разговоров со Ждановым я мог вынести заключение, что договор ещё будет действовать долго, но не потому, что в него кто-то чрезмерно верит, а потому, что „война на Западе затягивается” и наши противники (Германия и Англия) будут длительное время связаны борьбой, а нам предоставляется возможность заниматься своим мирным трудом и готовиться к войне. Против кого? Ввиду того что Сталин, как мне кажется, верил больше в победу Гитлера (к чему были все основания по ходу войны в те годы), то, стало быть, и воевать он собирался с фашистской Германией. Да и территориально это было наиболее вероятно.
Этим неверным предположением, что „война на Западе затянется”, и объясняется непринятие конкретных мер по повышению готовности Вооруженных Сил в 1939–1940 гг. Дескать, главное, вроде наращивания дивизий и оружия, делается, границы на западе и юге отодвигаются и идёт создание новой оборонительной линии. Остаётся в случае необходимости привести армию в полную готовность. Вот в этом и заключалась первая крупная ошибка. Армию привести в готовность следовало раньше. Она должна была учиться по планам войны. Этим нужно было заниматься ежедневно, хотя бы и не ожидалось скорой войны. И.В. Сталин не понимал значения кропотливой и длительной работы с разработкой и введением в жизнь оперпланов. Не придавали этому большого значения и военные руководители. А им это следовало понимать больше, чем штатскому Сталину».
Примерно это сегодня твердят и сторонники Резуна и сторонники официоза – мол, следовало шибче работать в деле повышения боеготовности армии и страны к войне. Но Сталин верил в силу договора о ненападении и поэтому ничего особого не делал. Либо верил военным и пустил дело «на самотёк»…
На подобные высказывания очень жёстко реагировал впоследствии В.М. Молотов, мол, надо было этих «советчиков» поставить руководить страной, тогда они показали бы, как надо было к войне готовиться в эти полтора – неполных два года…
«Потом, с начала 1941 г., события стали развертываться ускоренными темпами, и тогда Сталин допустил вторую ошибку. Вместо того, чтобы объективно оценить обстановку, признать свое прежнее ошибочное представление о начале возможного конфликта, он с удивительным упрямством, характерным для него, продолжал уверять в невозможности нападения. И совсем не потому, что верил в договор, а исходя (иногда слепо) из своих однажды принятых решений и сделанных выводов, он отрицал возможность скорой войны. На это толкало его и окружение».
В спорах на исторических интернет-форумах в таких случаях просят: «Дайте ссылочку» – где и когда, в присутствии каких лиц (и подтверждают ли эти лица данное) Сталин такое высказывал…
«А к этому ещё добавилось опасение вызвать конфликт раньше времени. С таким мнением Сталина и застала война, хотя накануне он и отдал приказание о повышении готовности».
Вот это верно – даже отдавая приказы о повышении боевой готовности с 11 июня, Сталин всячески ограничивал военных – шли запреты занимать вплоть до 22 июня полевые укрепления на границе (предполья), запрещалось в случае нападения без особого приказа пересекать границу, требовалось уничтожать врага только на своей территории, что вполне разумно. Ведь СССР мог быть вместо жертвы агрессии выставлен и агрессором, к чему стремился Гитлер и что в принципе устроило бы и Англию с США На будущее…
«Отдавая приказание Тимошенко, Жукову, Тюленеву, Щербакову, Пронину, он внутренне ещё больше верил себе. Поэтому приказания носили нерешительный характер. Отдавая распоряжения, Сталин как бы говорил: „Ну, уж коль скоро все говорят о возможном нападении, то примите на всякий случай необходимые меры, а я пойду отдыхать”».
Здесь Кузнецов подтвердил интересный факт, который всячески отрицается сторонникам Резуна (да и официоза). Мол, если военные получили бы приказ до
22 июня приводить войска в б/г и узнали точную дату нападения, то почему партийные органы таких приказов или уведомлений в это же время не получали?! Как видите, московские партийные руководители ещё днём 21 июня были вызваны в Кремль и поставлены в известность Сталиным о вероятном нападении (далее он это пишет более подробно). Также и Хрущёв в своих воспоминаниях признал, что 21 июня он, партийный руководитель Украины, получил от Сталина предупреждение, что немцы нападут 22–23 июня, в выходные… То есть предупреждения по партийной лини о предстоящем нападении руководителей западных республик тоже были.
«К сожалению, непринятие предохранительных мер со стороны военного руководства наложилось на ошибку Сталина и усугубило её. Военное руководство не принимало решительных мер до самого начала войны».
Похоже, Н.Г. Кузнецов либо не знает о «приказе ГШ от 18 июня», либо лукавит. Хотя в принципе Кузнецов прав: именно военные и не принимали «решительных мер»…
«Приходится только гадать, что думал Сталин о готовности Вооруженных Сил в канун войны? Полагал ли он, что войска встретят во всеоружии нападение, сказать трудно. Его вина бесспорна в том, что он не проверял это.
Зная, что Сталин накануне вызывал работников Москвы (Щербакова, Пронина и других) и требовал от них быть в эту ночь начеку и не отпускать секретарей райкомов, или что он днём 21 июня лично звонил И.В. Тюленеву, напрашивается вывод, что он беспокоился за оборону. Не полагался ли он после вызова Тимошенко и Жукова (около 17 часов) целиком на их расторопность и повышенную готовность? Об этом могли бы сказать они сами».
Похоже, слишком доверился «тиран» военным в этом вопросе. Но с другой стороны – а как он мог «не доверяться»? Для чего тогда существуют военные?? Это их обязанность – иметь вооружённые силы в достаточной боеготовности и быть готовыми, получив необходимые данные о возможной угрозе и необходимые указания по повышению боеготовности, выполнить их точно и в срок.
«И сейчас задаёшься вопросом, когда осознал Сталин свою ошибочную позицию по отношению к договору с Германией? Конечно, когда наступление стало фактом, его отрицать было невозможно. Но неверие, или, может быть, правильнее в данном случае сказать, сомнение, что немцы напали на Советский Союз, существовало даже после первых известий о войне. Что переживал в этот момент лично Сталин, когда ему доложили о начале войны, мне не известно, но говоривший со мной по телефону Г.М. Маленков, которому я доложил о налёте на Севастополь в 3 часа 20 минут, явно не хотел верить. Доказательством этому служит его перепроверка моих сведений у командования Черноморского флота.
Это даёт основание сделать вывод, что день-два тому назад или даже накануне. когда давались указания Наркомату обороны о возможном нападении. твёрдого убеждения в готовившемся нападении не было. Это и привело к тому, что указания, данные вечером 21 июня, не были категоричными и требующими принятия самых срочных и решительных мер по повышению готовности».
Интересное свидетельство адмирала: оказывается, действительно военные получили «день-два тому назад» и тем более «накануне» указания о «возможном нападении»! А потом эти же военные и рассказывали, что даты нападения они не знали…
Война – это большая политика. И, похоже, нарком ВМФ не шибко в ней разбирался. Стоило Сталину только чуть перегнуть в подготовке к войне, в приведении в б/г, как из жертвы агрессии СССР мог моментально оказаться агрессором. Даже в итоге став победителем, после войны СССР, оставаясь именно жертвой, имел моральное преимущество в глазах мирового общественного мнения. И попытки Запада – США и Англии выставить СССР именно агрессором и виновным в развязывании Второй мировой войны при жизни Сталина проваливались (именно для этого гальдеры и готы с кейтелями и рассказывали под протоколы свои фантазии в 1948 году, но об этих протоколах гитлеровских генералов придётся поговорить в отдельном исследовании-книге). А ведь именно в эти годы, когда немецкие генералы рассказывали, как СССР, по их мнению, собирался напасть первым, в США выходили брошюрки с «документами, разоблачающими» политику СССР. Тогда же начали раскручивать историю с «секретными протоколами» к «пакту Молотова – Риббентропа» от 23 августа 1939 года.
«Дав указания, правительство не включилось в приведение в готовность Вооруженных Сил в целом (почему я как нарком ВМФ оставался ещё в неведении) и не приняло мер о срочной информации заинтересованных наркомов, связанных с военными делами».
Вот здесь Кузнецов привирает. НКВМФ подчинялся СНК (правительству СССР) напрямую, и Кузнецов от правительства и должен был получать необходимые указания.
«А как много можно было бы сделать даже в эти последние предвоенные часы, если бы хоть в субботу всё было поставлено на ноги! Упущенное время, конечно, целиком наверстать уже было невозможно, но лишить противника тактической и оперативной внезапности времени ещё хватало. Вызванные по ВЧ командующие пограничными округами могли ещё за остававшиеся 10–12 часов привести в полную готовность не только такие части, как авиация, находящаяся на аэродромах, или зенитные средства ПВО, но и в движение все остальные части».
Это было бы как раз замечательным подарком Гитлеру, который и заявлял в меморандумах 22 июня, что СССР активно готовится к войне – собирается первым напасть на Германию. Отдача сигналов боевой тревоги для приведения в полную б/г даже днём 21 июня была опасна именно с этой точки зрения.
А вот вечером 21 и ночью 22 июня уже павловы-коробковы как раз и сделали всё, чтобы сорвать подъём войск по тревоге.
«Медленная передача указаний не поспела к началу войны только потому, что этого не требовало правительство или, точнее, Сталин, всё ещё сомневавшийся, будет нападение или не будет…»
Это правда: то, как Тимошенко и Жуков передавали достаточно короткий текст «Директивы № 1» от 21 июня в западные округа, ни в какие ворота не лезет.
Только в одном округе, Одесском ВО, вполне хватило времени даже уже в ночь на 22 июня, получив приказ наркома после 1.00, привести в боевую готовность свои дивизии и перегнать самолёты, и зенитные средства с артиллерией у них оказались в частях, а не на полигонах и в учебных центрах.
Вот только зря Кузнецов обвиняет в этом Сталина. Как раз военные и сорвали передачу указаний Директивы № 1 в войска.
«Официально Сталин в течение всей войны, и особенно пока не определился успех в ней, наши неудачи в начальный период объяснял „внезапным и вероломным” нападением Гитлера. Мне лично не раз доводилось слышать, как на приёмах иностранцев ещё в 1942–1943 гг. он подчёркивал, какие преимущества приобрёл агрессор, напавший на нас, и легко было заметить, как этим он хотел объяснить и наше вынужденное отступление».
В политике адмирал, похоже, так и остался профаном – Сталин постоянно напоминал западным политикам и политиканам, что СССР именно «жертва агрессии». И не дай бог они это забудут. А вот дальше адмирал выдал замечательные слова о Верховном Главнокомандующем И.В. Сталине:
«В последнее время всё чаще высказывается мнение о виновности прежде всего Сталина в том, что он чуть ли не запрещал находиться в повышенной боевой готовности. Это не так… и не подтверждается документами. Он, конечно, требовал не провоцировать войны, но это совсем иное дело.
Когда я, будучи наркомом ВМФ, в предвоенные дни докладывал ему о переводе флотов на повышенную готовность, то не встречал возражения. Не поддаваться на провокации и повышать готовность – вещи разные. Больше того, чтобы не поддаваться на провокацию, нужно быть в повышенной готовности и всему руководству находиться на своих местах, чтобы, если понадобится, отреагировать на осложнение обстановки. <…>Провоцирует агрессора не повышенная готовность, а соблазн лёгкой победы, когда он видит неготовность противника.
Военное руководство независимо от поведения политических руководителей обязано было повышать готовность тех войск, которые находились в приграничных округах, предупреждать о злонамерениях врага в последние предвоенные недели и дни и, наконец, быстро оповестить округа о надвинувшейся угрозе, как это произошло вечером 21 июня.
Длинная телеграмма из Наркомата обороны, которую я видел в 22 часа с минутами (это было, точнее, сразу после 23.00 – видимо, здесь у Кузнецова опечатка. – Авт.) в кабинете наркома обороны маршала С.К. Тимошенко и которая, как теперь известно, не была своевременно даже получена адресатами. показывает, что до этого времени в округа были даны лишь директивы общего порядка и почти ничего не было сделано по повышению готовности в приграничных округах».
Правда, адмирал опять ошибается, говоря о том, что не совсем знает, какие необходимые указания по повышению боевой готовности были именно до 21 июня отданы в западные округа. Другое дело, что Павловы эти указания и особенно приказ ГШ от 18 июня игнорировали…
«После того, как Тимошенко и Жуков посетили Сталина, требовался необычный стиль указаний по радио и по телефонам хотя бы в два-три адреса: Павлову, Кирпоносу, Попову и др.»
Кузнецов, ознакомившись с текстом «Директивы № 1», дал короткий приказ-команду на флоты: «СФ, КБФ, ЧФ, ПВФ, ДВФ. Оперативная готовность № 1 немедленно. Кузнецов». (ПВФ – Пинская военная флотилия, ДВФ – Дунайская военная флотилия.)
Также он сел на телефон после посещения Тимошенко и стал обзванивать флоты и давал им устную команду на переход с повышенной готовности, № 2, в полную готовность – № 1. Но Тимошенко и Жуков обязаны были отправить текст «Директивы № 1», как и положено, в полном объёме в западные округа. Это прежде всего политический документ, и он нужен «для прокурора» и на случай возможных политических переговоров с Гитлером, если бы получилось перевести начавшиеся 22 июня бои в разряд «приграничных конфликтов» и «недоразумений»!
Кузнецова этот документ касался только в плане ознакомления – на нём было указано: «Копия Народ-ноту Комиссару Военно-Морского Флота». Но на флоты ушли именно радиограммы, в таком случае достаточно было только короткого приказа-команды. А в округа связь была проводной, и тут нужен был именно текст. Ведь в округах останется именно полный текст директивы, который может попасть в случае чего к противнику.
Другое дело, что ни Тимошенко, ни Жуков, обзванивая около 1.00 22 июня округа, не стали давать Павловым дополнительные команды-разъяснения, как это делал адмирал Н.Г. Кузнецов в эти же часы. Более того, Тимошенко, позвонив Павлову, сказал следующее (со слов Павлова на следствии): «На мой доклад народный комиссар ответил: „Вы будьте поспокойнее и не паникуйте, штаб же соберите на всякий случай сегодня утром. может, что-нибудь и случится неприятное, но смотрите, ни на какую провокацию не идите. Если будут отдельные провокации – позвоните”. На этом разговор закончился…»
Смотрим далее на рассуждения адмирала:
«Не повысить боеготовность и не создать организацию управления Вооруженными Силами означало не понять современного характера войны. Потерять 1200 самолётов (около 100 в ПрибОВО, около 600 в ЗапОВО и около 500 в КОВО. – Авт.), когда везде так много говорилось о роли авиации в современной войне, – непростительно. За это мы расплачивались весь первый период войны, и наше счастье, что хватило сил и территории, чтобы оправиться и в конечном счёте победить.
И.В. Сталин признавал, что в начале войны у нас положение сложилось чрезвычайно серьёзное, и не случайно он назвал его „отчаянным”, когда в 1945 г. поднимал тост за русский народ, за его терпеливость и доверие к своему правительству Чем же он объяснял создавшееся „отчаянное” положение? Мне довелось дважды слышать на приёмах с участием наших союзников, что нападение было неожиданным и нам пришлось отступать. Более глубокие причины он не раскрывал. Вспоминаю, как после приёмов в Кремле в 1944–1945 гг. (довольно частых одно время) И.В. Сталин любил после официального ужина всех пригласить в небольшой кинозал и показать одну-две ленты. Кино смотреть он любил! Помнится, несколько раз он требовал крутить картину „Если завтра война”. Война началась не совсем так, как в картине, но он с этим не считался, да и положение на фронтах к 1944 г. было уже хорошим. Приглашённые на очередной просмотр, мы спрашивали друг друга: „Какая будет сегодня картина?” И. Ф. Тевосян, с которым мы часто сидели рядом, лукаво улыбнувшись, отвечал: „Самая новая: «Если завтра война»”.
В начале этого „нового” фильма И.В. Сталин кому-то из рядом сидящих громко говорил, что начало у нас было неудачным, и снова объяснял это „неожиданным” нападением Гитлера. Смысл картины, как известно, был таков – враг нападает на Советский Союз, а наши войска, не застигнутые врасплох, тут же переходят в наступление и гонят врага на „его территорию ”».
Честно говоря, лично у меня такое ощущение, что «тиран» этим фильмом постоянно напоминал военным, что они натворили в начале войны, когда именно по их милости приведение в боевую готовность было сорвано…
«Если сейчас смотреть на эту фабулу с оперативно-тактической точки зрения и думать только о самом начале войны, то события развивались по-иному. Если же посмотреть на всю войну в целом по предложенной киносценаристом схеме: нападение на нас, смертельные схватки с противником и в конечном счёте наша победа, то картина будто бы в какой-то мере оправдывалась. Возможно, это и позволяло Сталину, не смущаясь, снова и снова просить „крутить” этот фильм, когда борьба уже подходила к концу и бои гили на территории противника.
После окончания войны с Германией, когда уже готовились к военным действиям на Дальнем Востоке, на одном из совещаний в кабинете Сталина, когда он находился в довольно благодушном настроении и речь мимоходом зашла о неудачном начале войны на Западе (очевидно, в предвидении войны с Японией), я высказал мысль, что очень важно и там нашим войскам быть в готовности. Сталин слушал, а я, пользуясь его вниманием, коротко рассказал, как флоты готовились на случай внезапного нападения Германии в 1941 г. Я, по правде сказать, опасался, что задену больное место, и это вызовет плохую реакцию. Но И.В. Сталин, немного помолчав, спокойно разъяснил, что теперь положение иное и сравнивать его с 1941 г. неправильно. Наши войска сейчас находятся действительно в полной боевой готовности, научились воевать, а японцы не осмелятся выступить первыми. Я не считал удобным как-либо возразить, но вспомнил, как за две-три недели до начала войны с Германией на моё предостережение, что немецкие транспорты в определённой закономерности оставляют наши порты, получил довольно резкий ответ о невероятности нападения на нас. Но обстановка в 1945 г. была уже действительно иная, и наши войска, полностью отмобилизованные и снабжённые новой техникой, находились по-настоящему в полной готовности.
Так или иначе, а опыт начала войны с Германией не должен пройти бесследно… Как известно, США были застигнуты врасплох ударом японцев по американскому флоту в Перл-Харборе, понесли значительные потери и во избежание повторения подобного самым тщательным образом изучали свои неудачи первых часов войны и, насколько мне известно, сделали много практических выводов. По этому поводу написаны целые тома книг с анализом допущенных промахов». (Архив семьи Н.Г. Кузнецова. Подлинник.)
Выводы как говорится, делайте сами…
Вот что ещё писал Кузнецов. Из папки «Перед войной»:
«Маршал Г.К. Жуков в своих воспоминаниях и размышлениях” приводит выдержку из моей записки, с которой я направлял И.В. Сталину копию телеграммы, полученной мной из Берлина от нашего военно-морского атташе М.А. Воронцова. Дело было в начале мая 1941 г. Признаков обострения отношений с Германией было достаточно, хотя такого сосредоточения немецких войск на наших границах, как в июне, ещё не было. И когда М.А. Воронцов доложил мне, что, „со слов одного германского офицера из ставки Гитлера, немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Румынию…", то я действительно не верил этому и написал в записке И.В. Сталину, что, „полагаю, эти сведения являются ложными и специально направлены по этому руслу с тем, чтобы проверить, как на это будет реагировать СССР”. Задумываясь над этим и теперь, мне представляется, что немецкий офицер из Ставки, полагая, что мы не сомневаемся в подготовке Германии к нападению, провокационно давал ложное направление готовящихся ударов.
В своей книге „Накануне” (ещё до выхода воспоминаний Г.К. Жукова), рассказывая об этом эпизоде, я не скрывал, что „брал под сомнение эту телеграмму ”.
В какой степени я ошибался, докладывая о своём сомнении 6 мая Сталину? Ведь 14 мая никакого наступления немцев действительно не произошло, значит, подсказка какого-то „германского офицера из Ставки” носила и на самом деле провокационный характер. Подумать только, какой же офицер из Ставки будет делиться с советским военно-морским атташе о дне выступления Германии на СССР? Уму непостижимо! Но главное, в чём заключалась цель немецкого офицера, так это в привлечении нашего внимания, будто немцы собираются начать нападение „через Финляндию, Прибалтику и Румынию”, и желание их направить нашу подготовку „по этому руслу”, как показала практика, было явно провокационным.
Важным мне кажется другое. Независимо от того, что говорят немцы, угроза войны была налицо, и подготовку к ней следовало вести независимо от различных, противоречивых сведений.
И самым важным в тех условиях я считаю то, что Главный морской штаб добивался повышения готовности флотов, о чём мною и сказано в своём месте.
А когда в июне опасность войны стала более реальной, мы руководствовались прежде всего фактами и учитывали возможность внезапного нападения.
Итак, в начале мая я считал сведения, полученные М.А. Воронцовым от немецкого офицера, недостоверными и даже провокационными. Это было обоснованно и в последующем подтвердилось фактами: немцы не выступили 14 мая и никогда не планировали наступление через Финляндию.
Смысл подкинутого сообщения этого немца заключался в том, чтобы отвлечь внимание от основного направления – на Москву.
Эти „сведения” от немецкого офицера в те дни мне напоминали разговор японского военно-морского атташе в Москве Ямагути о том, что Гитлер собирается наступать куда-то „на восток” через проливы Босфор и Дарданеллы. Было это в конце января 1941 г. Можно допустить, что управляемые из одного центра разведчики оберегали секретность главного направления на Москву и наивно пытались внушить нам по разным каналам, что Германия собирается воевать либо на Крайнем Севере, либо на Юге.
Думается, в эти последние предвоенные месяцы немцы уже не рассчитывали на полную секретность своей подготовки к нападению на CCCF и считали реальным лишь ввести наше руководство в заблуждение о направлении основного удара.
В вероятности и даже, пожалуй, неизбежности скорого нападения я окончательно убедился в середине июня, когда график посещения наших портов немецкими транспортами показывал, с какой закономерностью кривая количества транспортов идёт к нулю. Я хорошо запомнил, как обменялся мнением по этому поводу и своими опасениями с А.И. Микояном (ведь дело шло о транспортах, которыми он тогда ведал), а он мне ответил, что это невероятно. Это, конечно, не его личное мнение. Но такое мнение я слышал в это время и от А. А. Жданова. Нападение Германии на СССР считалось невероятным. Исходило оно, бесспорно, от Сталина и было в известной степени логично. Разве можно было ожидать, что немцы откроют „второй фронт” и не прислушаются к советам покойного „железного канцлера” Бисмарка?
Но в ходе войны не всегда политики управляют событиями, а нередко и сами находятся у них в плену.
Для первой половины мая неверие в скорую войну ещё как-то объяснимо. Но, к сожалению, оно продолжалось до самых последних мирных дней. И только днём 21 июня в настроении Сталина произошёл коренной перелом: под тяжестью фактов он признал возможным скорое нападение немцев и стал отдавать приказания в этом направлении».
Адмирал опять либо лукавит, либо просто не знает (что вряд ли), что в западные округа ушли ещё 11–14 июня директивы НКО и ГШ о фактическом выполнении планов прикрытия – «вывести глубинные дивизии в районы, предусмотренные планом прикрытия». Что на языке военных означает – именно при угрозе войны такие выводы войск в эти районы допускаются.
Также, похоже, адмирал не знает, что, начиная с 11 июня, после того как Гитлер подписал приказ вермахту о нападении на СССР с 22 июня, донесения о точной дате нападения по различным каналам (от разведок различных ведомств до особенно пограничников) пошли валом, и на сегодня опубликовано с полсотни подобных фактов…
«Моё убеждение, что сведения, полученные нашим военно-морским атташе в Германии М.А. Воронцовым, носят провокационный характер, Г.К. Жуков считает, видимо, ошибочным. Я и сам писал об этом в книге Накануне”. Однако нельзя не считаться и с тем, что Главный морской штаб и нарком ВМФ не имели доступа ко всем сведениям, получаемым Генштабом по линии Разведывательного управления».
Хитрая оговорка, в случае чего – какой с адмирала спрос за его высказывания, если ему «не докладывали данные разведки» по событиям перед 22 июня. Хотя тут он прав: на начало мая его реакция на донесение Воронцова была вполне верной.
«Большое количество самой различной информации о вероятности нападения Германии, начиная от Зорге и кончая отдельными перебежчиками на западных границах, концентрировалось в Генштабе, там анализировалось, и поэтому только там могли быть сделаны правильные выводы.
Это, конечно, была дезинформация. Уже после войны я случайно натолкнулся на материал из немецких источников. По нему видно, что наш военно-морской атташе в Берлине М.А. Воронцов был включён в список лиц, подлежащих дезинформационной обработке. Оказывается, его приглашал адмирал Редер и тоже клонил свою речь к возможному наступлению Германии на восточные владения Англии. Это было уже в период активной подготовки операции Барбаросса”, и М.А. Воронцов, к его чести, на удочку не попался. Значит, в эту же дуду играл и японский военно-морской атташе…»
А вот какие воспоминания Н.Г. Кузнецова выложил у себя на сайте «резунист» К. Закорецкий. Из воспоминаний Наркома ВМФ Кузнецова Н.Г., написанных им в ноябре 1963 г. и опубликованных в книге «Оборона Ленинграда, 1941–1944. Воспоминания и дневники участников», с предисловием Маршала Советского Союза М.В. Захарова (Л.: Наука, 1968, с. 224–227. Сдано в набор 18/VII 1965 г. Подписано к печати 17/VI 1968 г. РИСО АН СССР. Тираж 14 500. Цена 3 р. 33 к).
Эти воспоминания, достаточно существенно отличающиеся от того, что позже адмирал напишет в «официальных» мемуарах, уже разбирались в «Адвокатах Гитлера», но стоит их привести ещё раз и разобрать.
«Позволю себе рассказать о любопытном разговоре, возникшему меня с нашим военно-морским атташе в Берлине М. А. Воронцовым. После его телеграммы о возможности войны и подробного доклада начальнику Главного морского штаба Воронцов был вызван в Москву».
Эту телеграмму капитан 1-го ранга Воронцов отправил в Москву 17 июня 1941 года. В ней он указал и дату нападения, 22 июня, и даже время – 3.00. Об этом подробно пишет А. Мартиросян в своём исследовании событий вокруг 22 июня. После этой телеграммы Воронцов тут же был отозван в Москву, а 18 июня вдоль границы ЗапОВО был совершён облёт на У-2 командиром 48-й авиадивизии генералом Захаровым с целью оценки немецких войск. И 18-го же Молотов просил встречи с Гитлером, о чём написал Гальдер в своём служебном дневнике 20 июня.
«Прибыл он около 18 часов 21 июня. В 21 час был назначен его доклад мне. Он подробно в течение 40–45 минут докладывал мне свои соображения. „Так что – это война.?” – спросил я его. „Да, это войне”, – ответил Воронцов. Несколько минут прошло в молчании, потом пришли к заключению, что нужно переходить на оперативную готовность номер 1. Однако сомнения и колебания отняли у нас известное время, и приведение флотов в готовность номер 1 состоялось уже после вызова меня в 23 часа к маршалу С.К. Тимошенко…
Со мной был В. А. Алафузов. Когда вошли в кабинет, нарком в расстёгнутом кителе ходил по кабинету и что-то диктовал. За столом сидел начальник Генерального штаба Г.К. Жуков и, не отрываясь, продолжал писать телеграмму. Несколько листов большого блокнота лежали слева от него: значит, прошло уже много времени, как они вернулись из Кремля (мы знали, что в 18 часов оба они вызывались туда) и готовили указания округам.
возможно нападение немецко-фашистских войск”, – начал разговор С.К. Тимошенко. По его словам, приказание привести войска в состояние боевой готовности для отражения ожидающегося вражеского нападения было им получено лично от И.В. Сталина, который к тому времени уже располагал, видимо, соответствующей достоверной информацией».
И один из источников этой «достоверной информации» – это донесение Воронцова из Берлина от 17 июня…
«При этом С.К. Тимошенко показал нам телеграмму, только что написанную Г.К. Жуковым.
Мы с В. А. Алафузовым прочитали её. Она была адресована округам, а из неё молено было сделать только один вывод – как молено скорее, не теряя ни минуты, отдать приказ о переводе флотов на оперативную готовность номер 1…
Не теряя времени, В. А. Алафузов бегом (именно бегом) отправился в штаб, чтобы дать экстренную радиограмму с одним условным сигналом или коротким приказом, по которому завертится вся машина… Множество фактов говорило за то, что гитлеровцы скоро нападут…»
После этого Кузнецов отбыл в свой наркомат и сам стал по телефону обзванивать флоты и поднимать их по тревоге.
«В 23 ч. 35 м. я закончил разговор по телефону с командующим Балтийским флотом. А в 23 ч. 37 м., как записано в журнале боевых действий, на Балтике объявлена оперативная готовность номер 1, т. е. буквально через несколько минут все соединения флота у же начали получать приказы о возможном нападении Германии…
Черноморский флот в 1 ч. 15 м. 22 июня объявил о повышении готовности, провёл ряд экстренных мероприятий ив 3 часа был уже готов встретить врага. В 3 ч. 15 м. хорошо отличимый по звуку звонок особого телефона. Докладывает командующий Черноморским флотом Октябрьский, – услышал я в трубку, и этот особо официальный тон сразу насторожил меня. – Самолёты противника бомбят Севастополь”. С этими словами оборвалась последняя нить надежды».
Эти воспоминания Кузнецова отличаются о того, что он позже напишет в своих мемуарах, и отличия эти достаточно существенные. Первое: здесь адмирал более резко показывает, что Жуков и Тимошенко, получив приказ Сталина «привести войска в состояние боевой готовности для отражения ожидающегося вражеского нападения», тянули время и не торопились с отправкой этого приказа в округа – «прошло уже много времени, как они вернулись из Кремля (мы знали, что в 18 часов оба они вызывались туда) и готовили указания округам».
А дальше он сообщает, что, прочитав текст приказа, он сделал для себя однозначный вывод, что флота данная «Директива № 1» касалась: «Она была адресована округам, а из неё можно было сделать только один вывод – как можно скорее. не теряя ни минуты, отдать приказ о переводе флотов на оперативную готовность номер 1…»
В своих последующих мемуарах, через несколько лет, Кузнецов заявит, что данный приказ флота не касался вовсе, а вот он вроде как проявил инициативу – дал на флот телеграмму о приведении его в готовность № 1 после 23.00 21 июня.
Стоит пояснить, что Кузнецов был у Сталина с 19–02 до 20.15 и, скорее всего, получал от Сталина указания по флоту в связи с возможным нападением Германии 22–23 июня. Также в 1963 году Кузнецов пишет, что Тимошенко и Жуков вызывались к Сталину в 18 часов, а в мемуарах от 1969 года адмирал напишет, что Жукова и Тимошенко вызвали в Кремль ещё в 17 часов
21 июня. Воронцов тут показан как прибывший к нему около 21.00, а в «официальных» мемуарах атташе прибыл к нему на доклад в… 20.00 (к этим воспоминаниям мы ещё вернемся в последней главе, но уже по другому вопросу).
Вот что пишет Кузнецов по поводу сообщения Воронцова (хотя и пытается уменьшить его значение):
«В те дни, когда сведения о приготовлениях фашистской Германии к войне поступали из самых различных источников, я получил телеграмму военно-морского атташе в Берлине М.А. Воронцова. Он не только сообщал о приготовлениях немцев, но и называл почти точную дату начала войны. Среди множества аналогичных материалов такое донесение уже не являлось чем-то исключительным. Однако это был документ, присланный официальным и ответственным лицом. По существующему тогда порядку подобные донесения автоматически направлялись в несколько адресов. Я приказал проверить, получил ли телеграмму И.В. Сталин. Мне доложили: да, получил.
Признаться, в ту пору я, видимо, тоже брал под сомнение эту телеграмму, поэтому приказал вызвать Воронцова в Москву для личного доклада…»
Смотрим, что же здесь пишет Н.Г. Кузнецов:
1. Он указывает, что Воронцов сообщает точную дату нападения (адмиральское «почти» в данном случае несущественно и скорее лукаво, ибо Воронцов действительно дал точную и дату и время нападения – 22 июня. 3.00).
2. Он сообщает важную оговорку: «Среди множества аналогичных материалов такое донесение уже не являлось чем-то исключительным». Т. е., в эти дни, за неделю до 22 июня, сообщения о точной дате уже не были «исключительным» событием – такие сообщения шли волной, десятками.
3. Он подчёркивает, что это был доклад именно официального лица, резидента разведки, работающего в посольстве в Берлине под прикрытием военно-морского атташе.
4. Эти сообщения разведки в обязательном порядке докладывались главе правительства, И.В. Сталину.
А теперь посмотрим, что об этом сообщении Воронцова пишет историк А. Мартиросян («Что знала разведка?», Красная звезда, МО РФ, от 16.02.2011 г.):
«В 10 часов утра 17 июня Анна Ревельская посетила советского военно-морского атташе в Берлине капитана 1 – го ранга М.А. Воронцова и сообщила ему, что в 3 часа ночи 22 июня германские войска вторгнутся в Советскую Россию. Информация Анны Ревельской немедленно была сообщена в Москву и доложена Сталину». (Интервью М.А. Воронцова опубликовано в «Морском сборнике» № 6 в 1991 г.)
Кстати, таким образом в 1963 году адмирал Н.Г. Кузнецов и ответил своими воспоминаниями на вопрос Покровского № 3: «Когда было получено распоряжение о приведении войск в боевую готовность в связи с ожидавшимся нападением фашистской Германии с утра 22 июня; какие и когда были отданы указания по выполнению этого распоряжения и что было сделано войсками?», то есть кто и как тянул время с отправкой в западные округа сообщения об ожидавшемся возможном нападении Германии 22 июня.
Но в любом случае воспоминания Н.Г. Кузнецова наиболее ценные среди многих воспоминаний генералов. Ведь он был в Москве, и на его глазах шла отправка «Директивы № 1». По ценности его воспоминания стоят в одном ряду с воспоминаниями К.К. Рокоссовского, который, правда, на 22 июня был всего лишь командиром мех. корпуса резерва КОВО, и маршала М.В., Захарова, который на 22 июня был начштаба Одесского ВО. А теперь посмотрим, что писали другие генералы…
Генерал-полковник Г.П. Пастуховский «Развёртывание оперативного тыла в начальный период войны» (ВИЖ № 6, 1988 г., с. 18–25):
«..На готовности и возможностях оперативного тыла отрицательно сказались и принятые в то время взгляды на характер будущей войны. Так, в случае агрессии приграничные военные округа (фронты) должны были готовиться к обеспечению глубоких наступательных операций. Варианты отмобилизования и развёртывания оперативного тыла при переходе советских войск к стратегической обороне и тем более при отходе на значительную глубину не отрабатывались. Это, в свою очередь, обусловило неоправданное сосредоточение и размещение в приграничных военных округах большого количества складов и баз с мобилизационными и неприкосновенными запасами материальных средств. По состоянию на 1 июня 1941 года на территории пяти западных военных округов (ЛенВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО и ОдВО) было сосредоточено 340 стационарных складов и баз, или 41 проц. их общего количества [Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ч. 1. – Л.: Изд. Военной академии тыла и транспорта, 1963. С. 20–21]. Здесь же размещалось значительное количество центральных складов и баз Главнефтеснаба и Управления государственных материальных резервов. Необоснованная концентрация складов и баз в приграничной полосе стала одной из главных причин больших потерь материальных средств в начальном периоде войны. <….>
В связи с быстрым продвижением противника на восток пришлось оставить или уничтожить значительное количество материальных средств. Только на Западном фронте за первую неделю боевых действий (с 22 по 29 июня) было потеряно 10 артиллерийских складов, что составило свыше 25 тыс. вагонов боеприпасов (30 проц. всех запасов), 25 складов и баз, где хранилось более 50 тыс. т (50 проц.) горючего, 14 складов с почти 40 тыс. т (50 проц.) прод-фуража и большое количество других материальных ресурсов [ЦАМО СССР, ф. 208, оп. 14703, Д. 1, л. 36; оп. 2454, д. 27, л. 152]…»
Эти слова Пастуховского обожают использовать «резуны» как доказательство подготовки Сталиным агрессии против Гитлера. Выделяя и подчеркивая такие слова: «приграничные военные округа (фронты) должны были готовиться к обеспечению глубоких наступательных операций. Варианты отмобилизования и развёртывания оперативного тыла при переходе советских войск к стратегической обороне и тем более при отходе на значительную глубину не отрабатывались». При этом они выбрасывают начало предложения: «В случае агрессии приграничные военные округа (фронты) должны были готовиться…» Слова эти явно о Гитлере и его агрессии (т. е. о вероятном нападении, а не о неких, например, агрессивных политических выпадах), а его-то как раз, похоже, и пытаются «обелить» сторонники Резуна. Самое же важное в цитате – что РККА готовилась наступать сразу после того, как враг нападёт, немедленно, в ответном встречном контрнаступлении «операции вторжения».
А вот что писал о том, как пригнали базы МТО к самой границе, сам Жуков:
«Нарком обороны, Генеральный штаб и я в том числе считали необходимым в условиях надвигающейся войны подтянуть материально-технические средства ближе к войскам. Казалось бы, это было правильное решение, но ход военных событий первых недель войны показал, что мы допустили в этом вопросе ошибку. Врагу удалось быстро прорвать фронт нашей обороны и в короткий срок захватить материально-технические запасы округов, что резко осложнило снабжение войск и мероприятия по формированию резервов». (Воспоминания и размышления. М., 1969 г., с. 224.)
Но в данном случае Жуков лукавит. Подтягивание складов МТО и вооружений ближе к границе делалось для лучшего снабжения войск в случае нанесения немедленного ответного «победного» удара по вторгшемуся врагу. Самоуверенно предполагалось, что враг отступит после мощного флангового удара из КОВО, войскам которого, «победоносно» наступающим с юга Польши на Балтику, и потребуется снабжение топливом и боеприпасами со складов, размещённых в той же Белоруссии у границы. По этой же причине и часть аэродромов расположили в Белоруссии у самой границы – для поддержки наступающих в Польше войск КОВО. Ведь радиус действия тогдашних самолетов фронтовой авиации был невелик.
Было ли это преступлением со стороны Жукова и Тимошенко? Отвечая словами Наполеона – с их стороны это было ошибкой. Что часто гораздо хуже преступления. Но мне почему-то кажется, что были и те, кто, как в своё время Уборевич, понимали, что эта ошибка будет именно преступлением, которое и приведёт к погрому РККА.
Статья Пастуховского вполне профессиональна, с анализом и указанием причин произошедшего. Чем не могут похвастать, увы, многие мемуары… Однако некоторые из них рассмотрим и разберём с учётом фактов и документов и попробуем понять, о чём на самом деле пишут мемуаристы. И что скрывается за некоторыми сообщаемыми ими фактами тех дней перед 22 июня.
Сразу предупрежу читателя: цитируя достаточно большие отрывки воспоминаний генералов, буду делать разбор или пояснять то, что приводят генералы, в связи с чем возможны некоторые повторы в этих комментариях. По возможности ненужная личная лирика генералов будет пропущена, но то, что касается описания предвоенных дней, будет показано достаточно подробно.
Начнем, как говорится, «сверху», с Прибалтийского ОВО…
Ротмистров П.А. Стальная гвардия. М.: Воениздат, 1984 г. (есть в Интернете). Гл. 2 «Суровые испытания»:
«В конце мая 1941 года меня назначили начальником штаба 3-го механизированного корпуса. Корпус дислоцировался на территории Литвы: 2-я танковая дивизия северо-западнее города Каунаса в Россиенах (Расейняй), части 84-й мотострелковой дивизии восточнее Каунаса в Кайшадирах (Кайшядорас), а 5-я танковая дивизия – значительно южнее, в городе Алитусе.
Сдав 5-ю танковую дивизию вернувшемуся с командных курсов полковнику Ф. Ф. Фёдорову, я выехал в Каунас, где размещался штаб корпуса с частями корпусного подчинения.
Командовал корпусом генерал-майор танковых войск А.В. Куркин – человек твёрдого характера и редкой работоспособности. <…>
Обамы были абсолютно убеждены, что недалеко то время, когда, охмелённая лёгкими победами на Европейском континенте гитлеровская армия ринется на Советский Союз. И даже известное Заявление ТАСС от 14 июня 1941 года о беспочвенности слухов, касающихся подготовки немцами войны против СССР, не поколебало нашей убежденности».
Увы, до сих пор находятся историки, твердящие о том, что то Сообщение ТАСС «дезориентировало командиров», и особенно в самих округах…
«Зачем тогда, рассуждали мы, гитлеровцы перебрасывают крупные военные силы в Восточную Пруссию, а их самолёты откровенно ведут воздушную разведку советской территории?
В этой тревожной обстановке мы совершенствовали боевую и политическую подготовку личного состава частей и соединений, проводили полковые и дивизионные учения, направляя все усилия командиров и штабов на поддержание постоянной боевой готовности личного состава корпуса.
21 июня. буквально за несколько часов до вторжения немецко-фашистских войск в Литву, к нам в Каунас прибыл командующий войсками Прибалтийского Особого военного округа генерал-полковник Ф.И. Кузнецов. Торопливо войдя в кабинет генерала Куркина (командир 3 мк), у которого я в то время был на докладе, он кивнул в ответ на наше приветствие и без всякого предисловия сообщил как ударил:
– Есть данные, что в ближайшие сутки-двое возможно внезапное нападение Германии.
Мы молча переглянулись. И хотя нас в последние дни не оставляло предчувствие этой беды, сообщение Кузнецова ошеломило.
– А как же Заявление ТАСС? – изумлённо спросил Куркин. – Ведь в нём говорилось…
– Но ведь это же внешнеполитическая акция, которая к армии не имела прямого отношения, – сказал командующий. Он устало опустился на стул, вытирая носовым платком вспотевшее, сильно осунувшееся лицо. – Не надо сейчас заниматься обсуждением этих проблем. У нас есть свои достаточно важные. Немедленно под видом следования на полевые учения выводите части корпуса из военных городков в близлежащие леса и приводите их в полную боевую готовность».
Попробуйте понять – в каком же часу 21 июня прибыл в 3-й мк командующий ПрибОВО Ф. Кузнецов, сообщил, что нападение произойдёт буквально в считанные часы, и дал команду приводить мехкорпус в полную б/г? Скорее всего, он прибыл в Каунас 21-го вечером. И Ротмистров его увидел ещё в рабочее время в кабинете комкора Куркина, примерно около 19–00 (допустим) 21 июня. Каунас расположен недалеко от границы, т. е. Кузнецов приводил в полную боевую готовность приграничные дивизии по «пр. ГШ от 18 июня»?! Или был приказ Москвы о приведении в б/г ещё и вечером 21 июня?! Т. е. Тимошенко и Жуков обзванивали округа вечером 21 июня и ставили задачу на приведение в боевую готовность ещё раз, после
18 июня?! (Подобный приказ о повышении б/г был вечером 21 июня и в ОдВО – о нём упоминает в своей книге «Удар по Украине» военный историк В. Рунов.)
Также, возможно, Кузнецов мог получить информацию от начальника разведки округа, что они добыли сведения (возможно агентурным или техническим путём), что немцы получили приказ на начало войны и войска выполняют этот приказ…
«– Товарищ командующий, – обратился комкор к Кузнецову, – разрешите собрать корпус на каком-то одном указанном вами операционном направлении.
Ф.И. Кузнецов, с минуту подумав, отклонил просьбу А.В. Куркина.
– Поздно заниматься перегруппировками, – сказал он. – Авиация немцев может накрыть ваши части на марше.
Моё предложение о подготовке к эвакуации семей командиров и политработников в глубь страны тоже не получило поддержки командующего.
– Возможно, это и необходимо, – сказал он, – но нельзя не учитывать, что такая мера может вызвать панику.
После отъезда командующего войсками округа мы тотчас же занялись выполнением его распоряжений. Во все дивизии были срочно направлены ответственные работники штаба и политотдела корпуса. Им предстояло оказать помощь командованию в выводе частей и соединений в районы их сосредоточения, в подготовке к обороне этих районов, оборудовании командных и наблюдательных пунктов, организации связи, управления и полевой разведки.
Управление 3-го механизированного корпуса во главе с генералом А.В. Куркиным убыло в Кейданы (Кедайняй), севернее Каунаса. Отсюда мы установили связь со 2-й танковой и 84-й мотострелковой дивизиями, а также со штабом 11-й армии, от которого, кстати, узнали, что наша 5-я танковая дивизия, оставаясь на самостоятельном алитусском направлении, подчинялась непосредственно командующему армией.
Чтобы представить, в каких невыгодных условиях Прибалтийский Особый военный округ, преобразованный в начале войны в Северо-Западный фронт, встретил вторжение гитлеровских полчищ в Прибалтику, следует, очевидно, познакомить читателя с некоторыми данными.
К июню 1941 года округ имел в своём составе 2 общевойсковые армии (8-ю и 11-ю), насчитывавшие 25 дивизий и 1 бригаду, в том числе 4 танковые и 2 мотострелковые дивизии (3-й и 12-й мехкорпуса). Кроме того, у Пскова дислоцировались 2 стрелковые дивизии и бригада окружного подчинения, с началом войны объединённые в 27-ю армию. Из всех соединений 1-я стрелковая дивизия прикрывала побережье Балтийского моря у Вентспилса (Виндава) и Лиепаи (Либава), 7 стрелковых дивизий предназначались для обороны сухопутной границы Литовской ССР с Германией (Восточной Пруссией) на фронте 300 км. Однако большинство соединений находилось в летних лагерях, и каждое имело у государственной границы прикрытие от роты до батальона.
В тот день [21 июня], когда нас посетил командующий округом, в боевую готовность были приведены механизированные корпуса и только 6 стрелковых дивизий. при этом им (стрелковым соединениям) ещё предстояло совершить марш к гос-границе из районов лагерей и военных городков».
На сайте «Подвиг народа» выложен Журнал боевых действий Северо-Западного фронта с
18 июня по 31 июля 1941 года (Оперативный отдел штаба СЗФ, ф. 221, оп. 1351, д. 200, л. 1-67), в котором указано, что к исходу 21 июня «своевременно были выведены только 90, 188, 5 сд, но и они в своём большинстве занимались оборудованием лагерей, меньше боевой подготовкой.
Таким образом, непосредственно у госграницы находились от Балтийского побережья до Аугстогаллен: 10 ск – 10, 90 и 125 сд 11 ск; от р. Неман и до Копциово – 16 ск – 5, 33, 188 сд и 128 сд.
Эти части в основном располагались в лагерях, имея непосредственно у государственной границы прикрытие от роты до батальона, по существу, усилив пограничную службу.
11, 16, 23, 126, 183 сд продолжали оставаться в лагерях или на зимних квартирах.
3 и 12 мк заняли районы сосредоточения согласно плану.
Положение частей СЗФ на 21.6 – смотри карту.
Какой вывод можно сделать из группировки и сосредоточения войск на 21.6:
1. Сосредоточение войск опаздывало на 5–7 суток.
2. Нет ярко выраженной группировки войск, больше того, ударная сила – мех. корпуса растащены по дивизиям по ряду направлений.
3. К исходу 21.6 в боевую готовность были приведены только части прикрытия (шесть сд) и мехкорпуса.
4. Штабы фронта, армий, корпусов и дивизий заняли свои КП, предназначенные на случай военных действий.
<…>
Итак, мы видим – войска СЗФ, согласно мобплану мк и боевых распоряжений штабфронта, первым эшелоном занимали полевые оборонительные сооружения, продолжали сосредоточение и группировку своих резервов для решительных действий на госгранице против немецких войск.»
Т.е. Ротмистров в принципе совершенно верно описал ситуацию накануне нападения. Читаем его воспоминания далее:
«В 4.00 22 июня 1941 года немецкая авиация нанесла в Прибалтике массированные удары с воздуха по нашим аэродромам, крупным железнодорожным узлам, портам, городам Рига, Виндава (Вентспилс), Либава (Лиепая), Шяуляй, Каунас, Вильнюс, Алитус и другим. Одновременно тяжёлая артиллерия противника начала мощный обстрел населённых пунктов и наших войск вдоль всей литовско-германской границы. Даже до Кейданы (Кедайняй) доносился гул артиллерийской канонады и грохот разрывов авиационных бомб.
В 530-6.00 вражеская пехота после повторного налёта авиации, нарушив границу, перешла в наступление. В 8.30-9.00 немцы бросили в бой крупные силы мотомеханизированных войск по трём направлениям: Таураге, Шяуляй; Кибартай, Каунас и Калвария, Алитус.
Тогда мы ещё не знали, каким огромным преимуществом в силах и средствах располагал противник.
Лишь позже было установлено, что на наши войска здесь фашистское командование обрушило удар всей германской группы армий „Север”, а также 3-й танковой группы и двух левофланговых армейских корпусов 9-й армии, входившей в состав немецких армий „Центр“. Они имели в своём составе 40 дивизий, из них 25 (в том числе 6 танковых), наступавших в первом эшелоне.
На направлениях своих главных ударов гитлеровское командование создало подавляющее превосходство. Так, например, наша левофланговая 125-я стрелковая дивизия 8-й армии, развернувшаяся на фронте в 40 километров. была атакована частями трёх танковых и двух пехотных дивизий, за которыми следовали во втором эшелоне ещё три моторизованные дивизии 4-й танковой группы немцев».
По уставу РККА стрелковая дивизия в обороне должна была держать фронт максимум до 15 км…
«Такими же превосходящими по численности силами были атакованы части 188, 126 и 128-й стрелковых дивизий 11-й армии. Против их пяти развернувшихся для боя полков на фронте до 100 километров наступали, составляя первый эшелон, шесть пехотных и три танковые дивизии, за которыми вторым эшелоном следовали одна пехотная, три моторизованные и одна танковая дивизии 3-й танковой группы противника. Эта вражеская армада средних и тяжёлых танков, лавина пехоты на бронетранспортёрах и автомашинах поддерживалась большим количеством самолётов, непрерывно бомбивших наши войска, их штабы и тылы, резервы и коммуникации».
То есть против 5 стрелковых полков 11-й армии ПрибОВО, растянутых на 100 километров фронта, наступало 6 пехотных и 3 танковые дивизии вермахта. Что составляло чуть не пятикратное превосходство в людях, не говоря уже о технике…
«Упреждающее оперативное развёртывание мощных сил, имеющих почти двухлетний опыт войны, массированное применение авиации и бронетанковых войск сразу же обеспечили гитлеровцам крупный успех. Уже в первый день войны наши слабые части прикрытия, штатный состав большинства которых был укомплектован молодыми бойцами лишь в 1940 году, оказались смятыми. К вечеру 22 июня войска 4-й танковой группы противника вышли на рубеж реки Дубисса (35 километров северо-западнее Каунаса), а вражеские дивизии первого эшелона 3-й танковой группы, используя захваченные в районе Алитуса и Меркиса мосты, переправились через Неман…»
Ротмистров пишет, что 3-й мех. корпус, где он был начальником штаба, был приведён в боевую готовность лишь 21 июня к ночи. И начался его вывод с мест дислокации в окрестные леса. Однако по свидетельству генерала П.П. Полубоярова, отвечавшего на вопросы генерал-полковника А.П. Покровского, «16 июня распоряжением штаба округа приводился в боевую готовность и 3-й механизированный корпус (командир генерал-майор танковых войск А.В. Куркин)» (ВИЖ № 5, 1989 г. с. 23).
В ПрибОВО было всего 2 мех. корпуса, и оба были приведены, по его словам на официальном расследовании, округом в полную боевую готовность 16–17 июня, т. е. после получения 14–15 июня в Риге Директивы НКО и ГШ от 12 июня. Однако, похоже, Полубояров после войны на том расследовании выдал желаемое за действительное или не хотел подставлять своего бывшего командующего, Ф.И. Кузнецова. Скорее всего 3-й мк приводился в б/г и выводился в районы сосредоточения именно в ночь на 22 июня. А ведь его танковые дивизии находились от границы дай бог километров в 50, а моторизованная – в 100… Расположенные на «зимних квартирах» на расстоянии свыше 50 км друг от друга.
Почему Полубояров явно соврал, отвечая Покровскому? Потому что именно 16 июня и должны были привести в б/г эти мехкорпуса, после получения директивы НКО и ГШ от 12 июня о начале вывода частей 2-го эшелона в районы сосредоточения по плану прикрытия округа – «вывести в лагеря в районы, предусмотренные ПП». По ПП также должны были поднимать в округах по тревоге и мк, приводить их в повышенную б/г и выводить в районы сосредоточения. Это предусматривалось директивами от 11–12 июня, и поэтому Полубояров не стал говорить, что 3-й мк такую команду получил только 21 июня. А теперь ещё раз вспомните, как приводили в б/г мехкорпус Рокоссовского в КОВО.
Хетагуров Г.И. Исполнение долга. М.: Воениздат, 1977 г. (есть в Интернете). Гл. «Новые испытания».
«Весной 1941 года меня опять назначили начальником артиллерии корпуса. На этот раз —21 – го механизированного. <…>
Наш 21-й механизированный корпус формировался в Московском военном округе. На укомплектование его был направлен, можно сказать, отборный личный состав, в основном из 1-й Московской Пролетарской мотострелковой дивизии и Особой кавалерийской бригады, тоже размещавшейся в Москве.
Командовать корпусом назначили бывшего командира Пролетарской дивизии Героя Советского Союза генерал-майора Д. Д. Лелюшенко, удостоенного этого высокого звания за боевые успехи на советско-финском фронте. Штаб корпуса возглавил полковник A. А. Асейчев – один из наиболее подготовленных танкистов того времени. 46-й танковой дивизией стал командовать Герой Советского Союза полковник
B.А. Концов, отлично проявивший себя в боях на Хал-хин-Голе. 42-ю танковую дивизию получил под командование полковник Н.И. Воейков, прошедший большую боевую школу на фронтах гражданской войны. Командиром 185-й мотострелковой дивизии назначили генерал-майора П.Л. Рудчука, бывшего будённовца, командовавшего кавбригадой в легендарной Первой Конной армии и награждённого за боевые подвиги двумя орденами Красного Знамени. <…>
В середине июня генерал Лелюшенко решил в порядке командирской учёбы провести рекогносцировку местности на двинском (даугавпилсском) направлении, наметить маршруты движения дивизий, возможные рубежи развёртывания, определить, где наиболее выгодно разместить пункты управления».
Опять эта пресловутая личная инициатива командиров РККА, которые «самовольно» выполняли всего лишь не более чем свои должностные обязанности… или приказы сверху.
21-й механизированный корпус Лелюшенко был сформирован в Московском ВО в марте 1941 года. До середины июня находился в Резерве Главного Командования МВО, готовился для усиления ПрибОВО в качестве резерва (штаб, похоже, был расположен в поселке Идрица Псковской области). На 22 июня в 21-м мк имелось всего лишь 175 танков вместо расписанных по штату тысячи с лишним.
После того как в Ригу 14–15 июня пришла директива НКО и ГШ от 12 июня о выдвижении глубинных дивизий в сторону границы, «в районы, предусмотренные планами прикрытия», Лелюшенко провёл хотя бы рекогносцировку района, куда его мех. корпус должен будет выдвигаться в случае войны, но корпус после 15 июня с места не двигался… С ним повторилась та же история, что и с 9-м мк Рокоссовского в КОВО. Тот тоже был в резерве округа и вроде как его данная директива от 12 июня не касалась. А в итоге мк приводился в боевую готовность уже чуть не под обстрелом…
«21 июня командира корпуса вызвали в Москву. Для нас это не было чем-то необычным – вызывали его частенько.
Уезжая, генерал Д. Д. Лелюшенко приказал Асейчеву разработать план учений, используя данные рекогносцировки. Тот привлёк к этому делу и меня.
В субботу мы допоздна засиделись в штабе. Закончив работу, Асейчев потянулся устало и предложил:
– Что, Георгий Иванович, может, утречком махнём на рыбалку?
– С великим удовольствием, Анатолий Алексеевич, – согласился я. – Как-никак – выходной, имеем законное право отдохнуть.
Договорились выехать пораньше, чтобы к обеду уже вернуться домой. Понимали: рыбалка рыбалкой, а время-то неспокойное».
В ПрибОВО 15 июня пришла директива НКО и ГШ от 12 июня, а командование 21 – го мк об этом понятия не имеет – собирается 22 июня на рыбалку. Но Лелюшенко хоть дал команду отработать план мероприятий на случай приказа о выдвижении в район сосредоточения своего 21-го мк.
«В четыре утра 22 июня, облачившись в рыбацкое снаряжение, я с нетерпением ждал Анатолия Алексеевича. И вдруг раздался резкий телефонный звонок. Снимаю трубку и слышу голос оперативного дежурного по штабу:
– Товарищ полковник! Посты ВНОС докладывают, что с запада доносится рокот самолётов и слышатся сильные взрывы…
Требую немедленно соединить меня с квартирой Асейчева. Никто не отвечает. Наскоро переодевшись, побежал в штаб. По дороге встретился с Асейчевым.
– Рыбалку отставить! Всех на ноги – похоже, началась война, – взволнованно сказал он.
К пяти часам связались со штабом Московского военного округа. Но там знали столько же, сколько и мы. Разыскать по телефону командира корпуса не удалось.
Дозвонились до Риги. Оттуда сообщили некоторые подробности: немецкая авиация бомбила Ригу, Вин-даву, Шяуляй, Каунас, Вильнюс, порты и железнодорожные мосты; по всей западной границе Литвы противник ведёт мощную артиллерийскую и авиационную подготовку».
По воспоминаниям генерал-полковника Хлебникова (подробно разобраны в книге «Адвокаты Гитлера»), начальника артиллерии 27-й армии ПрибОВО, который находился в штабе округа в Риге, после 1.30 в Ригу пошли звонки командиров частей с просьбой разъяснить, что за директиву (директиву № 1 по ПрибОВО) им прислал командующий округом Ф. Кузнецов. Однако остававшийся за Кузнецова его заместитель генерал-лейтенант Софронов не мог ничего ответить вразумительного, а самого Кузнецова найти никто не мог, а тот в Ригу не сообщил об этой директиве. Находился он вроде в расположении полевого КП в районе 11-й армии ПрибОВО, но чуть ли не сутки его найти не могли: «Где командующий?» – «Командует…»
«Примерно в половине второго ночи (22 июня. – Авт.) начались непрерывные звонки из частей. Командиры спрашивали: как понимать директиву командующего округом? Как отличить провокацию от настоящей атаки, если противник предпримет боевые действия?
Положение у Егора Павловича затруднительное: что им ответить, если сам в глаза не видел этой директивы? Командующий округом отдал её войскам первого эшелона, не известив своего заместителя.
Уже после войны я узнал причину этой несогласованности. Оказывается, командующий округом генерал-полковник Кузнецов. как и другие командующие приграничными округами. сам получил из Москвы директиву Наркома обороны и начальника Генерального штаба о приведении войск в боевую готовность лишь около часа ночи 22 июня» (Хлебников Н.М. Под грохот сотен батарей. М., 1974 г., гл. «Страна вступает в бой. Накануне». Есть в Интернете).
Но, похоже, Хлебников оговорился. Он пишет, что «примерно в половине второго ночи начались непрерывные звонки из частей». Однако скорее всего, звонки из частей ранее половины третьего в Ригу поступать не могли. Дело в том, что существует текст «Директивы № 1» по ПрибОВО. Опубликован он был в «Сборнике боевых документов Великой Отечественной войны» (М.: Воениздат, 1947–1960 гг. Вып. № 34. Военное издательство МО СССР, Москва, 1953 г. http://militera.lib.ru/docs/da/sbd/index.html). На этом документе указано время отправки окружной «Директивы № 1» в армии:
«ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ПРИБОВО ОТ 22 ИЮНЯ 1941 г. ВОЕННЫМ СОВЕТАМ 8-й И 11 – й АРМИЙ О МЕРОПРИЯТИЯХ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМ НАПАДЕНИЕМ НЕМЦЕВ В ПЕРИОД 22–23 ИЮНЯ 1941 г.
СОВ. СЕКРЕТНО ВОЕННЫМ СОВЕТАМ 8-й и 11-й АРМИИ
22 июня 1941 г. 2 часа 25 минут
1. Возможно в течение 22–23.6.41 г. внезапное нападение немцев на наше расположение. Нападение может начаться внезапно провокационными действиями.
2. Задача наших частей – не поддаваться ни на какие провокационные действия немцев, могущие вызвать крупные осложнения.
Одновременно наши части должны быть в полной боевой готовности встретить внезапный удар немцев и разгромить [противника].
ПРИКАЗЫВАЮ: <…>
Командующий войсками Прибалтийского особого военного округа генерал-полковник Ф. Кузнецов
[Начальник управления политпропаганды округа бригадный комиссар] Рябчий
[Начальник штаба округа генерал-лейтенант] Клёнов» (Ф. 221, оп. 2467сс, д. 39, л. 77–84).
Но в 21-м мк сами узнали о нападении, от своих постов ВНОС, сами дозвонились в штаб округа в Ригу после 5 часов утра…
«Асейчев объявил боевую тревогу, приказал командирам дивизий срочно выводить личный состав в секретные районы сосредоточения и одновременно вывозить туда же подвижный запас артснарядов, мин, горючего. Потом он позвонил местным властям – проинформировал их о нападении немцев и порекомендовал принять меры на случай налёта фашистской авиации.
До получения указаний из Москвы сам Анатолий Алексеевич решил оставаться на месте, а меня послал в район сосредоточения 185-й мотострелковой дивизии. <…>
Убедившись, что здесь всё идёт нормально, и отдав от имени Асейчева некоторые дополнительные указания, я вернулся в штаб корпуса. Асейчева застал у радиостанции. Тут же собрались все, кто ещё оставался в штабе. Внимательно слушали выступление заместителя Председателя Совнаркома и Наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова. Мне довелось услышать только последние три фразы: Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами…»
Но это было уже в 12.00 22 июня…
А вот что описывает сам комкор-21, генерал Лелюшенко.
Лелюшенко Д.Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага. Записки командарма. М.: Наука, 1987 г. (есть в Интернете).
«В феврале 1941 г. меня назначили командиром
21 – го механизированного корпуса, который предстояло ещё сформировать. В его состав должны были войти 2 танковые и моторизованная дивизии. <…>
По штату корпусу полагалось иметь 1031 танк разных марок, а мы имели 98 устаревших БТ-7 и Т-26. Мощные КВ и Т-34, равных которым не было тогда ни в одной армии капиталистических государств, только начали поступать в войска. Стрелкового и артиллерийского оружия тоже недоставало, в связи с тем, что Красная Армия находилась в стадии перевооружения. <…>
Примерно за месяц до начала войны, будучи в Главном автобронетанковом управлении Красной Армии, я спросил начальника: „Когда прибудут к нам танки? Ведь чувствуем, гитлеровцы готовятся… ” – „Не волнуйтесь, – сказал генерал-лейтенант Яков Николаевич Федоренко. – По плану ваш корпус должен быть укомплектован полностью в 1942 году".
И всё же среди командиров и политработников корпуса росло беспокойство. Поговаривали о неизбежности войны с фашистами, несмотря на успокаивающее сообщение ТАСС от 14 июня 1941 г.
Многие из нас понимали, что это сообщение не для нас. так как каждый командир части имел план боевой готовности по тревоге, и этим сообщением ни с кого не снималась ответственность через час-два выступить для выполнения боевой задачи. Наше руководство предвидело возможность нападения на Советский Союз со стороны фашистской Германии, но стремилось дипломатическим путём оттянуть войну хотя бы на 3–4 месяца, а там зима. К весне 1942 г. Красная Армия будет уже перевооружена новой техникой, реорганизация её в основном будет закончена, всё будет готово к надёжному отпору агрессору.
В корпусе шла напряжённая работа по его организации, непрерывно шли занятия по повышению боеспособности войск <…>
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу