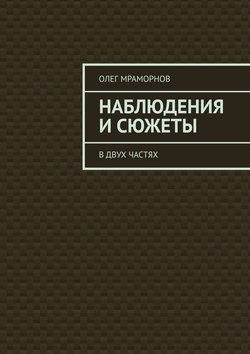Читать книгу НАБЛЮДЕНИЯ и СЮЖЕТЫ. В двух частях - Олег Мраморнов - Страница 3
Родная литература: медленное чтение
ЯВЛЕНИЕ МУЗЫ
о стихотворениях Заболоцкого 1946 года
ОглавлениеГреки насчитывали девять муз. У каждой было своё дарование и призвание. Поэтам, как правило, музы являлись не хороводом, а поодиночке – как Пушкину. Пушкин видел то Эвтерпу, то Эрато – муз лирической и любовной поэзии, весьма вероятно, что он видел и Каллиопу – музу больших стихотворных форм.
У современной поэтессы Елены Шварц есть такое замечание: «В наше время, когда музы зачахли, нужен дед Мазай, который бы ездил по заливу бесплодия и собирал бы их: плачущую Эвтерпу, повизгивающую Эрато, рыдающую Каллиопу».
Когда поэты дружили с музами, то зачерпывали из их сокровищницы полной рукой. Музы являлись оттуда, из невидимого мира. Приносили знание, которое становилось сообщительным – от сердца к сердцу. Это знание и образовало культуру.
Шварц полагает, что в истоках поэзии лежит не приносимое музами знание, а «священное безумие»: заклинания, пифии, оракулы и тому подобное. Поэзия «развивалась по пути постоянной многовековой борьбы разума с безумием, отклоняясь в иные эпохи то в ту, то в другую сторону… А как она бывала хороша, когда ныряла в море безумия и выныривала в свет разума с жемчужиной неразумной мысли на хищных зубах».
Неплох образ рыбы-поэзии, но «жемчужина неразумной мысли» мне не очень нравится – об эту жемчужину можно поломать зубы.
Священное безумие – это ведь дионисийские мистерии, самые древние пляски у греков. Вместо вакханок мiр давно предпочитает иметь дело с расчетливым позитивистским абсурдом. Но с сохраняемым поэзией знанием мир ничего поделать не может – для этого пришлось бы изменить человеческую природу.
Какая-то из муз жива. Неприметным образом она является – как вестница иного, связующая миры. Продолжает являться и тогда, когда холодно и всё замерзает. Есть пример у Николая Заболоцкого.
Мой старый пес стоит, насторожась,
А снег уже блистает перламутром,
И все яснее чувствуется связь
Души моей с холодным этим утром.
Так на заре просторных зимних дней
Под сенью замерзающих растений
Нам предстают свободней и полней
Живые силы наших вдохновений.
Пес насторожился, почуяв присутствие живого. Здесь, разумеется, явление музы.
***
Их восемь – стихотворений Заболоцкого, помеченных 1946 годом и включенных автором в рукописное итоговое собрание, которое он составил незадолго до кончины. В Большой серии «Библиотеки поэта» стихотворения воспроизведены по рукописи автора (Н.А.Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1965 г.; цитаты по этому изданию). Перечислю стихи по порядку, установленному Заболоцким: «Слепой», «Утро», «Гроза», «Бетховен», «Уступи мне, скворец, уголок», «Читайте, деревья, стихи Гезиода», «Еще заря не встала над селом», «В этой роще березовой».
Сын поэта Никита Заболоцкий в книге «Жизнь Н. А.Заболоцкого» сообщает, что «Утро» написано раньше других стихотворений (16 апреля), потом уже «Слепой» и «Гроза». Время написания других стихов тоже не всегда совпадает с их окончательным авторским расположением. Имеет место компоновка, что характерно для содержательного целого, или цикла.
Каждое из восьми стихотворений по-своему замечательно, звучит и вне зависимости от других, демонстрирует широту и разнообразие интонационной палитры, мастерство голосоведения. Но то, что хотел сказать автор, становится слышимым в полную меру лишь тогда, когда отзвучит последний аккорд.
Цикл 1946 года состоит из лирических пьес, на первый взгляд мало привязанных к приметам текущего времени. Творческие переживания, вопросы искусства, природа, птицы, Бетховен, Гезиод – совсем не на злобу дня. Разве что расстрелянный пулемётной очередью солдат. Но что это за солдат? Это не совсем привычный солдат, и не неизвестный солдат Мандельштама, убитый страшными войнами-бойнями ХХ века. Солдат Заболоцкого гибнет год спустя после войны – он солдат в жизни, и убивает его не война, а жизнь.
Иволга, которая поёт солдату и над головой которой тянется смертельное облако, сопровождает солдата не на позиции Великой Отечественной, а в грозящий гибелью жизненный путь, в дорогу смертельно опасной жизни. Себя самого называет Заболоцкий солдатом жизни, как Боратынский назвал себя в «Осени» оратаем жизненного поля.
Но стихи Заболоцкого подтягивают к себе наступившее сразу после окончания войны время и конденсируют его. 1946-й – первый год после Победы. Победительно трагедийный пафос стихотворений связан с этой великой вехой.
В 1946 году закончился восьмилетний срок заключения и ссылки Заболоцкого. О своём аресте в марте 1938 года, о допросах, о содержании в Доме предварительного заключения на Литейном в Ленинграде, затем в Крестах (по ходу дела и в Институте судебной психиатрии – тюремной психушке) и двухмесячном этапировании в одном вагоне с уголовниками в сторону Комсомольска-на-Амуре поэт написал сам. «История моего заключения» не раз публиковалась. Это компактный, небольшой по объему мемуар. После всего, чего мы начитались, – не самый страшный. Вернее будет сказать: страшное изложено ровным, почти невозмутимым тоном. Создается ощущение, что Заболоцкий писал воспоминание безо всякой охоты, лишь исполняя долг перед историей и потомками. Но как раз такие свидетельства вызывают к себе наибольшее доверие.
Показаний ни на себя самого, ни на кого-либо из тех литераторов, которыми интересовалось следствие, он не дал. Дело против него, в конечном итоге, сфабриковали на основе фантастических сведений, в буквальном смысле выбитых у Бенедикта Лившица и Евгении Тагер, а также пасквиля критика Лесючевского, сочиненного последним по заказу «органов».
О лагерном периоде жизни Заболоцкого более-менее подробно стало известно благодаря сыну – из опубликованных им писем поэта к жене.
У Заболоцкого случился перевод с дальневосточных лесоповальных работ на чертёжные (это спасло поэту жизнь); потом на Алтай, где в Кулундинских степях, на содовом заводе, он надорвал себе сердце, и потом – в Казахстан. Воспроизводилось заявление поэта 1944 года в Особое совещание НКВД, документы из дела по обвинению в антисоветской деятельности и прочее.
В 1946 году Заболоцкий получает возможность возвратиться в Москву. В переделкинских рощах им овладевает вдохновение – в условиях несвободы творить было невозможно. Лишь в начале своей лагерной одиссеи он написал два замечательных по гармонии и философии стихотворения: «Лесное озеро» и «Соловей», прямо не связанных с гулаговской тематикой. В казахстанской ссылке он переводил «Слово о полку Игореве».
Освободившись, обращался, вынужденно – из стремления легализоваться и печататься, к подневольному прошлому. «Город в степи», «В тайге»: Ленин на холме Караганды, сталевар в Комсомольске-на-Амуре… В пронзительном «Воспоминании» щегол поёт не о стройках социализма, а о бугорке одинокой могилы в снегу, должно быть, колымском.
Выделяются «Творцы дорог». Написаны они в конце 1946-го, но помечены 1947-м. Поэт предпочёл обозначить творческий итог своего первого послелагерного года стихотворением «В этой роще берёзовой». А «Творцы» очень любопытны.
В стране, где кедрам светят метеоры,
Где молится березам бурундук,
Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.
Охотский вал ударил в наши ноги,
Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.
Стихотворение обвиняли в абстрактности, в отсутствие темы человека, а ведь оно говорит о том, что человек чего-то стоит. Здесь дан подвиг сопротивления, но сопротивление представлено не в бунтарском русле и не виде политической декларации, а при помощи каторжанских орудий заступничества – сверкающих заступов. Оттого, что подневольная каторжная работа обернулась торжеством зековских заступов над дикой природой, стихотворение приобретает победительное звучание.
А самое знаменитое, написанное по вдохновению, постлагерное стихотворение поэта называется «Где-то в поле возле Магадана». Оно повествует о двух несчастных русских стариках, замерзающих в бескрайнем ледяном колымском пространстве.
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.
Я взялся за рассмотрение послелагерных стихотворений Заболоцкого, однако не могу не коснуться того, что написано на раннем этапе заточения. Таких стихотворений, как я уже говорил, два.
В «Лесном озере» дано видение, или откровение окружающей поэта первозданно дикой природы. Откровение появляется посреди природного хаоса, обрекающего несмысленных тварей на междоусобную борьбу и взаимоуничтожение, и представляет собой чашу мыслящей тишины в виде лесного озера. У природы есть душа – Заболоцкий проник в самую сердцевину этой души.
Но странно, как тихо и важно кругом!
Откуда в трущобах такое величье?
Изъятую из тотальной межвидовой борьбы животных и растений, обращённую к небу, самосознающую себя сущность в виде бездонного озера в лесу автор называет целомудренным куском влаги, и больше того – источником правды – для приходящих сюда на водопой зверей.
Стихотворение написано на большом подъёме. Но спрашивается, может ли столь кровожадная вокруг озера природа создать из себя самой отдельную гармоническую мысль? Ведь кто-то же сотворил душу природы? Где тот дух, что заставил ландшафтное явление стать источником правды? Над откровением лесного озера нависает звёздное ночное небо…
Бездонная чаша прозрачной воды
Сияла и мыслила мыслью отдельной.
Так око больного в тоске беспредельной
При первом сиянье вечерней звезды,
Уже не сочувствуя телу больному,
Горит, устремлённое к небу ночному.
И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь ели рогатые лица,
К источнику правды, к купели своей
Склонялись воды животворной напиться.
Я не ищу гармонии в природе, сказал Заболоцкий в 1947 году. Природу в том стихотворении он сравнил с безумной, но любящей матерью, и из бездны вод изнемогающей ночной реки у него встал прообраз человечьей боли. И озеро тоже уподобляется оку больного, которое отделяется от умирающего тела и устремляется в небесную высь.
Импульс озера не может исходить изнутри природы, взятой самой по себе – он задан ей извне, свыше, куда и устремляет озеро свою мысль. Выходит, кто-то сообщает природе, как и человеку, способность к очищающему страданию.
В «Соловье» мир дикой природы тесно сплетается с темой творчества. Если в «Лесном озере» природа открывается мыслящей чашей животворной воды, то в «Соловье» она порождает творческое действо. Соловей при этом ставится в параллель поэту-творцу. Следует обратить внимание на замечание об обреченности певца на песню.
Зачем, покидая вечерние рощи,
Ты сердце мое разрываешь на части?
Я болен тобою, а было бы проще
Расстаться с тобою, уйти от напасти.
Пичужка обречена петь, а не безмолвствовать, ибо так задумана – пригвождена к искусству. Первые симфонии зарождаются ещё в звериной пустыне, а соловьём возводятся в перл создания. Те животные, что слышат соловья в пещере, в экстазе подвывают маленькому Антонию как непревзойденному мастеру их жанра, ставшему вершиной их эволюции. Но дело всё же не ограничивается эволюцией органического мира природы и слушателями соловьиных песен из числа птиц, животных и первобытных людей. Песне птицы напряженно внимает вовлечённый в песнетворческое действо человек.
Всё стихотворное приключение, насыщенное страстями, неверностью, погоней и прочими свойствами любовного недуга, возводится к давней истории любви Антония и Клеопатры. Подразумевается, что искусство порождается силой любовной страсти, инстинктом любви, но ведь ещё и какой-то пригвождённостью, неотступностью, и творится в сияющем храме…
Заболоцкий в «Лесном озере» и «Соловье» вплотную сталкивается как с душой природы, так и с сигнализирующими о себе надприродными силами.
Устоявшаяся традиция истолкования надприродного источника искусства восходит к временам античной древности и связана с покровительством тех самых муз. Знаток античной эстетики и философии А.Ф.Лосев замечает, что если поначалу у греков музы «назывались «бурные», «неистовые»… и их «возглавлял Дионис Мусагет» … то «олимпийские музы классической мифологии… покровители певцов и музыкантов, передают им свой дар. Они наставляют и утешают людей, наделяют их убедительным словом, воспевают законы и славят добрые нравы богов. Классические музы неотделимы от упорядоченности и гармонии олимпийского мира… Выступают музы обычно под водительством бога искусств Аполлона, получившего имя Мусагет»
В русской поэзии ХУIII – ХХ веков явление муз традиционно знаменовало собой творческий акт. В советские времена обмирщённая поэзия не так часто призывала музу в качестве вдохновительницы. Хотя Ахматова не уставала подчеркивать свою неразрывную связь с посланницей небесного Олимпа. Но то Ахматова – поэт из Серебряного века. У большинства же советских стихотворцев мы если и найдем музу, то, в лучшем случае, в фигуральном или же в сниженном, ироническом значении. Да и зачем муза, когда всем на свете движет исторический детерминизм. Остаётся лишь влюбленность и сопутствующие ей переживания, но и в любовной лирике Маяковский научил поэтов обходиться без музы.
А вот Пушкина невозможно помыслить вне музы. Разнообразный характер носят явления муз у Жуковского. Вспомним дух молодой девы, увенчанной лаврами, с сияющим на груди крестом, благословляющей португальского поэта Камоэнса на его смертном одре. В этой деве отверженный обществом, умирающий в нищете португалец узнает музу собственной поэзии. Возвышенно описывает это Жуковский:
О! ты ль? Тебя ль час смертный мне отдал,/ Моя любовь, мой светлый идеал?..
Камоэнс у Жуковского заключает свой предсмертный монолог, обращаясь к юному поэту Васко Квеведо:
Мой сын, будь тверд, душою не дремли!/ Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.
У Жуковского муза – благой источник творчества: она не только вестница гармонии и упорядоченности мироздания, в ней сгустились черты милосердной утешительницы. Поэзия, даруемая такой музой, становиться примиряющей человека с Богом гармонией, земной сестрой небесной религии; Богом в святых мечтах земли.
«Что есть истинная поэзия? Откровение в теснейшем смысле. Откровение божественное произошло от Бога к человеку и облагородило здешний свет, прибавив к нему вечность. Откровение поэзии происходит в самом человеке и облагораживает здешнюю жизнь в здешних её пределах», – учит нас Жуковский.
Вне музикийской природы поэтического акта невозможно помыслить Боратынского, стихи которого сопровождали Заболоцкого в лагере и были там его преимущественным чтением. В цикле 1946 года звучит явственная перекличка с самым глубоким из поэтов пушкинской плеяды.
***
Восемь стихотворений 1946 года словно накладываются на восемь лет заточения. Это стихи после заточения и молчания.
«Слепой» – распевка главной темы цикла: воспоминание о музе, желание новой, живой и возвышенной песни. Заболоцкий в «Слепом» переходит из разряда парадоксалистов и испытателей природы в стан музикийских поэтов и обращается к музе.
И куда ты влечешь меня,
Темная грозная муза,
По великим дорогам
Необъятной отчизны моей?
Никогда, никогда
Не искал я с тобою союза,
Никогда не хотел
Подчиняться я власти твоей, —
Ты сама меня выбрала,
И сама ты мне душу пронзила,
Ты сама указала мне
На великое чудо земли…
Пой же, старый слепец!
Ночь подходит. Ночные светила,
Повторяя тебя,
Равнодушно сияют вдали.
Слепой певец – тема старая как мир. Её брал в разработку Боратынский. Стих – и там, и тут – напряжён, драматичен. У Заболоцкого – при большей мелодичности в интонации – больше и откровенно горестного, тяжкого: это отзвук лагерных лет. А первая строфа стихотворения Боратынского, соединяя в себе сострадание к нищему слепому старцу и гнев против злой черни – это выкрик на срыве голоса.
Что за звуки? Мимоходом / Ты поешь перед народом/ Старец нищий и слепой!/ И, как псов враждебных стая,/ Чернь тебя обстала злая,/ Издеваясь над тобой!
Пересечения двух поэтов слишком заметны, чтобы нуждаться в доказательствах. После вынужденной паузы в сочинении стихов Заболоцкому была необходима опора на значимый для него поэтический голос. Песни слепых лирников у обоих авторов не несут в себе новизны. У Боратынского слепой певец переносится в сферу духовного избранничества, горнего клира и тем спасается. У него это один из вариантов разочарованного, пережившего своё искусство поэта. А Заболоцкий, напротив, жаждет возвращения поэтического голоса, просит об утешительной гармонии и тем преодолевает первоисточник.
Магнетически сильна у Заболоцкого власть тёмной и грозной музы. Это какая-то древнейшая, доаполлоновская дионисийская муза, муза пребывающего во мраке души, отчуждённого от людей и солнца долгим периодом темноты поэта. Муза здесь – не просто риторическая фигура, но идеальная сущность творчества, владеющая сердцем певца, и её избранник уже не волен в себе. Та же самая пригвождённость к искусству, которая была в «Соловье», но теперь становится более ясно, кто пригвождает.
Художник слеп до тех пор, пока заперт в самом себе, но он хочет открыться в мир. Горестное сердце у Заболоцкого стремиться «высказать себя»; в нём начинает пробуждаться мотив не мертвенно унылой, но возвышенной живой песни.
В «Утре» дана первая попытка исхода слепого из его темницы, из погруженности в себя самого.
Светает. Уходит ночь. Пора выходить во внешний мир. Запевку в «Утре» дает петух.
Петух запевает, светает, пора!
Дятлы, перестукиваясь, вырубают угрюмые ноты, работая споро, без остановок. Но ни заливистый петух, ни упорные дятлы не могут дать слов для песни – они дают только ритм.
Рожденный пустыней,
Колеблется звук,
Колеблется синий
На нитке паук.
Колеблется воздух,
Прозрачен и чист,
В сияющих звездах
Колеблется лист.
И птицы, одетые в светлые шлемы,
Сидят на воротах забытой поэмы,
И девочка в речке играет нагая
И смотрит на небо, смеясь и мигая…
Ритм есть, а мелодии не возникает. Другие птицы (а не петух и не дятлы) в своих светлых шлемах молча стерегут какую-то забытую поэму. Птичью? Человечью? Но слепой уже бодро топчет ногами листья. У него появляется надежда на появление небесной посланницы. Юная речная Афродита – ее предшественница. И небо здесь ближе, чем в «Слепом». Туда, смеясь и мигая, смотрит маленькая нагая купальщица и там собирается гроза…
В стихотворении «Гроза» дано музыкально величественное, знаменуемое муками рождения, громом и ливнем, восторгом и вдохновением преображенное явление грозной музы «Слепого»; здесь появляется светлоокая дева из темной воды, как бы метаморфоза нагой девочки из стихотворения «Утро». Грозная и тёмная муза принимает совершенно иной вид – теперь она вся под знаком света, восторга, красоты, удивления. Под грандиозный аккомпанемент природы, сопровождаемый человеческим шорохом трав и вещим холодом на тёмной руке, поэт, как некогда ветхий Адам, дает имена прежде невиданным вещам и явлениям.
Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева,
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,
Травы падают в обморок, и направо бегут и налево
Увидавшие небо стада.
А она над водой, над просторами круга земного,
Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы,
И, играя громами, в белом облаке катится слово,
И сияющий дождь на счастливые рвется цветы.
Гроза знаменует разрядку, очищение, после мук темноты, стеснения и духоты выплескиваясь сияющим дождем на счастливые цветы. В «Грозе» Заболоцкий запечатлевает явление преображенной музы с небесной высоты, из белого облака и слышит (произносит) первые слова на родном языке. Так обозначаются подступы к живой песне, которую хотел спеть слепой.
«Бетховен» продолжает «Грозу», разворачивая акт человеческого вдохновения и творчества, идущего навстречу сфере надприродных сущностей и музыкальных миров, ибо гроза была не только, и даже не столько, явлением природы, сколько знаменованием прихода светлоокой девы.
В «Бетховене» Заболоцкий поэтически выскажет ряд основополагающих суждений. Венчающее творческий акт художество ни в коей мере не является трудом. Художество – жест и подвиг артиста, преодолевшего труд. Художество возможно лишь через человека, разделяющего добро и зло и противополагающего доброе начало существующему в природе злу. Такое художество возвращает природе ее истинный лад и строй…
В рогах быка опять запела лира,
Пастушьей флейтой стала кость орла…
Творчество побеждает и усмиряет стихию природы.
Дубравой слов и озером мелодий
Ты превозмог нестройный ураган,
И крикнул ты в лицо самой природе,
Свой львиный лик просунув сквозь орган…
В «Бетховене» поставлен вопрос о соотношении слова и мысли, слова и музыки. Мысль должна быть открыта, проявлена музыкальной фразой, не стеснена чем-либо массивным и плотным. Язык не есть самодовлеющая сущность, исключительная привязка к языку ещё не создает художника. (Поэт не весь инструмент языка, если отталкиваться от высказывания Бродского, а служитель музы — её волею он и поставлен распорядителем над языком).
Слово с воплем вырывается из слова и становится музыкой, высшим осуществлением. Поэт способен разжать тиски языкового детерминизма, устремившись в область музыкальной свободы, где, по замечанию А. Ф. Лосева, божество играет с самим собою. Но и музыкант не должен чураться или бояться слова, как не чурался его Бетховен.
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово,
Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!
«Бетховен» не только замечательное произведение словесного искусства, но и эстетическая декларация, опровергающая написанное Заболоцким в 1932 году «Предостережение», где сформулированы – задорно и остроумно – его тогдашние антимузыкальные аргументы в духе кубизма, конструктивизма и иных форм левого искусства.
Где древней музыки фигуры,
Где с мёртвым бой клавиатуры,
Где битва нот с безмолвием пространства —
Там не ищи, поэт, душе своей убранства.
Соединив безумие с умом,
Среди пустынных смыслов мы построим дом —
Училище миров, неведомых доселе.
Поэзия есть мысль, устроенная в теле
<…>
Коль музыки коснешься чутким ухом,
Разрушится твой дом…
Заболоцкий уже тогда корреспондировал с Боратынским. Тот, напротив, печалился о мыслительной доминанте поэтического искусства, сетовал, что художник слова испытывает природу мыслью, отнимая у неё непосредственность звучания музыки.
Заболоцкий в «Бетховене», не отказываясь от соединения безумия с умом, снимает антимузыкальные выпады. Безмолвие пространства становится выразимо именно музыкально-песенными созвучиями.
Вот он нашел эти созвучия и захотел запеть, вместе со скворцом. «Уступи мне, скворец, уголок» – первая из целиком гармонических миниатюр цикла. Легкая, чарующая, звенящая и пьянящая, как ранняя весна. Путешествуй вместе с потерявшим сознанье скворцом по весенним полям, пребывай в полном единодушии с ожившим миром – и ты достигнешь того, к чему стремился. Не мешают, не нужны и не страшны никакие литавры и бубны истории. Стань скворцом, и песня твоя будет столь же беззаботна и заливиста. Но вот стань, попробуй? – поёт песню пока сама птица, а не поэт.
Природа, однако, не столь упоительна и проста, как кажется весной. В другие времена года она внушает иные мысли.
Опять ты, природа, меня обманула,
Опять провела меня за нос, как сводня!
Во имя чего среди ливня и гула
Опять, как безумный, брожу я сегодня?
В который ты раз мне твердишь, потаскуха,
Что здесь, на пороге всеобщего тленья,
Не место бессмертным иллюзиям духа,
Что жизнь продолжается только мгновенье!
Вот так я тебе и поверил! Покуда
Не вытряхнут душу из этого тела,
Едва ли иного достоин я чуда,
Чем то, от которого сердце запело…
Вот и запело сердце. И это будет посильнее внушений и впечатлений природы. Заболоцкий одергивает природу без всяких церемоний: сводня, потаскуха. «Читайте, деревья, стихи Гезиода» – педагогическое, заклинательное, противоприродное, если хотите, стихотворение. Природа не имеет права учить о тлении и исчезновении, коль муза учат о бессмертии, гармонии, свободе, любви, счастье. И вообще-то, учитель в этом мире – человек с его культурой, а не природа.
Учат, наставляют животных, растения, а также стихии и водопады Гезиод, Оссиан, девятая Камена – муза Урания, которая сходит с неба с циркулем и указательной палочкой в руках. Природа покоряется силе искусства и человеку. Кузнечик рыдает, как маленький Гамлет, и эфирные легкокрылые бабочки садятся на лысое темя Сократа, чтобы слушать поучения древнего мудреца.
Аполлоническое, гармоническое, примиряющее и учительное начала поэзии явили себя в «Гезиоде». Это аполлоническое начало заставляет природу покориться культуре, решительно настаивает на ее восхождении, на её недостаточности.
Вопрос о характере позднего периода творчества Заболоцкого, если его поставить во всей полноте и заострённости, может привести нас к противопоставлению дионисийского и аполлонического начал, экстаза и просветления и вывести на проблематику христианского искусства Нового времени. Но я ограничусь лишь замечанием, оставляя более уверенные выводы на этот счёт будущим толкователям поэта.
«Еще заря не встала над селом», два четверостишия которой я цитировал в самом начале, спокойна, задумчива. Эти зимние стихи написал прозревший, овладевший собой, победивший дурные внушения природы, поверивший в приходящее свыше вдохновение поэт. Действительные живые источники вдохновения и творческой силы – уже необратимые явления светлой музы – даны вне драматизма, отчётливо, окончательно.
Вот бы и концовка для всего цикла о победе творчества над душевным мраком ослепшего в заточении певца. Но нет. «Заря над селом» звучит камерно. Главная, взыскуемая в «Слепом» песня, всё ещё не спета. Песня была в весёлом скерцо «Скворца», в руладе первого весеннего певца из березовой консерватории – но там поёт природа, сердце откликается, но песня человека может прерваться: поэт боится за неокрепший голос и бережёт его.
Искомый возвышенный напев появится в восьмом стихотворении цикла – «В этой роще березовой». В последнем стихотворении цикла Заболоцкий сводит основные темы: поющих птиц; березовую рощу (она мелькнула в «Скворце»); утренний свет (здесь он немигающий, а девочка в «Утре» мигала); слепоту и прозрение (опаленные веки убитого солдата); горестное, разорванное, но всё равно поющее сердце. Вводит новые мотивы: войну, смерть, солдата.
Драматургия стихотворения заключена в видении иволги (еще один «птичий» образ музы – муза не раз является в цикле под видом певчих птиц), которой угрожает смерть, смертельное облако. Отшельница леса смолкает, появляется, летит над обрывами, над руинами смерти…
Поэт подчёркивает мотив сердца, насыщает песню музы-птицы новым содержанием, сравнивая её с целомудренно бедной заутреней (вот и Жуковский, с его родством поэзии и религии) – светлой утренней молитвой.
Целомудрие – это целостность, которую берут на разрыв, а она не рвётся. Целомудрие заключает в себе глубокие этические и религиозные пласты. И в таком – этически насыщенном виде – Заболоцкий делает пустынную птичью песню и человеческой тоже. Она отзывается и звучит в его разорванном сердце, сквозь сердце. (Может быть, это открывается и поётся забытая поэма из «Утра», исчезнувшая в лагере, неудавшаяся, недописанная, ворота которой стерегли птицы в светлых шлемах?)
Голос птицы и голос человека сливаются в разорванном сердце убитого солдата жизни. Сливаются в той самой точке боли, где у Заболоцкого совпадают природа и человек. Звучат в унисон. Несравненная целомудренная и гармоническая плавность песни заживляет рану, и песня поётся вопреки смерти.
За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемёт.
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоёт.
За этим следует финал об окончательном торжестве утра – об утре торжественной победы, встающем над берёзовой рощей, где под божественной каплей холодеет кусочек цветка, неуничтожимый остаток жизни.
«Берёзовая роща» не просто музыкальна, она – напевна. Тронь струну, и стихотворение запоется само. Его, к слову говоря, положили на музыку.
***
Заболоцкий победил душевный мрак слепого певца гармонией пришедших к нему стихов и спел возвышенную песню. В цикле 1946 года возникает лад и строй, стремящийся излиться музыкальной волной, пересоздать мир гармонией.
Установка на песенный лад у «прозревшего» поэта, так или иначе, но противопоставила послелагерный этап его творчества натурфилософским стихотворениям 20-30-х годов. В «Столбцах», в сюрреализме «Безумного волка» и «Деревьев» господствует парадоксально-иронический, эксцентрический, сконструированный образ, и принципиально внемузыкальная диалектика мысли – сознательная установка молодого экспериментатора.
Не устройством мысли в языковом теле занимается Заболоцкий в стихах 1946 года, а открытием и привнесением в дольний мир соразмерностей надприродного мира – его музыкальных гармонических созвучий, консонансов. Он обнаруживает и идеальный источник творчества – музу. Тем самым поэт говорит нам, что в мире всё осталось на своих местах. Что поэт, по замечанию Блока, остаётся сыном гармонии, задача которого в том, чтобы извлечь гармоническое начало из стихии хаоса и «внести эту гармонию во внешний мир».