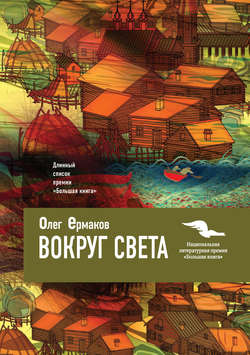Читать книгу Вокруг света - Олег Николаевич Ермаков - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Старые тропы
ОглавлениеМестность представляет собою огромный палимпсест. Отправляясь туда раньше, я брал какую-нибудь книгу, на случай дождя, обычно это были стихи. А однажды на складе возле ручья устроил целую библиотеку, как уже говорил. И потом, дома, открывая какой-то сборник, вдруг ощущал запах ивового горького дымка, аромат таволги, сквозь строки проступали березовый лес, Днепр, сосновая гора, доносился стук дождя по ребрам палатки, скрипел – как вечный писец – коростель.
А в местности оставались какие-то строки, и, возвращаясь туда, я их неожиданно находил. Таинственная жизнь этих строк продолжалась.
Но пейзажи местности и так написаны поверх: история проступает развалинами барского дома, заросшими курганами, заброшенными лугами, одичавшими садами, воронками, окопами. Ну, а по ночам над макушками пышных орешин сверкают огни доисторических текстов.
За тридцать с лишком лет и я нажег много костров здесь. Двухдневные вылазки, недельные походы. Мною всегда владело одно желание – поведать о местности. С тех самых пор, как я впервые здесь побывал. И все остальное – афганские истории, байкальские рассказы – это только отсутствие местности, тоска по местности.
Временами мною овладевали сомнения. Что за игры с местностью? Где оканчивается эта магия местности? Шаг в сторону, ну, например, за Днепр – и уже не местность? Что, воздух другой? цветы не такие? птицы поют иначе?
На взгляд постороннего – нет никакой разницы. Да и этот посторонний вообще не заметит никакой особенной местности, если случайно пройдет мимо. Какая еще местность? – спросит в недоумении.
Я и сам не был уверен, что существуют какие-то границы этой земли. Устанавливать их нам с друзьями даже и в детстве не приходило в голову. Русские ушиблены бесконечным простором, говорит Бердяев. И с этим не поспоришь.
Бесконечный простор, великая равнина и влечет странника. Скитаться в этом прасимволе русскости, и ни к чему ограничения.
Но однажды я увидел небесную карту местности и понял, что у нее есть границы. Говоря «небесную», я не преувеличиваю: местность мне виделась на просвет. Этому предшествовали различные события, о которых я уже пытался рассказать в книге, но вышло довольно невнятно и запутанно. Хотя не знаю, можно ли здесь быть предельно ясным?
Днепр – тоже одна из старых троп. По нему я не раз поднимался в местность, потом возвращался в город тем же путем. А однажды летом решил уйти еще дальше и выше. Эксперименты с вегетарианством, одиночество, полное молчание, напряженный ритм плавания против течения сыграли со мной злую, а может, и добрую шутку… Ну, это сейчас все происшедшее предстает увлекательным приключением в духе Кастанеды. А тогда мне было не до шуток. В какой-то момент начались галлюцинации, сначала, правда, поэтические, так сказать. В одной из заводей, где я отдыхал, сидя в байдарке с прикрытыми глазами, меня внезапно окружила стайка разноцветных глаз, что-то вроде стрекоз или бабочек. Не знаю, почему именно этот образ явился уставшему гребцу. Ни о чем подобном я вроде бы не помышлял. Конечно, помнил притчу Чжуан Чжоу и могу признаться, что очень любил и люблю этого древнего анархиста. И вообще скитальцев и поэтов Поднебесной далеких эпох. Чувство родства с ними возникло невольно. В пионерском лагере мне дали кличку Китаец, поводом послужили мои страшные истории, которыми я потчевал наш отряд на ночь, и, наверное, мой смуглый и чернявый облик. Это плавание навевало мне мотивы дальневосточной живописи, свиток Чжан Цзэдуаня мерещился, когда байдарка проплывала мимо старых узловатых ив, – точнее, не весь свиток, а именно этот фрагмент с деревьями. Свиток огромен – пять метров шелка, покрытых тушью. Называется картина так: «Вверх по реке в праздник поминовения». Но настоящее название другое: «Праздник Цинмин на реке». Цинмин – это Праздник Чистого Света, когда поминаются предки.
Днепр и был свитком волн. Правда, у Чжан Цзэдуаня река течет в пределах тогдашней столицы, и там изображены дворцы и дома, мосты, лодки, полтысячи, как подсчитано, персонажей, множество домашних животных, лавки, стены, ворота, башни, переулки, караван верблюдов, телеги, торговцы, зеваки.
На свитке, который разворачивался передо мною, вместо стен и башен высились обрывы из красной и белой глины, тополя и липы; поля желтых, белых и розовых цветов были площадями; песчаные косы выглядели мостовыми; ласточкины берега – базарами, да еще то и дело набегали крикливые торговцы чайки, впрочем, трудно было разобрать, что же они предлагают; или это были покупатели, а торговцы наоборот молчали, лишь порой всплескивали воду… трудно было разобрать, кто и что у кого покупает. Временами сквозь эти базарные толпы проносились важные персоны в изумрудных халатах, чиновники по особым поручениям – зимородки. Они презрительно цыкали. Еще бы, во дворце, где их ждали, шла совсем другая жизнь. Что за поручения они выполняли, никто не знал.
Порой мне казалось, что и я исполняю какое-то поручение, временами сам себе я представлялся неким чиновником, инспектором, ведущим расследование о семьдесят третьей земле.
У древних китайцев существовал перечень счастливых земель. Счастливыми они стали оттого, что там жил в свое время мудрец, мифический персонаж или поэт. Таких земель насчитывалось ровно семьдесят две. Вот образец описания одной из таких земель: «Земля сорок седьмая. Гора Хуцишань. Находится в губернаторстве Цзянчжоу, в уезде Пэнцзэсянь. Здесь жил в уединении Господин из-под Пяти ив». Гора реальная и Господин из-под Пяти ив был вполне земной человек. Это поэт Тао Юаньмин.
Мы с друзьями давно подозревали, что семьдесят третья земля лежит на остановке пригородного поезда «Триста сорок девятый километр», вернее, там она начинается.
Правда, не могли взять в толк, каким поэтом процвела эта земля. Все надежды были на Меркурия. Не поэт, но воин, спасший град от монголо-татар – вот как раз где-то недалеко от остановки, возле болота, через которые был проложен мост, и ближняя деревня так до сих пор и называется: Долгомостье… Пусть его железные лапти-сандалии, хранящиеся в соборе, и слишком необычны, как чудны и прочие подробности: богатырская силища, возвращение к стенам Смоленска без головы, благоухание на погребении и дальнейшее исчезновение без следов. Нет, сандалии-то остались… Да и сказание.
Так или иначе, расследование проводить было необходимо. Оно и не оканчивалось никогда, начавшись с первого похода в эти края.
Хотя, поднимаясь по реке, я уже оставил далеко позади край Меркурия. Река увлекала все выше. То есть течение-то и сносило, а мысль об истоках, какие-то неясные ожидания, сны манили дальше… еще сотня взмахов весла… до песчаного мыса с ивами, а там – до железисто сочащегося обрыва с черными окаменевшими корнями и какими-то ржавыми черепушками, норами, обнажившимися в это засушливое лето, – и еще выше, к черной стене елового леса, уже слабо наплывающего смолистым ароматом – и вон к тому почти белому песчаному берегу, с которого вдруг бросается прямо в воду рыбак в серой одежде – и летит, раскинув крылья, как цапля, – а там – к первой неяркой, но крупной звезде над смутными кипами орешников и лип, мимо ручьев, тихо или звучно впадающих в неостановимую реку, мимо кувшинок, ивок, рухнувших мертвых деревьев, медленно шевелящих тяжелыми ветвями. Движение вверх по реке можно сравнить с исследованием причин какого-либо явления.
Метафорический привкус здесь неизбежен. И, например, кулики-перевозчики, стремительно проносившиеся над водой, ассоциировались у меня с времирями Хлебникова, хотя у него времири летали там, где ели. Но с водой, рекой на самом деле они рифмуются лучше. Или это слишком примитивно?
Для меня еще важна была и река как речь, речь этой земли осин, ив и берез, глиняных обрывов. Постичь речь своей земли – сверхзадача путешествия. Прослышать в сегодняшней речи слова древние, сокровенные. Древние индийцы отождествляли главную реку сакральной географии Сарасвати с Вач, богиней Речью и просили у нее снисхождения. В своих гимнах пели: «Некоторый, видя, не видит Речи, / некоторый, слыша ее, не слышит, / но которому она отдается, / как жена в нарядах ему супруга». У познавшего Речь вода до уст, у других – по плечи, а в «сердце дух остер воспламененный».
Ну, а мне мерещилась некая рыба речи. То есть, по сути, молчание речи? Постичь молчание речи – значит овладеть таинством слова.
Мне вспоминался Морис Бланшо, его странная книжка «Ожидание забвения». Там описываются мучительные отношения «героя» и ускользающей загадочной «героини», которую я расценил как речь или вдохновение. Речь – это, конечно, женщина. Я уже не помнил всех подробностей этой книги. Да и какие подробности? Что там происходило? Это так называемое фрагментарное письмо. Внутренние потемки, в которых проступают мерцающие, стремящиеся окуклиться слова. Одни принадлежат «герою», другие как будто «героине». Они изводят друг друга и без друг друга не могут. Даже в названии там рассогласовка. Ожидание забвения? Нет. «Ожидание забвение». Ожидание чего? Забвение чего?
И я, скромный странник своих пространств и книг, начинал думать о речи как о персонаже. Временами она как будто просто тащилась тенью за мной. Без нее я не мог думать. А значит, быть. «Нравится ли тебе молчание?» – хотелось бы мне спросить. Но она тут же исчезала. И я трезво думал, что это все страсть к персонификации, какая-то детская игра. Справа струилась моя тень, башмаки взбивали легкие облачка пыли… Вот если бы увидеть под тенью облачка ее пыли. Было очень жарко. Иногда постукивали камешки.
Появилась машина.
Да! Теперь здесь проезжали даже легковые авто. А раньше только телеги и тракторы. По местности пролегла дорога, усыпанная гравием. Она вела в Глинку. Поначалу мы восприняли это как катастрофу. Но потом увидели, что машины на ней появляются крайне редко. Дорогу построили, скорее всего, в стратегических целях: из Прибалтики как раз вывели военную часть и разместили ее за Глинкой. Что было делать? Копать траншеи?.. Конечно, благодаря ей многие уголки местности стали доступны для других. Но еще оставались укромные схроны.
Немного успокаивало и такое соображение: по льду Байкала тоже идет дорога. И я помню изумление, испытанное в глухом зимовье в устье речки Таркулик, когда увидел в оконце движущуюся среди чистых фантастических торосов черную партийную «Волгу». Ну, а летом там по всему морю ходят катера и моторки.
Автомобиль приближался. Это была белая «Нива». Я сошел на обочину, отворачиваясь от облака пыли. По звуку понял, что шофер сбавляет скорость. Наверное, хочет поуменьшить шлейф. Но, поравнявшись со мной, «Нива» неожиданно остановилась.
…И тень шарахнулась куда-то в сторону, в поле, рыже-белесое от выгоревшего на солнце бурьяна.
Я оглянулся. В открытое оконце на меня смотрел молодой мужик с широким белесым и слегка розоватым от жары лицом. Рядом сидела женщина, сзади – дети.
«Я просто пойду мимо», – помыслил я и двинулся дальше по дороге.
Но водитель окликнул меня.
А я не оглянулся, мерно шагая по знойной дороге. Что-то быстро проговорила женщина. Мужчина ей отвечал. «Нива» еще немного постояла, и звук ее начал удаляться. Я просмеялся тихо в голос. Но ведь это не в счет? Или смех нарушил молчание? Ну, тогда и вообще нельзя дышать, кашлять, сплевывать. Ведь вздох может быть красноречив. Звуки тела – речь жизни. И тогда – все речь, любое слышимое колебание воздуха. Плеск воды, шуршание трав, треск ветки, стук дождя, вой ветра, писк синицы, хруст снега, гром, журчание. Такова речь мира. И в основном голоса принадлежат воде и воздуху. Ветер с водами всегда разговаривают. Гром – грохот энергии, зарядов, накопившихся в облаках.
Я оглянулся. Вдалеке пылила «Нива». Так и не узнал, о чем хотел спросить, водитель. Наверное, обсуждают с женой эту встречу. Есть пища для разговора.
Это все происходило еще в начале моего плавания. Мне необходимо было вернуться в город, чтобы уладить кое-какие дела. А именно сдать билет на самолет. Я собирался отправиться на Байкал еще раз. Но плавание по Днепру захватило меня. Может, это и есть истинное странствие, подумал я.
Первая глава «Чжуанцзы» называется «Странствия в беспредельном», там высмеиваются цикада и горлица, недоумевающие, зачем феникс так высоко взлетает и отправляется на далекий юг, если достаточно перелететь на соседнее поле и поклевать зерен, чтобы быть сытым. Для вполне реальных цикады и горлицы этого хватит. А вот мифическому фениксу – нет. Значит ли это, что все-таки надо далеко странствовать?
«Хотелось бы узнать, как странствовать?» – этот вопрос Чжуан Чжоу вкладывает и в уста Конфуция. А отвечает ему сам Лао-цзы: «Я странствовал сердцем в первоначале вещей». Ну, а для этого необязательно далеко забираться. Но как распознать первоначало вещей? Чжуан Чжоу учит устами Лао-цзы быть бесстрастным и обретать единство с тьмой вещей в Поднебесной.
На Днепре я и почувствовал вдруг близость чего-то, что, возможно, и было первоначалом…
Генри Торо считал, что тот, кто остается только путешественником, узнает все из вторых рук и только наполовину и на него полагаться нельзя. И совсем другое дело, продолжал он, рыбаки, охотники, лесорубы – вот кто знает лес, поле, реку по-настоящему.
Да, в дальней дороге ты всегда будешь именно путешественником, и лишь в ближних странствиях можно уподобиться охотникам и лесорубам. Короче, надо идти вглубь, а не вдаль. Начинать надо как цикада, а продолжать – словно феникс. Может, в этом смысл поучения Чжуан Чжоу.
И, спрятав байдарку в тростниках, я отправился в город после недельного молчания.
Впереди меня ждало звуковое облако более плотное и коварное, нежели то, что повстречалось на пыльной дороге. И я вступил в него, точнее, въехал в стучащем и говорливом вагоне пригородного поезда. В этом поезде всегда звучат речи, здесь ездят бригады железнодорожных рабочих в оранжевых замасленных жилетках, селяне, дачники с пропеченными лицами, им есть о чем поговорить. Обычно мне нравится мир этого поезда Рижско-Орловской дороги. Но в тот раз сидел как на иголках. Здесь любой неожиданно и безо всякого повода мог нарушить твое молчание. Но никто так и не обратился ко мне, а контролер не появился. По этому поводу кто-то пошутил насчет коммунизма на дороге.
В городе напряжение спало, странным образом молчание было здесь неуязвимее. Ты был менее заметен.
В городе молчать проще.
Но, подходя к подъезду, я заметил соседку, симпатичную проводницу дальних поездов, всегда приветливо улыбавшуюся мне, и приостановился, пусть первая едет в лифте. Она скрылась в подъезде. Немного подождав, вошел и я. И услышал, что она еще не уехала. Пойти, что ли, в магазин, соображал я, за хлебом, но в ближайшем все подавала продавщица, надо было просить. А идти дальше уже не хотелось, устал. Но вот открылись и схлопнулись двери лифта – соседка поехала. Вскоре я был дома. Жена с дочкой, как обычно, проводили лето в деревне у стариков.
В глаза бросились книги – обилие книг на столах, на полу, в шкафах, – журналы, газеты. Компактная молчащая речь… Разве может она быть молчащей? Зазвучит в тот миг, когда ты погрузишься в нее взглядом, а потом и весь с потрохами.
Открывая холодильник, я ожидал, что и оттуда посыплются какие-нибудь записки, открытки. Но там были походные консервы, масло, томатная паста, яйца. Я изжарил яичницу, заварил покрепче чай, достал сухари вместо свежего хлеба, за который надо было платить молчанием, и отлично поужинал.
Подумав, поставил кассету с Малером, Пятой симфонией. Симфоническая музыка близка к молчанию, вдруг догадался я. Может быть, это и есть молчащая речь. Речь за мгновение до звучания.
Потом я слушал Дебюсси «Море» и «Прелюдии», и, когда раздались звуки «Ворот Альгамбры», сразу увидел железнодорожный мост на Днепре, под которым проплывал недавно, почудился даже запах воды и мазута, железа и шпал. На левой зеленоватой от плесени опоре белели метки подъема воды, самая высокая была почти под рельсами, напротив стояла дата – 1908. Дебюсси еще не приступал к своим тетрадям прелюдий, но уже вынашивал эти терпкие звучания. Смоленск тогда затопило, по базарной площади плавали на лодках и плотах и даже дверях. Схлынула вода, и во дворах, в подъездах билась рыба, жители набирали ее в авоськи. Жаль, что не сохранилось таких фотографий – вполне сновидческих. Но тогда аппарат был редкой и дорогой штукой. В это время делал свои снимки Прокудин-Горский. Фотографировал он и Смоленск, причем в цвете и так, что, впервые увидев эти фотографии, я не мог поверить, будто они сделаны в начале двадцатого века.
«Что увидел западный ветер», «Утонувший собор» – слушая «Прелюдии», я вновь как будто взмахивал веслом, гоня байдарку вверх. Да, музыка лучше всего соответствовала тому, что наполняло меня. Вполне опыт молчания только музыкой и можно передать. И радикально эту идею, пожалуй, и воплотил знаменитый Кейдж в своей пьесе, вынудив пианиста не касаться клавишей четыре минуты и тридцать три секунды. Это апофеоз молчания молчания.
Перед сном я полистал тоненькую книжку Мориса Бланшо и наткнулся на этот выразительный диалог:
«Дорога еще дальняя». – «Но нас далеко не заведет». – «Приведет нас как можно ближе». – «Ведь близкое дальше всякого далека».
Сон в бетонной разогретой зноем коробке был изматывающим, утром я встал невыспавшимся, злым. Скорее сдать билет и вырваться отсюда. Сосед азартно ругался со своей тещей. За стенкой выла водопроводная труба. Гудел лифт. Всю ночь во дворе хлопали дверцы автомобилей, болтали и хрипло хохотали бляди – в доме напротив они квартируют. Малое отшельничество – а именно таковым считается лесное уединение – казалось мне предпочтительнее.
Зазвонил телефон. Я приблизился к тумбочке и, постояв над верещавшим аппаратом, отошел. Но чья-то речь продолжала биться в нем, мне показалось, что даже трубка чуть подпрыгивает. Хармс придушивал обычно телефон подушкой или запрятывал его в шкаф. Этот исторический факт немного оправдывал мою нелюбовь к телефону. Родня и друзья, знакомые недоумевают, в чем дело, где мы пропадаем, почему не отвечаем на бесчисленные звонки. Обычно это недоумение высказывается с легким возмущением. Ты живешь здесь, включен в этот мир, так какого черта выдергиваешь шнур.
Но именно это я и сделал, прежде чем взяться за утренний черный густой и пахучий чай.
Побрившись и надев чистую рубашку, брюки, с билетом и паспортом в кармане, я пошел в центр. В паспорт я вложил записку с просьбой вернуть деньги, так как отказываюсь от полета.
«Ведь близкое дальше всякого далека». Вот в чем дело. Можно было написать и это.
План мой вполне удался. Деньги мне вернули, прочтя записку и быстро взглянув на меня… не знаю, покраснел ли я. Домой мне посчастливилось пробраться, не повстречав никого из знакомых. Вообще легко превратить жизнь в приключение. Взять обет молчания. Или наоборот – здороваться с прохожими, как в деревне, ну, допустим, только с рыжими.
Из окна мне были видны две трубы недалекой ТЭЦ. Сейчас, в летнюю жару, они не дымили, а вот зимой все застилали отравой, в безветренный январский или февральский день все просыпались с черными полукружьями под глазами; если было сыро, то воздух на улице висел желтоватой кисеей, а выстиранное белье, принесенное с лоджии, воняло псиной. Усаживаться за рукопись в такой день было абсолютно бессмысленно: отравленная кровь, легкие и все прочее гасили даже намек на вдохновение. Все были раздражены, неуступчивы, агрессивны. Я уверен, что свободный исследователь связи преступности в нашем микрорайоне с экологической проблемой получил бы Нобелевскую премию. Он мог бы воспользоваться и моими наблюдениями. Вот одно из них, я его дарю. Нигде в Смоленске не бьют с упорством и неслыханной дерзостью школьные окна – два-три случая не в счет, – а у нас это происходит по ночам из года в год. Утром учителя находят в классах кирпичи и булыжники, куски арматуры, парты усыпаны осколками. В мороз окна спешно заделывают фанерой, и современная двухэтажная школа приобретает вид прифронтового здания. Рабочие привозят пачки стекла в деревянной упаковке, стекольщик берется за дело, новые стекла держатся некоторое время – и в одну из ночей осыпаются под градом камней. Война не прекращается. Уходят с аттестатами в большой мир выпускники, приходят первоклассники, вдыхая запах свежей краски, и все повторяется. Что же это за ученики? Мы не были пай-мальчиками, но бить стекла в школе нам казалось уже чрезмерным. Даже в отместку за двойки. Таков же образ мыслей и нынешних учеников, обитающих в других микрорайонах, но только не наших. Я думаю, это взрывы отравленной крови.
Не хотелось бы сгущать краски, но помимо воли в сознании всплывали различные происшествия вокруг нашего дома: парень, застреленный догонявшим его патрульным прямо под нашими окнами, повешенный в подъезде соседнего дома юноша, труп девочки в пакетах, обнаруженный в овраге за общежитием, выбросившийся – или выброшенный – с восьмого этажа жилец соседнего дома, чему я сам был свидетель: шел с дочкой мимо – и в десяти шагах за клумбой глухо упало тело, несчастный не издал ни звука; точно была выброшена с седьмого этажа однажды ночью бухгалтер какого-то предприятия, не успевшая выдать зарплату и принесшая пачку денег домой, соседи на крики о помощи, как водится, не реагировали, а в следующие дни спешно устанавливали железные двери. Обзавелись железной дверью и мы после того, как нашу квартиру обворовали. Воры унесли магнитофон, охотничий нож и документы, брать у нас особенно и нечего, кроме книг, среди которых есть и книжечка Льва Толстого, выпущенная в конце девятнадцатого века: «Ручной труд и умственная деятельность», – и другие работы. Любопытно, деятельность квартирного вора к какой категории можно отнести?
Спать я лег пораньше, быстро заснул и часа через два был разбужен трубами, они гудели и выли под бешеным напором воды у соседей. У этих людей, пожилой маленькой располневшей женщины и ее рослой дочери, какое-то особенное отношение к воде. Может быть, даже ритуальное. Стирку и помывку они обычно устраивают с наступлением тьмы. Струя воды низвергается в ванную, расположенную прямо за стеной нашей большой комнаты, и спросонья кажется, что ты устроился на ночлег под Ниагарским водопадом. К ним на седьмой этаж приходили делегации даже с пятого этажа, увещевали. Просили и мы отменить водные ночные процедуры. Ответ был один: «Я поздно возвращаюсь с работы». Но и по выходным происходило то же самое.
Вообще современный панельный дом придуман в наказание человеку, оторвавшемуся от земли.
«Так тебе и надо», – часто думаю я, слушая этот бесконечный опус конкретной музыки панельного дома: любовное скрипение поролона, кряхтение, оголтелые вопли: «Приз ф студию!», скрежет шланга от душа по ванной, хлопанье дверей, напряженное гудение лифта, смех тинейджеров на лестничной площадке, визг и лай семейной ссоры уже откуда-то с четвертого этажа, акробатические прыжки мальчугана, от которых сыплется с потолка штукатурка и звенит в тихой истерике люстра, разговоры за жизнь бухающих молодых мужиков на лоджии, собачий вальс на пианино и псевдоблатная песня про белого лебедя, что на пруду качает тухлую волну. Так тебе и надо, раз до сих пор не сумел решить проблему деревни и города и вернуться «к полям и садам», как пишет Господин Пяти Ив, бросивший службу и поселившийся в глухой провинции.
Но хотя бы на месяц можно уйти из города и странствовать.
«Кипарисовый Наугольник, учась у Лао-цзы, сказал:
– Дозволь странствовать по Поднебесной.
– Оставь, – ответил Лао-цзы. – Поднебесная всюду одинакова».
Но не всюду в уши кричит ведущий и трезвонит телефон.