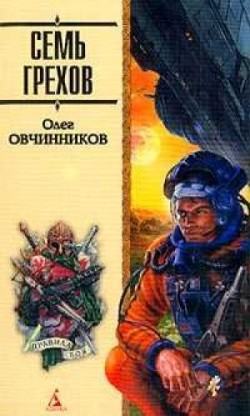Читать книгу Семь грехов радуги - Олег Овчинников - Страница 2
ЦВЕТ СЕДЬМОЙ. ФИОЛЕТОВЫЙ
ОглавлениеВот только почему попик? Не в клобуке и рясе – в пиджачке и жилеточке – то и другое не застегнуто. Да и не смогли бы они застегнуться на выпуклом и округлом, как у беременной географички, животе! Под жилеточкой – белая сорочка и бабочка. Классический типаж оперного исполнителя нарушают лишь кроссовки на ногах, синие, с тремя белыми полосками.
Насколько я смог разглядеть, даже креста на нем не было. По крайней мере, навыпуск. В общем, ничего поповского. Разве что лицо…
Вошедший, беззвучно и поразительно легко для своей комплекции ступая мягкими подошвами, приблизился к краю сцены, отставил в сторону микрофонную стойку, и над залом поплыл солидный баритонистый рокоток. Такому микрофон только помешал бы.
«Добрый самаритянин!» – невольно подумалось.
Таким я его и запомнил. Имя-отчество, которым он представился, немедленно вылетело из головы.
Так вот, о лице… Кудри до плеч, окладистая бородка и большие выразительные глаза – хоть сейчас пиши с него икону. Жаль, не умею я, только иконки к программам. Но они 16 на 16 точек, всей доброты лица не передашь. Доброты и раздобрелости.
После представления и приветствия – здоровался он протяжно и широко улыбаясь, как Дед Мороз, – самаритянин сказал:
– Как вы уже, должно быть, знаете, то, чем мы здесь занимаемся, называется цвето-дифференцированной эсхатологией.
– Теперь понятно, почему их в Центральный Дом Энергетика пустили, – немедленно прокомментировал в левое ухо писатель. – Аббревиатуры совпадают.
– Только, ради Бога, не перегружайте голову терминологией! – еще шире улыбнулся самаритянин. – То же самое, выражаясь русским языком, можно назвать просто: наглядное греховедение.
– Ненаглядное мое греховееедение, – пропела тихонько в правое ухо Маришка.
Я попытался отрешиться от нашептываний неугомонных соседей и сосредоточиться на том, что там все-таки говорит самаритянин. Говорил же он следующее:
– Ну, тему наглядности мы прибережем на десерт, а пока поговорим о грехах. И заповедях. Вот, скажите… – Большие глаза немного сощурились, оглядывая зрительный зал. – Может кто-нибудь из вас назвать десять библейских заповедей?
– Не убий! – негромко воззвал со своего места «интель» в седьмом ряду.
– Не укради! – откликнулся кто-то сзади.
– Не возжелай… – неуверенно парировал интель.
Происходящее начинало напоминать аукционные торги.
– Чего? – насмешливо спросил самаритянин. – Чего не возжелай?
Интель опустил очки долу, припоминая.
– По правде сказать, уже неплохо, – похвалил самаритянин. – Обычно вспоминают еще «не прелюбодействуй» и на этом, глупо хихикая, замолкают. – Две пигалицы через проход от нас послушно захихикали. Самаритянин с доброй улыбкой посмотрел в их сторону. Под его взглядом пигалицы сразу притихли. – Хотя на самом деле смешного мало. Каждому из вас в той или иной степени знаком текст десяти заповедей, кто-то слышал краем уха, кто-то читал вполглаза, но вспомнить их сейчас, все десять, не сможет, наверное, никто.
В это время слева от меня раздалось нарочито-негромкое:
– Не лги! Вернее, не лжесвидетельствуй. А также Бог един и не сотвори себе кумира, кроме Бога, имя которого не поминай всуе. Почитай отца с матерью и день субботний. То есть, в российском варианте, учитывая, что неделя начинается у нас на день позже, чем во всем мире, воскресный.
Писатель перечислял заповеди монотонно, глядя в пол. С моего места было видно как он один за другим загибает пальцы.
– Ученый малый! – похвалил самаритянин, изгибом бровей выражая приятное удивление. – Но педант…
Руки, на которых кончились пальцы, сжались в кулаки.
– Копирайт – Пушкин! – процедил со злостью мой сосед и на некоторое время умолк.
– Так вот, за редким исключением, – самаритянин шутливым поклоном выделил писателя из неплотной массы зрителей, – никто из здесь присутствующих не в состоянии вспомнить все десять заповедей. Что уж тогда говорить об их соблюдении… – Вздохнул тяжело, придавив бабочку оперного певца подбородком. – То же самое со смертными грехами, хотя их всего-то семь. Ну, похоть, ну алчность, а что дальше?
Повисла пауза. Некоторые сосредоточенно пытались вспомнить. Писатель просто молчал. С вызовом.
– Чванство? – робко предположила Маришка.
– Вот-вот, – рассмеявшись, покачал головой самаритянин. – Оно же гордыня. Кроме того – это вам для общего развития – к грехам отнесены чревоугодие, леность, ярость и зависть. – Он помолчал, испытующе разглядывая зрителей. – Запомнили?
Зал прореагировал нестройно и неоднозначно.
– А теперь забудьте! – блеснув белозубо, разрешил самаритянин и подмигнул по очереди одним и другим глазом. Вид у него при этом стал заговорщицкий. – Все забудьте. И заповеди, которые как приняли две тысячи лет назад в первом чтении, так с тех пор и не пересматривали. И грехи, которые непонятно кто и за что назвал смертными. Было, конечно, в притчах Соломоновых упоминание о семи человеческих пороках, которые ему лично, Соломону то есть, глубоко несимпатичны. Но придавать им статус смертных грехов – это, мягко говоря, чересчур. А поговорим мы с вами лучше о семи смертных заповедях.
Писатель присвистнул и заметил, изображая восхищение:
– Unbelievable!
Самаритянин сделал шаг к покинутой хозяином ударной установке, подобрал с пола барабанную палочку и наотмашь ударил по тарелке. От медного звона заложило ухо.
Самаритянин, вежливо улыбаясь, попросил уважаемых слушателей соблюдать тишину, пожалуйста. Затем продолжил:
– Да, да, я не оговорился, а вы не ослышались. Семи смертных заповедях. Почему семи? – спросите. А потому что мозг человеческий так устроен, что любую систему больше чем из семи элементов воспринимает с трудом. Это вам любой психолог подтвердит. Спросите: в таком случае, почему смертных? А потому, что каждая из заповедей такой безусловный и общезначимый закон определяет, что тому, кто ее нарушит – смерть! Ну, или что похуже… И грех в таком случае остается всего один – нарушение заповеди. Любой! Потому что заповеди у нас будут отборные – буквально! – из библейских заветов, из статей уголовных и прочих категорических императивов отобранные. Кто же будет отбором этим заведовать? – в третий раз спросите вы меня…
Самаритянин ободряюще улыбнулся в зал, как бы призывая кого-нибудь задать вопрос вслух. Зал пришибленно молчал. Я ковырял мизинцем ухо, изгоняя из черепа отголоски «ударной волны».
– Да мы же с вами и будем, – сам себе ответил самаритянин. И дальнейшее выступление повел в той же вопрос-ответной манере, не ожидая уже от зала ни помощи, ни провокаций. – Скажем, убийство – грех? – Насупил брови и кивнул. – Конечно! Бесспорный грех. Причем виновным в убийстве мы признаем кого? Того. кто курок спускал? Или того, кто заказ сделал? Или того, кто знал, да смолчал? А?
– Действием или бездействием, – мазнув взглядом потолок, чуть слышно произнес писатель. – Как это свежо!
– Это я к тому, что сами заповеди за две тысячи лет не то чтобы совсем устарели, но в легком пересмотре нуждаются. Вот, скажите мне, чревоугодие – грех? Или наследие голодного прошлого? Оттуда же и посты. Не те, что на дорогах, голодные посты. Нечем было мужику кормиться весной: старое подъели, нового урожая еще ждать и ждать – вот и выдумали пост богоугодный. Очищение организма голоданием. В то время как настоящее очищение – запомните это! – достигается только покаянием. Искренним покаянием и прощением. Судите сами! Тот, кто ест без меры, делает этим плохо только себе. Если, конечно, пищу не у голодных детей отбирает, но это уже другой коленкор. Так что ж, каждый, кто поесть любит уже и грешник? Или как? Значит, убийство записываем, а чревоугодие долой, – подвел промежуточный итог самаритянин и возложил руки на свое неслабое, в сущности, чрево. – Кто согласен, прошу проголосовать.
Руки некоторых зрителей послушно потянулись к потолку. Я лично воздержался. Маришка опять вытянула ноги к самой сцене и закрыла глаза. Но, кажется, слушала внимательно.
– Принято! – возвестил самаритянин и утвердил решение символическим ударом в большой барабан, чем усилил собственное сходство с аукционистом.
– Пойдем дальше… Кто-нибудь знает, как соединить в одно грех лености и заповедь «почитай отца твоего и мать твою»?
Вопрос был задан таким тоном, каким охотник на сцене ТЮЗа спрашивает восторженную малышню: «Дети! Куда побежал волк? Туда? Или туда?» Чувствовалась во всей этой игре какая-то фальшь. Мне сразу стало неинтересно.
Я и в детстве, кстати сказать, волка ни разу не заложил.
– Ревизионист бородатый! – выругался вполголоса писатель, интимно пристраивая локоть на подлокотник моего кресла. Хотя сам в последний раз брился, наверное, с неделю назад. Во взгляде, направленном на выступающего, читалось недвусмысленное «За педанта ответишь!»
Я перестал вслушиваться в рокоток самаритянина и переключил внимание на писателя. Он был мне все-таки ближе. Конечно, не как Маришка, прислонившая голову к моему плечу, но тем не менее.
– Вы заметили, как от фразы к фразе упрощается его речь? – проникает в ухо шепоток писателя. – Специалист! Увидел, что не много в зале интеллектуалов и мягко подстроился под средний уровень. А как он отождествляет себя с аудиторией? Все эти «мы», «наш»… Мы новый… Завет составим хором… И как настойчиво вовлекает в дискуссию, создает иллюзию интерактивности. А жестикуляция… язык тела… и тембр голоса – это же НЛП в чистом виде!
– Эээ… Неопознанная летающая плошка? – выдвигаю предположение. – Или нелинейное программирование?
– Нейролингвистическое, – поправляет писатель без улыбки.
– Вот на чем я еще не программировал! – задумчиво изрекаю после короткой паузы.
– Вы программист? – он морщит лоб.
– Программисты – в Микрософте, – отвечаю. – Я – веб-дизайнер.
– Тогда обратите внимание на костюм. Думаете, эти кроссовки – спроста?
Вопрос повергает меня в легкий шок. На мой взгляд, современный писатель должен быть в курсе, что веб-дизайнеры не занимаются моделированием одежды.
– И глаза… – продолжает он, не замечая моей растерянности. – Если вы легко гипнотабельны, лучше не смотреть в глаза. Даже не слушать. И вообще… Лучше бы вам не появляться на подобных сборищах. Но раз уж пришли… Рекомендую соблюдать некоторые правила. Если попросят в конце заполнить маленькую анкетку – откажитесь. Ни в коем случае не оставляйте своих координат – ни телефона, ни тем более адреса. Не называйте имен, иначе вас вычислят мгновенно. И… О! Вот еще! Обратите внимание…
Я обратил. По боковым проходам, улыбаясь как проводницы вагона-люкс, вкрадчивой походкой двигались две женщины с большими пластиковыми подносами. На подносах в крошечных граненых стаканчиках плескалось что-то красное и, судя по мелким капелькам на стекле, охлажденное. Должно быть, сок или вино. Если вино, то скорее всего кагор. Пересмотр пересмотром, но ведь и для отпетого ревизиониста должно быть что-то святое!
Немедленно захотелось пить. Но санитар человеческих душ, конечно же, не преминул все испортить.
– Самое главное правило – чем бы вас ни пытались угостить, ничего не пейте и не ешьте! – Он зашептал громче, наверное, чтобы предупредить о возможной опасности не только меня, но и мою вторую половинку. – Едва ли вам, как в начале девяностых, напрямую предложат проглотить пару таблеток во славу нового бога. Но капнуть в сок пару капель психотропного могут запросто. Или даже не психотропного, а просто… Те же муниты подмешивают в свои напитки не буду говорить, что, только потом каждый причастившийся считается кровным родственником преподобного Муна. Напитки эти в самую жару раздают на улице всем желающим. Бесплатно, естественно. Кстати, тем же самым составом, так называемым «священным вином» они опрыскивают свои конфеты. Так что не рискуйте!
Повторив предостережение, писатель вынужденно замолчал, потому что одна из женщин как раз поравнялась с нашим рядом. Остановилась ступенькой ниже, чуть наклонившись, протянула поднос, любезной улыбкой приглашая нас угощаться.
«У каждого свои семь заповедей» – с иронией подумал я о писателе. Но от предложенного стаканчика все-таки отказался. Не то чтобы от страха или брезгливости, просто пить внезапно расхотелось.
Зато Маришка перестала изображать спящую красавицу и обеими руками потянулась за напитком. Из чувства противоречия.
– Ты не будешь? – обернулась ко мне. – Тогда можно я за него возьму?
Разносчица молча кивнула. Наверное, опасалась проронить словечко в то время как ее духовный наставник произносит со сцены:
– …ни вола его, ни осла, ни прочего транспортного средства, включая полноприводные иномарки…
Мило улыбаясь женщине с подносом, Маришка один за другим осушила оба стаканчика.
– Нормальный чай, – беззаботно заметила она, когда женщина удалилась опаивать верхние ряды. – Только холодный и красный. Каркадэ, гибискус или суданская роза. И ничего психотропного. Даже сахара не положили!
Писатель посмотрел на нее с немым укором. Если бы он еще покрутил пальцем у виска, я бы его… не то чтобы побил, но мое отношение к русской фантастике в целом охладело бы изрядно.
Он больше ничего не сказал. Зачем, если никто не внимает с почтением его мудрым советам?
Слушать, как адаптируют «Ветхий Завет» для новых русских мне тоже порядком наскучило. Хотелось встать, громко хлопнув напружиненным сиденьем кресла, и демонстративно покинуть помещение. Но я остался – из-за Маришки: похоже, ей все это было интересно. Правда, снова ушел в себя, и только вздрагивал иногда, когда проповедник барабанным боем увековечивал на невидимых скрижалях очередную заповедь.
Чтобы доказать самому себе, что еще не окончательно опустился до уровня веб-дизайнера, вспомнить, так сказать, славное сертифицированное прошлое, стал в уме составлять программку, которая распечатывала бы свой собственный текст. Минут за двадцать составил четыре варианта, самый лаконичный – не Бейсике, всего 7 символов, включая пробел и перевод строки, самый изящный – на Лиспе.
Начал сочинять то же самое на Паскале, но быстро запутался в перекрестных строковых коллекциях, впал в рекурсию, затем в меланхолию – и вывалился в окружающую реальность как раз к окончанию проповеди.
– Кто же будет судить нас за грехи наши тяжкие? – риторически вопрошал самаритянин. – Прокуроры с адвокатами? Товарищеский суд? Общественность? – И, изобразив мгновенную задумчивость, покачал головой, дескать, нет, не они. А я поймал себя на навязчивом желании также, как он, покачать головой. Но не покачал, удержался. – Вернемся к тому, с чего начали. К убийству. Вот когда сосед соседа по пьяному делу отверткой пырнет за то, что тот последней рюмкой не поделился – это плохо? Да. А когда солдатик на поле боя из АКМ-а врага срежет на секунду раньше, чем тот гранату метнет? Тоже плохо? Да. Очень плохо. Однако, куда от этого денешься? Накажешь солдата – через неделю сам на его месте окажешься. Только без автомата. Что ж, стало быть, простим солдатика?
На сей раз вопрос был адресован слушателям в зале, и те прореагировали заметно активней, чем в начале выступления. Больше всего ратовала за без вины согрешившего солдатика тетка с пакетами.
– Простим, – удовлетворенно констатировал ведущий. – Потому как грех на душу он принял за родную землю, а не за недопитую поллитру. А кто осудит медсестричку, которая аппарат жизнеобеспечения смертельно больному отключит, не в силах больше смотреть, как он, бедный, мучается? Мы осудим? Опыта у нас не хватит их осудить! Мудрости! Предоставим это дело Господу. Он всеведущ, он разберется. И покарает виновных, но… потом, на страшном суде. А ведь нам хочется поскорее. Ну не можется нам ходить по одной улице с душегубами, ворами и прелюбодеями! Вот если б как-то отделить их от остальных – от нас, таких добрых и порядочных. Только как отделишь – на лбу-то у них не написано…
Насколько было бы проще и лучше, думаем мы, если бы Господь прямо указывал нам на грешника: «се согрешивши!» А уж покарать мы и сами сможем, благо знаем, за что, Господь отметил. Как отметил – нам пока не ведомо. Перстом с небес, молнией карающей или просто клеймом на челе. Впрочем, на челе – это полумера, можно волосы отпустить, кепку на лоб надвинуть, бандану повязать. Вот бы им, грешникам, такую отметку, чтобы ни смыть, ни утаить, ни вывести. А? Хорошо бы было?
Зал истово поддержал оратора. Даже Маришка монотонно кивала в такт его словам. Или просто клевала носом. Глаза-то закрыты, не понять.
– Вот мы с вами и подошли вплотную к идее наглядного греховедения, – улыбнулся самаритянин. – Только… Я вижу, некоторые из вас уже порядком заскучали… – И в упор посмотрел на меня. А мне, как на грех, именно в этот момент нестерпимо захотелось зевнуть. Так что пришлось изо всех сил сжимать челюсти, чтобы не показаться невежливым, пока позыв к зевоте не растворился в зубовном скрежете. – Да и мне пора отдохнуть. Так что к вопросу о наглядности мы вернемся через неделю. Буду рад увидеть вас снова в следующее воскресенье.
С этими словами самаритянин театрально раскланялся, легко вбросил объемистое тело на маленькую вертлявую табуретку, оставшуюся от барабанщика, и одной палочкой, как какой-нибудь Паганини, выдал на ударных блестящую импровизацию. Свободной рукой он подыгрывал себе на тамтаме.
– Вот уж вряд ли, – запоздало отреагировал я на приглашение приходить через неделю.
Нет, если бы он просто играл на ударных, это еще можно было бы стерпеть, играет он, надо сказать, довольно неплохо. Но когда в моем присутствии начинают говорить о религии и при этом не разрешают зевать в голос… Это уже кощунство!
Недавние слушатели дружно хлопали креслами и неровными струйками вытекали из зала. Лица большинства выражали легкую растерянность. Взгляды, в которых читался недоуменный вопрос: «И это все?», искали глаза самаритянина. Но тот, вдохновенно зажмурившись, казалось, с головой погрузился в игру и перестал замечать, что творится вокруг.
Действительно, как-то странно. Заманили календариком, напоили холодным чаем, напомнили о вечном. А ради чего?
– Пойдем отсюда, – сказала Маришка, вставая.
– Куда? – Я взглянул на часы. До концерта оставалось еще чуть меньше часа.
– Пойдем, прогуляемся. Я тут больше не могу.
Я встал и поплелся следом за ней к выходу.
Аритмичный перестук барабанов долго еще преследовал нас по коридорам и лестничным пролетам здания, пока его затухающее эхо не отсекли автоматические стеклянные двери входа, бесшумно сомкнувшиеся за нашими спинами.
С писателем мы так и не попрощались.
Холодное мартовское небо, и без того с утра затянутое мутной серой пленкой, начинало темнеть. Солнце, невидимое из-за облаков, опускалось к горизонту, невидимому из-за окружающих зданий. И все равно для этого времени суток было непривычно светло, сказывался перевод часов. Однако, подсветка на крыше ЦДЭ зажглась по привычке ровно в 18:00. Громада здания выделялась в зарождающихся сумерках как маяк, призывающий моряков, не вовремя вышедших в море, одуматься и вернуться.
Тем более, когда у них сорок минут до концерта и билеты без мест!
Но мы упрямо двигались в противоположную сторону, навстречу ветру.
– Знаешь, а мне даже понравилось. В чем-то, – сказала Маришка. – Ну, этот цвето-дифференцированный мир, в котором ничего плохого нельзя скрыть. Налево пошел – зелененьким стал. Перекормил слепенькую старушку грибами – сам покраснел и покрылся белыми пупырышками, как мухомор. Разве не здорово?
– Да уж, – нейтрально реагировал я, не вполне понимая, о чем речь.
– Слушай… А как быть с цветными от рождения? Китайцами, например. Или у них жажда наживы – такой же первородный грех, как у христиан стремление к познанию? А негры? Интересно, на них это тоже распространяется? Ты видел когда-нибудь… О! – Маришка вдруг остановилась, пораженная, и прижала ладонь к губам. – Помнишь, в наших общагах, кажется, в шестерке, жил рыжий негр? Ну, у него волосы были рыжие, и лицо чуть-чуть отливало красным. Помнишь?
– Помню.
– Так вот, я только сейчас поняла, что он – не просто альбинос. – Маришка сделала «страшные» глаза и понизила голос. – Он – маньяк-убийца! Многосерийный! Серьезно говорю, без ножа зарежет. Помнишь, однажды мы зашли в таракановку, как раз напротив шестерки, а он там блины ел? Одной ложкой придерживал блин на тарелке, а другой отрезал от него кусочки. Тупой столовой ложкой, представь! Чем не маньяк?
– Ну, ножей в таракановке никогда не водилось, – напоминаю. – Вилки бывало, появлялись, но только в начале осени.
– Правильно, должны же первокурсники как-то обживаться. И стаканчики там всегда пластмассовые были, якобы одноразовые. Только, думаю, поварихи их потом отмывали и снова пускали в оборот.
– После меня – вряд ли. Я свои всегда после употребления сминал в гармошку.
– А они выпрямляли! Знаешь, как из них потом компот пить неудобно? А напиток пепсикольный? Помнишь, в меню иногда откровенно писали: «Напиток пепсикольный». Попробуешь – он и есть! Содержание пепси-колы – процентов тридцать, остальное – вода…
Подсвеченная громада ЦДЭ на расстоянии напоминала гигантскую подстанцию: света много, а окон нет. Мы двигались не спеша по Татарскому мосту. Маришка лавировала между лужами, стараясь пройти где не по суху, там по мелководью, чтобы не замочить полусапожки, и все вспоминала, вспоминала, вспоминала… Брала реванш за долгий час вынужденного молчания и разминала речевой аппарат перед завтрашним эфиром. А я лишь время от времени вставлял в ее ностальгический монолог свое «Да помню я, помню!», глядя, как сбросившая ледяной панцирь река маслянисто скользит под нами, далекая и неслышная из-за шума проносящихся по мосту машин.
Наверное, поэтому, увлекшись созерцанием водной стихии, я не сразу уловил те изменения, которые произошли с Маришкой. Если, конечно, они происходили, то есть совершались во времени, а не возникли внезапно и вдруг.
Когда после очередного «Помнишь?» я взглянул на нее, мне показалось сперва, что это лучи нескольких прожекторов наложились на слепящий свет противотуманных фар, которые без надобности включил водитель идущего во встречном потоке джипа, и сыграли с моим зрением нехорошую шутку. Но вот джип поравнялся с нами и промчался мимо, а наваждение так и не прошло, так что я на мгновение утратил чувство реальности и, качнувшись, остановился на полушаге, в то время как Маришка продолжила идти вперед, припоминая на ходу, как мой бывший одногруппник Пашка гнался по лужам за переполненным автобусом с дипломатом наперевес, забрызгался с ног до головы, а когда автобус остановился, не смог в него влезть. Как ни в чем не бывало шла, разговаривала сама с собой и ничего не замечала!
– Марина! – позвал я, поражаясь спокойствию собственного голоса. – Ты вся фиолетовая!
Остановилась, обернулась, состроила хитрую мордочку.
– Все ты путаешь, Тинки-Винки! Это ты фиолетовый. Ляля – желтая.
– Марина! – тупо повторил я. – Ты вся фиолетовая!
– Умница, Тинки! – продолжала дурачиться она. – Все телепузики знают, что шутка, повторенная дважды, становится в два раза…
И тут ее взгляд упал на ладони, сложенные для шутливых аплодисментов.
Маришка вскрикнула. От испуга или восторга – у нее это всегда получается одинаково. Взметнула вверх рукава куртки, оголяя предплечья. Нагнулась, чтобы разглядеть колени.
– Я что, вся такая? – спросила дрогнувшим голосом.
– Вся, – подтвердил я.
– И лицо?
Я только кивнул. Это-то и было самым страшным. Стоял в трех шагах от нее, огромный и тупой как Тинки-Винки, и не знал, чем помочь. Только кивал в ответ и бормотал:
– Даже волосы.
– Ужас! – сказала Маришка и поправила плащ. – Это все чай!
Я немедленно вспомнил все: и маленькие запотевшие стаканчики на подносе и предостерегающий шепоток писателя. Но все-таки сморозил – от растерянности:
– Какая связь? Чай был красный, а ты – фиолетовая…
– Ты не понимаешь. Ты вообще слушал, что говорил толстяк на сцене?
В этот момент она снова была самой собой – супругой, заботливо вправляющей своему мужу-тугодуму вывихнутые мозги. Но при этом – непереносимое зрелище! – оставалась до корней волос, до кончиков ногтей и до белков глаз – фиолетовой. От макушки до пяток, различие наблюдалось только в оттенках. Глаза и губы были светлее, чем кожа лица. Еще светлее – волосы и ногти. Они как будто светились в подступающих сумерках.
– Пытался. – Оправдываюсь: – Меня писатель отвлекал. Пока слушал – вы вроде заповеди выбирали. Демократическим путем.
– Заповеди… – Зубы обнажились в усмешке. Мне уже доводилось видеть такие зубы – в детстве, у бабушки на даче, в обломке зеркала, пристроенном над рукомойником. В дни, когда поспевала черника. – А что такое цвето-дифференцированная эсхатология – понял? Дай сюда календарик!
– К-какой?
– Какой! Ты что, боишься меня? Думаешь, это заразно? – Маришка первая сделала шаг навстречу, не церемонясь, запустила руку мне во внутренний карман куртки.
Одинокий прохожий, вздумавший по мосту пересечь Москва-реку в столь неурочное время, завидев Маришку, резко передумал и решительным шагом устремился обратно. Я понимал его: моя жена всегда была страшна в гневе.
– Так и есть! – сказала она и рука, сжимающая закладку-календарик, безвольно опустилась. Маришка слепо сделала несколько шагов в сторону и остановилась, наткнувшись на ограждение моста. В ее походке было что-то от куклы Барби, из пластмассового тела которой удалили все шарнирные элементы. Я оказался рядом, как раз вовремя, чтобы услышать болезненный шепот:
– Мы не просто выбирали заповеди. Кроме этого мы распределяли цвета. Каждой заповеди – свой цвет. Цветовая дифференциация. Наглядное греховедение. Убийство – красный, воровство – оранжевый… Выбирали, руки тянули, спорили… Одна тетка все предлагала за измену не перекрашивать. Ну, может быть, немножко, в бледно-розовый. Долго смеялись… Думаю, один толстяк заранее знал, чем все закончится. На! – Бумажная полоска ткнулась мне в ладонь. – Посмотри там, на фиолетовый.
Недоумевая с каждой минутой все сильнее, я прищурился на календарик. Вернее, на его оборотную сторону. И в рассеянном свете заоблачного солнца разглядел наконец слова, напечатанные мелким шрифтом поперек градиентной цветовой шкалы.
Сверху закладки, на красном фоне было написано: «убийство», ниже, там где красный цвет плавно перетекал в оранжевый – «воровство»… Я заглянул в самый низ радужной раскраски, и с трудом разобрал на темно-фиолетовом черные буковки, сложившиеся в «пустословие».
– Что за чушь? – заторможенно спрашиваю. – Что общего между убийством и пустословием? Разве это грех?
– Как видишь, – безрадостно иронизирует Маришка, ссутуливаясь над перильным ограждением моста.
– В любом случае, – пытаюсь сосредоточиться и начать мыслить здраво. – Даже если грех, пусть смертный, пусть самый страшный – все равно, каким образом…
Но Маришка не слушает, только причитает тоскливо:
– Что же делать? Что делать? – И вдруг сбивается на непоследовательное. – Мне же завтра работать!
Я хотел было сказать, что диджей на радио – не то же самое, что диктор на ТВ, цвет кожи особого значения не имеет. Но на всякий случай промолчал. Чай по-самаритянски я, конечно, не пил, и все-таки… Не хватало еще пофиолетоветь обоим!
Предложил только:
– Может, мороженого?
Ей-богу, это было лучшее из того, что пришло мне в голову в тот момент.
Пока бегал к метро и там еще метался минут десять вверх и вниз по Настреженке, распугивая прохожих, в поисках еще открытого киоска с мороженым, старался ни о чем не думать. Как ни странно, мне это почти удалось.
– Вам какое? – радушно полюбопытствовала пожилая мороженщица. – Есть шоколадное. Есть еще с карамелью, с клубникой…
– А нет у вас чего-нибудь чисто белого? – спрашиваю запыхавшимся голосом. – Без цветовых добавок?
Бегу назад. Тяжелые брикеты пломбира холодят ладони и оттягивают карманы куртки. В памяти навечно зафиксирован давно неактуальный ценник «по 48 копеек».
Небо окончательно темнеет.
Преодолев половину моста, перехожу на шаг, останавливаюсь, оглядываюсь.
Маришки нигде нет.
Сердце неприятно подпрыгивает в груди, когда я не обнаруживаю ее в том месте, где мы расстались. «Опоздал!» – проносится в голове отчаянная мысль.
Перевешиваюсь через перила. Черные после заката воды Москва-реки кажутся зловещими. Тупо наблюдаю, как капелька растаявшего пломбира медленно скатывается по запястью и обрывается, летит вниз к воде, мгновенно пропадая из поля зрения.
«А ведь, – думаю, – если бросить туда, допустим, камень, всплеска никто не услышит…»
– Але!
Оборачиваюсь на нетерпеливый оклик.
Слава Богу – она! Никуда не делась, просто отошла шагов на двадцать, притаилась за опорой моста от посторонних глаз, так что сразу и не разглядишь. Ей теперь легко прятаться, невидимой на фоне фиолетового ночного неба.
– Чего так долго?
– Так получилось, – вяло повторяю любимую отмазку всех фаталистов.
Когда я сдираю обертку с первого брикета, рука почти не дрожит…
Однако, двадцать минут поедания пломбира не принесли видимого результата. Все это время я, обнимая, прижимал Маришку к чугунной ограде моста, широкой своей спиной закрывая, насколько возможно, от редких прохожих. Приговаривал что-то невнятно-успокоительное: «И еще чуть-чуть, и еще капельку, вон пальцы уже побелели… Немножко…»
А Маришка сосредоточенно молчала, для верности прижав ладонь ко рту. Только один раз отвела в сторону мою руку с четвертой заботливо распечатанной порцией мороженого, сказала:
– Знаешь, пожалуй, иногда я действительно слишком много говорю. Тебе, наверное, нелегко со мной приходится.
– Глупая, – пробормотал я, стараясь не отводить глаз от ее лица, любимого, но сейчас – немного пугающего. – Без тебя мне было бы вообще никак. И поцеловал ее прямо в фиолетовые, как лакмус, губы.
Которые на глазах начали розоветь.
Видно, поцелуй у меня вышел довольно-таки кислым.
Злополучный мост вывел нас прямиком к «Парку науки». До «Ноябрьской» нам, правда, было бы удобнее, пересадкой меньше, но Маришка слишком замерзла, поглощая мороженое, чтобы лишние пять минут провести на пронизывающем мартовском ветру. Так что мы, не раздумывая, нырнули в кафельное нутро ближайшей станции.
Только на эскалаторе зуб у Маришки начал попадать на зуб. На слух это звучало жутковато, и я со всей нежностью, на какую был способен, погладил ее по холодной щеке, по заново посветлевшим волосам, стараясь успокоить, согреть…
Всю дорогу она с тревогой вглядывалась в свое отражение в вагонном стекле. Я, не скрою, тоже частенько посматривал в ту сторону и, когда наши взгляды пересекались, строил Маришке смешные рожицы с целью хоть как-то приободрить. Получалось неубедительно.
Уже дома, поразмыслив, мы решили наутро заглянуть в ЦДЭ. Потолковать с добрым самаритянином, которого Маришка предпочитала называть «толстым», а если не застанем, узнать у кого-нибудь его координаты. Решал главным образом я, так как Маришка была в этот вечер на редкость не словоохотливой. Только добавила в конце:
– И на всякий случай возьмем с собой Пашку. Ударим по ихнему тоталитаризму нашим милитаризмом…
На том и заснули.
Жаль, подумал я, засыпая, что мы так и не попали на концерт. Или, как сказала бы Маришка, «в концерт». Все равно жаль! «Пикник» не так часто выступает в Москве. К тому же с новой программой. «Фиолетово-черный»…
Хм… Интригующее название!