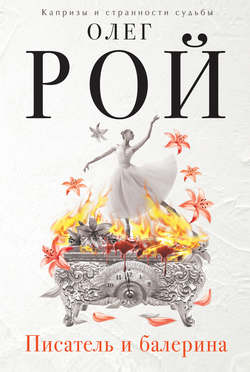Читать книгу Писатель и балерина - Олег Рой - Страница 4
Действие первое
Часть 1
Пигмалион
ОглавлениеЭто была она!
Точнее, даже так: это была Она!
Вообще-то Марк Вайнштейн, известный всему миру как творец жутковатых интеллектуальных детективов Аристарх Азотов, не терпел столь вульгарного использования прописных букв. Подчеркивать таким образом свою мысль – значит, признаваться, что ты не способен выстроить нужные слова в нужном порядке, заставляя эту самую мысль засверкать с бриллиантовой яркостью. Выделять смысл с помощью заглавных букв – все равно что привлекать внимание не содержанием своих слов, а их громкостью. Криком. Безвкусица, пошлость, непрофессионализм.
Но сейчас «о» внутри взбудораженного мозга своевольно и упрямо превратилась в прописную, разрослась, засветилась, заиграла солнечными искрами, как драгоценная рама старинного портрета, как сияющий ореол вокруг той, на кого он глядел, не в силах не то что отвести глаза, а хотя бы сморгнуть.
Собственно, он всегда смотрел балет очень внимательно. Неприлично внимательно, шутила жена. Татьяна вообще часто над ним подтрунивала, особенно в последнее время.
Кажется, в давние юные времена этого не было. Или было?
Когда они расходились – беспощадно молодые, двадцатилетние, наивные, – лицо Татьяны еще сохраняло по-детски размытую мягкость линий. Но решения принимать она умела уже тогда.
Марк отчетливо, вплоть до ледяных иголочек в затылке, помнил, в какую панику его повергло известие о Татьяниной беременности. Мозг затапливала темная неконтролируемая жуть, из дальних углов подсознания полезли надежно, казалось, запертые монстры. Скалились, тянули щупальца, обдавали дымным смрадом. Ночами он метался в кошмарах. Грядущий младенец ужасал, как инопланетные чудовища из «Чужого».
Впрочем, «Чужого» он, кажется, посмотрел позже. Да, позже. Но ужас – ужас был тот же. Иррациональный и до сих пор не слишком понятный. Ну что такого кошмарного, если подумать, в беременности? Населяющие собственное подсознание монстры куда страшнее. Должно быть, думал сегодняшний, повзрослевший и, хотелось думать, поумневший, обретший подобие хладнокровия Марк, должно быть, это что-то вроде инстинкта самосохранения, попытка хоть от чего-нибудь защититься. Если уж невозможно, не получается защититься от чудовищ, населяющих собственный мозг, – или хоть как-то их контролировать, отгородиться, заморозить, – ну тогда необходимо хотя бы над внешними обстоятельствами контроль сохранить. Или хоть иллюзию контроля. Видимо, и сегодняшний страх перед компьютером – устройством полезным, очень удобным, но оттого не менее пугающим – того же плана, что и тогдашняя его паника.
В конце концов Татьяна, насмотревшись на его терзания, однажды сухо заявила, что не собирается гробить здоровье, прерывая первую беременность. Так что Марк пусть себе как хочет, но аборт она делать не станет.
Бледный зимний рассвет лился в подмороженное стекло, и теплый, надежный, привычный до последней царапинки кухонный интерьер тоже бледнел, как будто выцветал. Словно кто-то поворачивал ручку яркости, превращая реальность в блеклый эскиз, размытый, полустертый, почти прозрачный.
Слово «аборт» повергло Марка в еще большую (уж будто такое возможно!) панику. Нет-нет-нет, он и помыслить о подобном кошмаре не мог. Не мог! И не хотел! Чувства тоже блекли, бледнели, теряли яркость. Никаких чувств, никаких желаний. Хотелось только… спрятаться. И пусть оно как-нибудь там… само. Само рассосется.
Татьяна подождала, поглядела, хмыкнула и начала деловито и сноровисто собирать вещи. Вещей было немного. Впрочем, их тогда и у самого Марка было не изобилие. Бродя по опустевшей после Татьяниного отъезда квартире, он размышлял: как странно, прожил в этих стенах почти всю свою жизнь – ну или по крайней мере всю сознательную, – старательно вытесняя на задворки воспоминания о «до», – но, если бы пришлось вот так же собираться, хватило бы, пожалуй, двух чемоданов. Все остальное было бабушкино. И не важно, что ее уже нет. Все равно диваны, шкатулки, стеллажи, скатерти, вазочки, картины – все это было бабушкино. А он, Марк, просто жил среди всего этого. Как будто в музейной экспозиции жил, честное слово.
Через полгода или около того Татьяна позвонила, сообщив все тем же бесстрастным тоном, что родила дочь, назвала Ксенией, фамилию дала свою, а отчество – уж извини! – записала Марковна. От растерянности он ляпнул что-то вполне бессмысленное насчет «законного брака», но Татьяна только фыркнула в трубку. Спасибо, ничего не нужно, у них все есть.
Это было вполне похоже на правду. Отец Татьяны Александр Витальевич Иволгин, в советские времена – директор небольшой типографии, в наступивших вдруг капиталистических порядках не потерялся, не пропал, оперативно «перестроившись», начал сперва печатать рекламные листовки, потом затеял развлекательную газетку, добавил к ней приложения – «Дачный рай», «Максимум здоровья», «Ты прекрасна» и тому подобную макулатуру. Макулатура, однако, приносила вполне неплохие доходы. Татьяна же (хотя об этом Марк узнал значительно позже), вернувшись к родным пенатам, вместо того, чтоб наслаждаться достатком и комфортом, тут же впряглась в рабочую лямку. Корпела над отцовской бухгалтерией, расписывала бизнес-планы, оценивала риски и занималась всеми этими очень нужными, но совершенно непонятными делами очень успешно, меньше чем за год превратившись из временного бухгалтера в правую руку директора свежеобразованного издательства.
Так что от Марка никакой помощи не требовалось. Да и чем он, сперва полунищий студент, а потом и вовсе неизвестно кто, помог бы? Только и мог, что штамп в паспорте предложить. А зачем бы Татьяне становиться Вайнштейн? У нее и своя фамилия не хуже – Иволгина. Может, еще и лучше, очень ей подходит, такая же резкая, яркая – как вспышка. Как сама Татьяна.
И кому нужен штамп в паспорте, если муж не в состоянии «обеспечить семью»?
Оставшиеся от бабки сбережения стремительно растворились в неудержимом инфляционном водовороте (да и сколько там было тех сбережений!), Марк питался дошираком и маялся от собственной никчемности. Переводил инструкции для обильно ввозимых в страну пылесосов, холодильников, блендеров и утюгов, перепечатывал чьи-то курсовые и дипломные – с надбавкой «за коррекцию орфографии и пунктуации», подрабатывал в предвыборных штабах, раздавая у метро какие-то дурацкие листовки, писал не менее дурацкие тексты для тех же листовок или обращений к «электорату» и сценарии для предвыборных или просто рекламных роликов.
И просто писал.
Впрочем, писал Марк всегда, сколько себя помнил.
Потому что всегда боялся темноты. Нет, его не пугал мрачный, без единого фонаря двор, не пугал соседний пустырь, где в брошенных обломках исполинских бетонных труб прятались бродячие собаки, а окрестные пацаны играли в «войнушку». Играли до позднего вечера, когда провалы служивших блиндажами и засадами труб наливались чернильным мраком, – и это было совсем не страшно. Расходились по домам, потому что за слишком позднее возвращение грозил изрядный «втык». А так-то, конечно, играли бы, может, и ночь напролет – в темноте-то еще и интереснее.
Но когда гасили свет и пора было ложиться спать – вот тут подступал настоящий ужас. Закрыть глаза? Перестать быть? Навсегда раствориться в темноте, которая только и ждет, когда ей поддашься… Марк изо всех сил таращил глаза, цепляясь взглядом за едва различимый оконный проем, за тонкую световую полоску под дверью, за белые, точно светящиеся, лилии на столе. Но это была борьба с заранее известным результатом. Моргнув, он пугался и начинал таращиться еще сильнее, даже пальцами веки придерживал – но, разумеется, тьма побеждала.
Утром он долго прислушивался к себе – кто это? кто проснулся в его теле? и чье это тело… теперь? Запирался в ванной и вглядывался в зеркало – кто там? Зеркало послушно отражало высокий лоб под шапкой темно-русых, почти каштановых волос, прямые брови над глубоко посаженными глазами, резко выступающие скулы – обычное лицо, которое, пожалуй, можно было бы даже назвать красивым, если бы не мрачная настороженность в глазах. Кто ты? Кто я? Узкие, как будто не мальчишеские ладони с длинными пальцами, на правом мизинце – вчерашний заусенец. Все привычно, все обыкновенно. Марк вглядывался в свое отражение, пока бабушкин голос из‑за двери не напоминал довольно раздраженно, что завтрак стынет, а ей пора на работу – бабушка работала всегда, до самой смерти.
Марк встряхивался и начинал яростно драить зубы – быстрее, быстрее, нельзя заставлять себя ждать.
Вечером все повторялось.
Вот тогда Марк и научился писать. Не в смысле – соединять палочки и крючки в буквы и слова, это умение он приобрел гораздо раньше, еще до школы, в незапамятные практически времена. Не сочинять «Как мы ходили в цирк» по заданию учительницы – вот уж мука мученическая. Но записывать на бумаге, что в голову взбредет, все подряд (стул, если на нем висит бабушкин капот, похож на рыцарский замок, в подвале которого живет дракон, а рыцарь и не знает ничего; или на острую высоченную гору, на которую карабкается маленький отважный охотник, а в пещерах стучат молоточками старательные гномы, или еще на что-нибудь, такое же интересное и бесконечное) – это было настоящее открытие.
Белые листы оказались спасением от наползающей изнутри (а как будто – снаружи!) вязкой душной тьмы неотвратимого небытия. Марк неутомимо заполнял бумагу бесчисленными черными строчками – как выстраивал решетку на пути ползущих из подсознания монстров. Отсекая от них хищные щупальца – и переплавляя, перековывая их липкую призрачную плоть в заслон от них же. Чем правильнее, чем точнее, чем чеканнее будут слова на белом листе – тем несокрушимее будет заслон.
Слово «отчество» – после Татьяниного звонка Марк исписал им в разных вариациях несколько листов – не годилось совершенно. Оно шипело и походило на толстую косматую гусеницу. Или на колонию плесени, вроде тех, что разрастались на забытых по углам и в раковине тарелках. Какая уж там решетка!
Но мало было отчеканить правильные слова, нужно было еще сковать их в правильную конструкцию. Нет, не в предложения – с этим у Марка никогда проблем не было. Но готовые фразы, вместо того чтобы объединиться в нечто стройно-бесспорное (вроде истории о рыцаре и драконе в подвале замка – одной из немногих, которые удалось худо-бедно закончить), цеплялись хвостами и серединами, клубились бессмысленной кашей, ехидно подмигивая особо удачными метафорами, рвались, рассыпались, растворялись – и из бурлящего варева опять тянулись чудовищные щупальца.
При попытке пропустить «кашу» через бабкин ундервуд становилось только хуже: самые лучшие, самые удачные, самые живые фразы, оставшись в одиночестве пустой строки, засыхали, корежились, ломались. Марк отчетливо слышал эти мертвые звуки, они гремели в ушах громче, чем трещала (сколько ее ни смазывали, она все равно трещала) тяжелая каретка с нелепо торчащим хромированным рычагом.
Как ни странно, что-то стало получаться, когда Марк попробовал писать на компьютере. Он тогда заночевал в очередном предвыборном штабе. Ехать домой после сочинения – срочно-срочно-срочно! – пачки хвалебных од и пышных обещаний было бессмысленно, все равно с утра сюда же возвращаться, проще на диванчике прикорнуть. Спать, однако, не хотелось. Не моглось. За окном что-то скреблось и шаркало, в углах густо клубились неровные тени. Он понажимал на выключатели, но стало только хуже: из белых потолочных трубок лился, кажется, не только свет, но и почему-то холод. Заварил, чтоб согреться и хоть чем-то заняться, кофе – прямо в кружке, едва не облившись кипятком из расцвеченного желтыми потеками когда-то белого электрического чайника. Походил из угла в угол, с опаской косясь на компьютер, в недрах которого покоились свежесочиненные «оды», переложил на секретарский стол еще теплые после принтера листы с распечатанными текстами. Еще походил. Создал новый файл…
…и очнулся только тогда, когда в коридоре загремела ведрами приходящая к семи утра уборщица.
Управляться с текстом в компьютере оказалось куда проще, чем на безжалостных белых листах. Может, в железных недрах и впрямь жил помощник-форнит?
Ни про шипящее «отчество», ни про то, откуда оно явилось, Марк больше не вспоминал. Долго не вспоминал. Чуть не десять лет, если считать с того Татьяниного звонка. Безнадежные девяностые сменились размеренными нулевыми, редкие, почти случайные заказы постепенно переросли в что-то более-менее регулярное, скудно капающие заработки превратились в непересыхающие финансовые ручейки, которые постепенно становились все обильнее. Они бы уже стали полноводным потоком, но Марк с необъяснимым упрямством продолжал писать «для себя». Ну или, как это обычно называется, «в стол». Научился выстраивать сюжет (даже там, где казалось, что сюжет отсутствует в принципе), написал с десяток вполне приличных рассказов и начал штурмовать «крупную форму». Первый роман он, после миллиона попыток «довести до ума», безжалостно стер: сшитые так и эдак «лоскутья» не желали оживать, больше напоминая творение Франкенштейна, нежели живой организм.
Ну и к черту!
Зато второй роман получался… получался! Даже, пожалуй, почти получился. Да, Марк видел в ткани повествования и дыры, и заплатки, и торчащие там и сям нитки – но там не было ничего непоправимого. В конце концов, когда строители завершают новое здание, там тоже видок тот еще: неразобранные строительные леса, раскиданный там и сям мусор, не окончательно подогнанные кое-где рамы и лестницы, торчащие из потолков электрические «хвосты» и прочее в этом духе. Но это ж не значит, что дом лучше снести, – его нужно просто доделать. Вывезти мусор, заделать щели, повесить люстры, полы помыть, в конце концов, – и дом задышит, улыбнется, оживет. И роману, второму, но по сути первому, чтобы ожить, оставалось совсем немного. Марк отчетливо это видел.
С Татьяной он столкнулся случайно, на какой-то издательской презентации. Или на конференции, что ли. Или вовсе на каком-то сложносочиненном форуме – международном, разумеется. Почему-то все эти бессмысленные выставки, форумы, симпозиумы и конференции бывают непременно «международные». И столь же непременно обещают «обширную деловую программу». Все всегда одинаково. Какие-то там докладчики освещают с трибуны какие-то там животрепещущие вопросы, но никто, разумеется, не слушает, потому что все животрепещущие вопросы решаются как бы походя, возле фуршетных столов, в гуще броуновского движения «многоуважаемых гостей и участников», главной заботой которых кажется выпить-закусить-поглазеть. Марку каждый раз чудилось, что он угодил в стайку аквариумных рыбок: ярких, медлительных, с бессмысленно выпученными глазами.
Татьяну он тогда даже узнал не сразу. Мягкая округлость щек сменилась скульптурной лепкой высоких скул, нежно-персиковая кожа стала смугловато гладкой, узкий, как резцом очерченный, подбородок словно приподнялся, гордо демонстрируя чеканные линии стройной – что там ваша Нефертити! – шеи, завораживающе стекающие к безукоризненному декольте. Вместо легкого облака золотисто-белокурых волос – насыщенно каштановая, просверкивающая бронзой копна нарочито небрежной стрижки «вот такой я сорванец!».
Только глаза остались прежние – золотисто-карие, то и дело вспыхивающие веселыми искрами. Во время их недолгого, так ужасно оборвавшегося романа Марк говорил, что у нее в глазах живут солнечные зайчики.
Солнечные зайчики остались.
Да еще жест тонкой руки, нетерпеливо и словно с досадой взъерошивающей волосы на стриженом затылке. Сперва Марк заметил именно жест. Нахмурился – надо же, какие кульбиты память выделывает. И тут кто-то окликнул:
– Татьяна Александровна! Эй, Танюша, не убегай!
На таких каблучищах, пожалуй, убежишь!
Бейджик сообщал, что Татьяна – коммерческий директор издательства, именовавшегося, разумеется, «Иволга». Впрочем, зря он так, хорошее название. Красивое. Вполне под стать самой Татьяне.
В тот момент издательство «Иволга» занималось еще только рекламой да периодикой, но Александр Витальевич начал уже подумывать, не втиснуться ли еще и на книжный рынок. Подумывал, примеривался, прикидывал. Собрав материалы своих огородно-астрологических еженедельничков, выпустил две-три книжки «полезных советов». Сборники продавались столь же успешно, что и сами еженедельники. Но это было… не то. Хотелось «настоящих» книжек. Художественных. Правда, рынок к тому времени был уже вполне поделен, «денежные» авторы распределились между полудюжиной крупных издательств, печатать без соответствующего высочайшего соизволения доходных «мертвецов» тоже стало чревато, не то что в девяностые, летевшие под лозунгом «кто смел, тот и съел». В общем, иволгинская «книжная» идея выглядела не слишком перспективно, и Татьяна глядела на нее довольно скептически. Однако, пролистав черновики Марка, она одобрительно хмыкнула:
– Знаешь, а очень может быть. Да-да. Точно. Очень даже ничего себе. С этим можно работать.
Первый роман – тот, про черновики которого Татьяна сказала «очень может быть», – оказался вполне, как это говорится в определенных кругах, востребованным. Не сказать чтобы Марк вдруг «проснулся знаменитым» – чего не было, того не было, – но читатели восприняли новое имя (первые книги, пока слабость российской публики к «иностранным» псевдонимам не иссякла, он выпустил как Аркадий Вайн) благожелательно, и поклонники образовались. Может, и не миллионные толпы, но продажи, как подытоживала Татьяна, выглядели «вполне, вполне достойно». Почти так же достойно выглядели и продажи появившихся чуть позже «коллег».
Татьяна, у которой и впрямь наличествовал некий «нюх» на перспективные тексты, на просторах самиздата отыскала еще несколько «юных» (самому молодому было двадцать девять) талантов. Может, не столь впечатляющих, как Вайнштейн, но вполне удовлетворительных: и писали «находки» прилично, и гонором чрезмерно не размахивали, в «суперзвезды» себя зачислять не рвались. В общем, на издательский портфель хватало, и будущее рисовалось в красках не то чтобы блестящих, но вполне, вполне светлых.
В иволгинском особнячке Марку приходилось бывать нередко, и мелькавшая время от времени на заднем плане десятилетняя Ксения привела его в полный восторг. Какие там иррациональные ужасы, какие там монстры, что вы! Это был чудный, чудный маленький человечек – очень красивый и неожиданно умный. Марк поглядывал искоса, восхищался, искал черты сходства (и находил, разумеется!), но расспрашивать Татьяну о дочери – не расспрашивал. Стеснялся.
А почти сразу после выхода первой книги они расписались. Тихо и без всякой помпы. Даже в некотором смысле случайно. Под давлением, как пошутила Татьяна, превосходящих сил противника, то есть обстоятельств.
Не только Марк искоса подсматривал за дочерью. Интерес оказался более чем взаимным. Ксюша – юная Ксения Марковна, о боже! – понаблюдав за его частыми визитами в особнячок, как-то раз поинтересовалась – деловито и почти безразлично:
– Ты теперь будешь мой папа?
Марк опешил, но – один раз козе смерть! – ответил честно:
– Почему – буду? Я всегда был твой папа.
Девочка нахмурилась и спросила уже строже:
– А где же ты тогда был? Ну раньше, не сейчас.
Окончательно растерявшись, он ляпнул первое, что пришло в голову:
– Учился писать. Ну книжки то есть. Если бы я плохо писал, мама не стала бы их печатать, ведь правда?
– Точно… – Ксения покачала головой. – Мама не стала бы. Но ведь сейчас, – она кивнула на новенький глянцевый томик, – ты уже выучился?
– Более-менее, – признал он, отметая сомнения.
– Тогда почему ты здесь не живешь? – с присущей ей дотошностью выясняла Ксения. – У всех папы живут дома… Только моряки… Но ты ведь не моряк?
– Не моряк, – согласился Марк и облегченно вздохнул, когда девочка, сообщив, что ей пора «на секцию», вежливо распрощалась.
Вечером он пересказал разговор Татьяне. И на следующий день они тихо и быстро расписались. Без всяких, разумеется, «сроков на размышление». Заведующую ЗАГСом даже уговаривать особо не пришлось: общей дочери десять лет, какие тут «размышления»? Она только покрутила головой да похмыкала, поджав губы: ну, мужчины! Смахнула в ящик стола шоколадку (из обертки выглядывали несколько симпатичных купюр) и моментально оформила все документы.
Татьяна взирала на происходящее с бесстрастием египетского сфинкса. Лишь уголок безупречного рта чуть изогнулся намеком на усмешку: ну раз так, значит, пусть будет муж. Да и для дела польза.
Брак, впрочем, оказался совсем даже не формальным. Супружеский долг в просторной темноте спальни, где пахло полынью и лимоном, Марк «исполнял» истово, почти с остервенением. Сам от себя не ожидал, честное слово. Словно старался разбить эту безукоризненно прекрасную хрустальную скорлупу, разломать ее на мельчайшие кусочки, выпустить ту девочку, что когда-то глядела на него так нежно и преданно и смеялась от счастья. Чтоб затуманился прозрачный золотисто-карий взгляд, чтоб легкое, размеренное дыхание сбилось, чтоб полуоткрытые губы потемнели и пересохли от желания, чтоб на скульптурной шее забилась живая синяя жилка…
И взгляд туманился, и губы темнели, и жилка билась – а «та девочка» не возвращалась.
Нет, ну вот как так? И задыхалась, и стонала от страсти, и тигрицей рычала, вжимаясь в него до синяков… а после – ясные глаза с искорками, улыбочка – «Вайнштейн, тебе кофе в постель или лучше в чашечку?». Временами Марку хотелось придушить ее за это безразличное тепло, за неистребимые шуточки, даже за терпеливое понимание и ненавязчивую заботливость…
Эта, сегодняшняя Татьяна была невероятно, фантастически притягательна в своей веселой недосягаемости, в своем дружелюбном равнодушии, в своей нежной снисходительности. Вот ее он хотел. До умопомрачения. Потом как-то успокоился, само собой. Но в первые годы официального брака – ох как Марк ее хотел!
Правда, любить – все-таки нет, не любил. Впрочем – Марк старался не врать хотя бы самому себе, – он ведь и «ту девочку» не любил. Только надеялся, что веселые искры в нежных глазах помогут прогнать его вечных «монстров». Как за спасательный круг хватался. А потом вдруг оказалось, что «спасательный круг»… живой. С собственными мыслями, чувствами, стремлениями. Это было чуть ли не страшнее «монстров»: кто его знает, этот «круг», что у него на уме, может, спасет, а может, утопит.
Собственно, «союз взрослых родителей взрослой дочери» тоже был, по сути, спасательным кругом. Правда, уже не в битве с «монстрами», а в океане вполне житейских проблем. Да и сил на борьбу с пугающей тьмой подсознания стало уходить как-то меньше. Подрастающая Ксения оказалась неплохим лекарством от безнадежности. Но, главное, Марк вдруг почувствовал, что его бумагомарание – это не только битва с внутренними чудовищами, с вечным страхом не справиться, не выплыть, раствориться, перестать быть. Не только его личное дело. Вот в чем штука. Оказалось, все это нужно не только ему.
Оказалось, что это… профессия? Дикая, выворачивающая наизнанку мозг и эмоции, бросающая от восторга «получается!» в безнадежность «я тупица», не позволяющая отдохнуть, не оставляющая ни на секунду – какой нормальный человек на такое согласится? И тем не менее. Спортсмены вон тоже подвергают себя немыслимым, с точки зрения «нормального» человека, перегрузкам, выламывают суставы, скрипят зубами от боли в перетруженных мышцах – ради чего? Ради олимпийских медалей? Да ладно вам! Ни одна медаль не стоит таких мук. Единственное, ради чего имеет смысл их терпеть, – пьянящий восторг «я могу! у меня получается!». Нечасто, ох, нечасто он снисходит – но именно он искупает все терзания, все бессонные ночи, все ледяные страхи и прожигающие насквозь сомнения.
Всю таящуюся внутри тьму.
Оказалось, что монстры подсознания – неплохая, в сущности, штука. Не слишком, о да, приятная, но безусловно полезная. Вроде как абсолютный слух у музыканта. Это ж, наверное, мука мученическая – непрерывно слышать, как все и всё вокруг фальшивят. Но именно из этой мучительности и вырастает хрустальная чистота музыки, разве нет?
Татьяна никогда не говорила, что он раздувает трагедии из пустяков, не вздергивала пренебрежительно бровь, не намекала, что, мол, Марк «с жиру бесится», не пыталась строить логические аргументы там, где властвовали эмоции. И вообще, кажется, понимала. Чувствовала настроения, поддерживала, когда темнота сомнений неумолимо затягивала в болото безнадежной неуверенности. Чуткость, бережность, спокойная ненавязчивая забота. Но Марк, привычно раскапывая плохое даже в самом хорошем, думал: может, это потому что ей… все равно? Она и с приблудной собакой была бы столь же чутка и бережна.
– Какого еще рожна тебе надо? – спрашивала давным‑давно бабушка, когда он выходил к завтраку иззелена бледный после очередной бессонной ночи. – Молод, здоров, крыша над головой, соображаешь лучше многих, не бедствуешь, так чего маешься? Не гневи судьбу, радуйся тому, что есть.
Марк не то чтобы маялся. И «тому что есть», в общем, радовался. Но радовался как-то не слишком пылко. Их с Татьяной брак – очень удачный, очень комфортный, очень спокойный и надежный – казался ему чем-то как будто искусственным. Точно это не живая жизнь – как там у Чехова? «Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни», – а спектакль. Закроется занавес, актеры смоют грим, переоденутся и отправятся по домам.
Тогда, в юности, подарившей им Ксюху, все было как будто иначе, как будто живее. Они с Татьяной тогда не играли в «отношения», они в них жили. Они были вместе. Или… не были? Марк понимал, что скорее всего идеализирует те давние события. Обычное дело: в молодости и небо выше, и трава зеленее, и – да, и любовь жарче. Сейчас он понимал, что вряд ли тогда между ними было какое-то особенное единение. Слишком уж двадцатилетний Марк был занят борьбой со своими кошмарами, чтобы задумываться – похожа ли на него Татьяна, в его ли тональности звучат ее мысли и чувства. Она была живая и теплая – и этого было достаточно. Это помогало немного разогнать клубящуюся тьму страха перед проигрышем, перед небытием, а большего ему тогда и не требовалось.
Он никогда не молил, как один из поэтов-шестидесятников: «Пошли мне, Господь, второго – чтоб не был так одинок!»[4] Марк всегда совершенно определенно знал: со своими страхами и метаниями он может справиться только сам. Потому что в чужую душу не влезешь, потому что «каждый умирает в одиночку»[5].
Неужели тебе нужно, спрашивал он сам себя, чтоб не в книжках, не на экране, а в твоей собственной жизни бурлил водоворот страстей? И сам же пугался – да ни в коем случае!.. Ну… вот только если бы немножко… щепотку перца в пресные будни? А то они какие-то… словно бы не совсем настоящие.
Их брак не вырастал живым стеблем – складывался из кусочков, как мозаика. Или, успокаивающе говорил сам себе Марк, как строится дом. Из блоков, из кирпичиков.
Тяга чисто телесная – им действительно было очень хорошо в темноте супружеской спальни – один «кусочек». Да какой там кусочек – кусище. Союз родителей взрослой дочери – еще один. Ну и «союз меча и орала», как сам Марк следом за Татьяной называл их деловое сотрудничество. Самому ему, правда, больше нравилось слово «команда». Крепкая рабочая команда.
Писатель без издателя – пустое место. Ноль без палочки. Но и издатель без автора ни за каким чертом никому не сдался. Симбиоз, однако, усмехалась Татьяна.
Но – пара?
– Пара, – назидательно объясняла когда-то сухая и безапелляционная, как орфографический словарь, Эльвира Афанасьевна, – это два сходных объекта общего назначения. Пара перчаток, пара гнедых. – Узкие губы искривлялись тенью усмешки. – Вспомните несколько устаревшее «пара брюк». Применительно к людям термин «пара» начал использоваться в пандан устойчивому выражению «они не пара». Обратите, однако, внимание, что это словоупотребление фактически разрушает исходный смысл выражения. Люди, даже объединенные общей задачей или целями, все-таки не столь однотипны, как перчатки. Хотя в жизни бывает всякое. Но, будьте добры, употребляя слова, задумывайтесь об их смысле. Хоть немного, хоть на минуту.
На двенадцатилетнего Марка рассуждения старой «русички» производили впечатление неизгладимое. Точность выбора слов стала для него чуть ли не манией.
Так что парой, печально констатировал он, – общностью, соединением двух «половинок», двумя «перчатками» на руках бога любви, – нет, парой они с Татьяной, безусловно, не были.
Были – супругами. Су-пругами. Упряжкой.
Отличной, надо сказать, упряжкой.
А потом он придумал Вяземского.
Ну как – придумал? Не совсем. И не совсем он. У Марка никогда и мысли такой не появлялось – взяться за детектив. Но Татьяна, налюбовавшись на внезапную и непрерывно растущую популярность акунинского Фандорина, как-то предложила: ты же историк, почему бы не попробовать, публике – кто бы мог подумать! – интересны «костюмы и интерьеры» столетней давности, а уж нанизанные на детективную интригу – и вовсе. Предложила вскользь, почти в шутку. Марк сперва брезгливо поморщился: мысль следовать по чьим-то стопам показалась, мягко сказать, неаппетитной. Но девятнадцатый век – точнее, стык девятнадцатого и двадцатого – он всегда любил. Это время манило его неудержимо, подмигивало газовыми фонарями, затягивало мрачноватыми ущельями плохо освещенных, не слишком чистых улиц и клоаками ночлежек, грохотало пролетками по булыжным мостовым, благоухало бензином и кожаными подушками первых автомобилей, шелестело шелком дамских турнюров и тренов, забавляло декадентскими кружками и цирковыми афишами.
Едва задумавшись над предложенной идеей, Марк уже не смог остановиться. Сперва увлекла задача – сделать «вопреки Фандорину» (в конце концов, почему бы нет, – сам-то Эраст Петрович явно создавался «вопреки Холмсу»), но вскоре персонаж задышал, поднялся, зажил собственной жизнью. Детали и обстоятельства придумывались точно сами собой.
Его Императорского Величества Тайной канцелярии чиновник для особых поручений Мстислав Алексеевич Вяземский влез в его мысли и расположился там так комфортно и уверенно, словно был всегда. Это согревало и успокаивало. Как возвращение старого друга, только еще сильнее. Придумывая невероятные (но исторически весьма правдоподобные) приключения, Марк словно переодевался в шкуру императорского агента, словно становился им – циничным, но благородным, саркастическим, но сентиментальным, безжалостным и снисходительным. Махровым индивидуалистом, до кончиков ногтей преданным своей стране. Вяземский спасал мир (или хотя бы Россию) в каждом романе. Когда – силой изощренного интеллекта, а когда – и грубым физическим действием. Эдакий «русский агент 007», точнее, гибрид Холмса и «причесанного» в духе времени Джеймса Бонда. Если Его Величество Закон оказывался бессилен против очередного ужасающего злодея, Вяземский не гнушался и прямой ликвидацией, если того требовало благо России. Впрочем, без интеллектуальной мощи не обходилось, и тут Вяземский был мастером «несчастных случаев» и «простых» убийств, за которыми никто и никогда не увидел бы политической подоплеки.
Первые романы Марк писал, что называется, одним духом. Да, приходилось изрядно погружаться в исторические документы, ломать голову над сложной, всегда многослойной интригой – и все-то ему казалось «не слишком ли просто выходит».
Но в этом была… свобода! Вяземский был кем-то другим. И Марк, превращаясь в своего героя, чувствовал себя почти всемогущим. А может быть, и не «почти».
И псевдоним сочинили – в стиле «тех» времен: Аристарх Азотов. Марку, всегда предпочитавшему строгую изысканность классицизма кучерявой пышности барокко, псевдоним казался слишком вычурным, даже выпендрежным, почти вульгарным. Но нельзя было не согласиться: псевдоним звучал вполне в духе соответствующего исторического периода, даже, пожалуй, на тот взгляд мог показаться более чем скромным.
Татьяна придумала название серии – «Исторический детектив». Скромно, сдержанно, ни в коем случае не претенциозно, но – с неким дополнительным (и очень лестным) смыслом. Ведь «исторический» – это не только отсылка к времени действия, это еще и намек на значительность, на избранность, ведь «войти в историю» может только по-настоящему достойная вещь. Историческое здание – это ведь не просто здание старое, это значит, что оно прошло некий «отбор» временем, ведь так?
Марка Татьянина придумка восхищала. Его нередко восхищала точность ее формулировок, он даже удивлялся иногда – почему она сама ничего не пишет? Наверняка у нее здорово бы получилось. Но Татьяну, кажется, куда больше плетения изящных словес привлекали хитросплетения юридические и вообще деловые.
С той случайной – ну разумеется, случайной, ничего другого и быть не может! – встречи на презентации-форуме-конференции прошло почти десять лет. Марк чувствовал, что как-то начал уставать от Вяземского. Не то чтобы он разлюбил своего героя – о нет! Но от непрерывно повторяющегося «покопаться в документах, придумать идею, разработать интригу, запаниковать, что ничего не получается, усадить себя за клавиатуру – и методично, постепенно, по абзацу, по странице – дойти наконец до очередного триумфального финала» – от этой однообразной схемы начинало веять чем-то вроде скуки. Вроде и все хорошо, а словно бы то ли в плечах жмет, то ли от сюртука нафталином попахивает.
Хотелось чего-то… большего? И пусть даже это «большее» будет не столь роскошно оплачиваться. Вяземский и так принес (и продолжал приносить – дополнительные тиражи, переиздания, переводы, экранизации) Марку очень, очень неплохие дивиденды. Можно бы уже и «похоронить» его, попробовать себя в чем-то по-настоящему значимом. Можно-то можно – да нельзя. Если Конан-Дойлю, «убив» надоевшего Холмса, пришлось под общим давлением срочно его «воскрешать», то Марк даже и «убить» Вяземского не мог.
По крайней мере, в обозримом будущем.
После второго романа серии на «Азотова» обратили свое благосклонное, но несколько пугающее внимание «большие» издательства. Намекали на «большому кораблю – большую гавань», сулили золотые горы и океан возможностей. Ясно было, что упирайся не упирайся, а противостоять «флагманам» у крошечной, в сущности, «Иволги» силенок не хватит. Слизнут одним движением, как гигантский варан (Марку именно так это и представлялось) сглатывает случайного комара: чтоб заполучить «перспективного автора», все средства хороши, ничего личного, просто бизнес. Дожидаться, пока предложения перерастут в откровенный шантаж, Татьяна не стала – в чем в чем, а в «просто бизнес» она видела все на восемь шагов вперед. Не пожалев денег на консультации аж с четырьмя независимыми адвокатами и вдобавок перелопатив эвересты юридической литературы самостоятельно, она подготовила для Марка контракт.
Вяземский, Азотов и прочие «связанные» бренды – мыслимые и немыслимые – были аккуратно зарегистрированы. Причем не на «Иволгу», а лично на ее владельцев. Так что «ликвидация по рецептам девяностых» ничего не решала: зарегистрированные бренды в случае смерти правообладателей «выводились из оборота» на ближайшие полсотни лет – в полном соответствии с мировым законодательством по авторскому праву.
Разорвать контракт или просто уничтожить «Иволгу» (разорить, закрыть, поглотить и так далее) было невозможно. И к тому же – немыслимо дорого. Да-да, не «или», а именно «к тому же. Продолжать серию на «позаимствованных» (читай – присвоенных) брендах – себе дороже. Даже если ты один из «флагманов рынка». Ну а штрафы за прерывание серии, в том числе «по независящим от сторон обстоятельствам», предусматривались астрономические (ко всякому, казалось бы, привычные нотариусы аж крякали, взглянув на суммы неустоек).
– А если мне завтра кирпич на голову упадет? Или Альцгеймер обнимет? – забеспокоился Марк, вникнув во все юридические закавыки.
Татьяна сунула ему одно из приложений, где подробнейшим образом были расписаны все «медицинские» (и около того) варианты «освобождения от обязательств». И пояснила:
– Ну, а убить всех, чтоб тебя посадить писать что-то новенькое, – вовсе сомнительный вариант. С непрогнозируемыми перспективами. Неизвестно же, как публика воспримет не-Вяземского. Ты у нас, дорогой мой, к счастью, не Стивен Кинг. – Она улыбнулась. – Не, я не утверждаю, что ты пишешь хуже Кинга. Черт его знает, может, и лучше. Но читатель, судя по всему, любит не столько, ну или не только твой неподражаемый стиль, но в первую очередь – персонажа. Так что, если кому-то вздумается что-то каким-то способом отжать, пусть посчитает потенциальные доходы и неизбежные расходы и уяснит, что овчинка выделки не стоит. Афишировать мы все это особо не станем, но кому надо до сведения доведем. Пусть других гениев ищут, а к нам не лезут. Ибо невыгодно.
И действительно, больше не лезли.
Роялти, впрочем, контракт предполагал немыслимые, каких в издательском бизнесе не бывает, – чуть не пятьдесят процентов «авторских». Причем со всех мыслимых «продаж»: тиражи, переводы, экранизации, использование в рекламе и прочая, и прочая, и прочая.
Марку думалось иногда, что журналисты, восторженно пересчитывающие эти самые проценты, – идиоты. Все поголовно. Почему-то никому из «акул пера» не приходило в голову, что если издательство принадлежит его жене и тестю, то пресловутая фантастическая щедрость – не более чем перекладывание денег из одного кармана семейного пиджака в другой.
Конечно, это была клетка. Но безусловно, золотая и к тому же весьма, весьма просторная.
– Пока ты аккуратно выдаешь очередного Вяземского, все прочее – на твое усмотрение, – безмятежно улыбалась Татьяна. – Возможные интрижки, если что, меня не интересуют. Даже если скандальчик какой нарисуется – ничего страшного. Даже напротив. Романтический скандальчик время от времени – это неплохо. Вполне в духе творческой личности. Так что вдохновляйся где пожелаешь.
Очень щедро.
Но Марк, вот беда, за все эти годы даже налево ни разу не сходил. Ему не хотелось. Может, если бы Татьяне было не все равно, тогда… А так, «с высочайшего соизволения»… неинтересно.
Так что они и на светские мероприятия отправлялись вместе.
Татьяна, хоть и подтрунивала над пристальным интересом мужа к «танцоркам», на балетные премьеры и тому подобные «знаковые» постановки сопровождала Марка весьма охотно. Скука там, по ее мнению, стояла смертная, однако ж покрутиться среди «бомонда», поблистать, почувствовать на себе обжигающе завистливые взгляды (еще бы! талия до сих пор тонка, как у девочки, шея стройна и гладка, кожа нежна и благоуханна) – согласитесь, очень, очень приятно. Ну и пиар, не без этого. Модный писатель на модной премьере – уж конечно, журналисты такого информационного повода не пропустят. Балет – это вам не какая-нибудь рыбалка (даже среди австралийских рифов и акул). Балет – это стильно, изысканно, аристократично. В общем, для утонченно-интеллектуального автора, как позиционировался Аристарх Азотов, точнее, для его имиджа подчеркнуть страсть к столь высокому искусству, как балет, – самое оно.
При том что балет Марк на самом-то деле вовсе не любил.
Вот жить без него не мог – это да. Как алкоголик без бутылки – возникшая вдруг мысль заставила поморщиться от банальности сравнения. А впрочем, мелькнуло контрапунктом, не так уж оно и банально, если продлить логику этого самого сравнения. Жить не мог без – и одновременно ненавидел. Точнее, боялся. Потому что каждый алкоголик – ну кроме вовсе уж пропащих, – даже не признаваясь себе, помнит: в бутылке – его смерть. А смерть – это страшно, хотя и притягательно.
Вот и в сияющей чистой красоте балета было что-то пугающе темное, жуткое. Ну как… скажем, как бездонная тьма омута под прозрачным сверканием узких ледяных граней. Или как темное жерло старой чугунной печки, в недрах которой пляшут языки пламени…
Точно он был все тот же шестилетний мальчик, который, прижавшись к пыльной кулисе, все глядел и глядел, не отрываясь, как в бездонной пустоте сцены металась безумная Жар-Птица.
Мальчик был крошечный. А кулисы, падуги, балки, колосники, штанкеты, рычаги, противовесы и прочие сценические механизмы – большие. Неправдоподобно большие. Гигантский конструктор. Словно бы неведомый великан, наскучив игрой, ссыпал небрежно угловатые детали в пыльную коробку театрального здания.
Во всех углах «коробки» таилась темнота. Самая жуткая обосновалась в темной бездне зрительного зала. Она напоминала огромный жадный рот. Беззубый, но оттого еще более чудовищный. Когда люстры наливались теплым желтым светом, тьма уползала под кресла, пряталась за карнизами, выжидала. Зал заполнялся людьми, люстры гасли, и вязкая тьма вновь заполняла красно-золотое пространство. Теперь она была еще страшнее, потому что теперь она была живая. Она дышала, шевелилась, тянула щупальца – растворить, всосать, поглотить…
Того мальчика давным‑давно уже нет. Есть взрослый, очень успешный Марк Вайнштейн.
Вот только страх никуда не делся. Страх пополам с неодолимой тягой. Словно стоишь на крыше небоскреба, и бесконечный простор вокруг, сливаясь с бездной под ногами, и пугает, и манит – ну шагни, шагни, это же так просто, так сладко, так остро. Что? Камни внизу, ощерившиеся фонарными столбами, пиками чугунных оград, прихотливо изломанными, угловатыми рекламными конструкциями, кажется, только и ждут – впиться в мягкое теплое человеческое тело.
Но, быть может, когда ты шагнешь, твое тело перестанет быть – человеческим? Откуда ты знаешь? Попробуй! Всего один шаг…
Зеркало сцены казалось такой же пугающей – и такой же манящей! – бездной. Правда, сейчас-то он понимал: смертоносная бездна была не там – за линией занавеса, она была внутри. Даже странно – как она там помещалась, ведь голова такая маленькая…
Он был писатель и думал не так, как большинство людей. Вглядывался, раскладывал на детали, крутил так и эдак, опять собирал.
Но, что бы там ни утверждали многочисленные спецы от психологии, умение разобрать эмоцию – хоть тягу, хоть бы даже и страх – ничуть не помогало от этой эмоции избавиться. Впрочем, он, должно быть, на самом деле вовсе не желал от этих «внутренних чудищ» избавляться. Они были свои. Без них он был бы уже не Марк Вайнштейн и уж тем паче – не очень и очень неплохой (да что там, попросту хороший!) писатель Аристарх Азотов. Без «чудищ» он был бы кем-то совсем другим. Может, более спокойным, более умиротворенным, более… поверхностным, черт побери! И жить этому «другому» было бы, наверное, легче и веселее. Но это был бы не он. Нет уж.
Не хотел он превращаться в жизнерадостного пофигиста «без комплексов». Как там говорится? Наши недостатки – продолжение наших достоинств? Ну так и достоинства наши суть продолжение наших недостатков. Только, пожалуй (он привычно придирчиво уточнил формулировку), речь не о достоинствах и недостатках, а о сильных и слабых сторонах. Наши слабости есть продолжение наших сильных качеств, но, значит, и наша сила суть продолжение наших слабостей. Да, вот так, правильно.
Но сейчас все это не имело значения… сейчас он, наверное, не разжал бы побелевших от напряжения пальцев, стискивавших черно-матовые округлые бока старинного бинокля, не отвел бы взгляд от сцены даже под угрозой смерти.
Там была – Она!
Нет, не прима, царившая посреди модернистски изломанных декораций. На приму Марк не смотрел – на что там смотреть? Многажды виденная, безусловно, прекрасная, но… Но. Нет.
Нет. Не прима. Вон та – когда Марк ее заметил, она была второй справа – одна из негустой «подтанцовки». Так некорректно, почти вульгарно он называл всех, кто не на первых ролях, до сих пор так толком и не научившись разбираться в балетной иерархии – кто там первые солисты, кто вторые, кто корифеи, кто кордебалет. Ах да, еще, если заглянуть в программку, есть какой-то миманс и вспомогательный состав (не путать со вторым!). Еще он помнил красивое слово этуаль – звезда – так у французов[6] называются «наши» примы. Но французы там или не французы, а он, хоть и вырос за кулисами и в репетиционно-учебных залах, хоть и не первый год уже был завсегдатаем, опознавал в балете только прим с премьерами – и всех остальных. Ведущих – и «подтанцовку». Удивительно даже.
Марк напряженно сдвинул брови, стараясь не выпустить из ограниченного биноклем поля зрения ту, что была так похожа… Да что там «похожа», это и была, как ему сразу и подумалось, – Она!
Татьяна бросила в сторону мужа быстрый взгляд: чуть вскинулась идеальная бровь, чуть дрогнул в намеке на усмешку уголок безупречных губ.
Оркестр выплеснул в бело-багряно-золотую раковину зрительного зала звонко гремящую волну коды.
* * *
– Татьяна Александровна, вы становитесь все ослепительнее! – Директор Николаевского театра Евгений Геннадьевич Корш, среди своих именуемый просто Ген-Ген, демонстративно зажмурился и даже ладошки к глазам прижал – чтобы, дескать, не ослепнуть от такой красоты.
Все как всегда, усмехнулся Марк, которого шутовские расшаркивания старого приятеля забавляли. Приятельствовали они еще со студенческих времен. Тогда Женька, превратившийся нынче в Ген-Гена, был еще никакой не Корш, а Летяйкин, и все, конечно, звали его Лентяйкиным. Но он не обижался, Женька вообще никогда ни на кого не обижался. Оскорбление, говорил он, как водка: действует, только когда принято… И добавлял, посмеиваясь: только от водки похмелье быстрее проходит. Легкий, контактный, он умел найти общий язык с кем угодно – от гопников из подворотни до профессорши по источниковедению, которую побаивались даже коллеги. А Женька улыбался, дарил незнамо где добытые статейки из европейских журналов, интересовался здоровьем и всячески за «мымрой» ухаживал, против чего она, как ни странно, ничуть не возражала. За сверстницами Лентяйкин, впрочем, тоже ухаживал. За всеми подряд. Да и не подряд тоже: если в компании оказывалось несколько девушек сразу, каждая получала свою порцию комплиментов и прочих галантностей.
Ну и за Татьяной приударял – с тех пор и по сей день. Говорили даже, что, когда Татьяна осталась одна, вроде бы предложение ей делал. Но, скорее всего, врали. Марк у нее как-то спросил – правда, что ли, тебя Лентяйкин замуж звал? Татьяна по своему обыкновению только фыркнула: мол, не смеши, милый, до того ли мне тогда было.
Да, по правде сказать, и самому Ген-Гену было вряд ли «до того». За двадцать лет он успел не только переименоваться в Корша (кажется, это была фамилия его не то двоюродной бабки, не то троюродной тетки) и сделать весьма впечатляющую карьеру, но и сменить трех или четырех жен.
Сейчас он в очередной раз наслаждался прелестями холостяцкой жизни – как обычно, до появления на горизонте очередной «единственной и неповторимой». Хотя сам, тряся толстеньким пальцем, заявлял: нет уж, больше – ни-ни.
– Я уж лучше так, вприглядку. А то вот так покатаешься-покатаешься: я от Машеньки ушел, я от Дашеньки ушел, а после встретится какая-нибудь «бедная Лиза» – лиса, ам – и нету Колобка!
Он и в самом деле походил на Колобка: небольшого росточка, кругленький, сильно лысеющий и словно бы легкомысленный. Лишь неожиданно острый взгляд блестящих темно-карих глазок говорил – тем, кто способен был не только смотреть, но и видеть, – не прост, ох не прост Евгений Геннадьевич, вечно улыбающийся сибарит и любитель приволокнуться за хорошенькими актрисами, журналистками и прочими «творческими девами». Девочки девочками, смешочки смешочками, но легкомысленные «колобки» не делают таких карьер.
Конечно, Николаевский – это вам не Большой или там Мариинка, но все же театр далеко не из последних. Тем более что худруком в Николаевском служил старый зубр Хрусталев, которому на все было плевать. Почивая на давным‑давно засохших лаврах, он много лет сам ничего уже не ставил и только снисходительно отмахивался от «сиюминутного», передоверяя приглашенным постановщикам и отбор солистов, и сценографию, и прочие «элементы высокого искусства». Ну а заглядывать в оркестровую яму он и раньше, в менее почтенных летах, полагал ниже своего достоинства.
Вот и вышло, как вышло. Обычно-то директор – должность сугубо административная: наполняемость зала, ремонты, гастроли, реклама и тому подобные технические вопросы. А вопросы, так сказать творческие, всегда находятся в ведении художественного руководителя. На то он и художественный. Но старый зубр Хрусталев был… как говорил сам Ген-Ген, лучше б его вовсе не было, тогда хоть конкурс на замещение вакантной должности можно было объявить. А так – какой уж там конкурс. Даже на пенсию этого, с позволения сказать, худрука не уйдешь, слишком титулованный.
Вот и тянул Ген-Ген обе лямки. Но, впрочем, не жаловался. Улыбался, ручки целовал, шутки шутил:
– Что, Марк Константиныч, не боишься, что я у тебя жену-раскрасавицу уведу?
– Не тарахти, Жень, а? – Татьяна никогда не звала его ни Ген-Геном, ни Лентяйкиным, только по имени. – Что-то голова у меня сегодня… Давление, что ли, меняется.
– Может, шампанского тебе в ложу подослать? Или коньячку? Сосуды расширить? – Ген-Ген изобразил полнейшую готовность не то что бежать – лететь «за персиками» (как это у них когда-то называлось по рассказу О. Генри) для прекрасной дамы. – Так я мигом распоряжусь, сейчас все будет.
– Нет-нет, не суетись, – слабо улыбнулась Татьяна. – Лучше моего раскрасавца уведи уже на ваш традиционный променад за кулисами. Ты ж за этим зашел?
– Танечка! – Корш картинно прижал руки к груди и зажмурился, мотая лысеющей головой. – Как ты могла подумать? Токмо ради счастья лицезреть твою прелесть небесную…
– Точно-точно, – улыбнулась Татьяна. – Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены. Идите уже… балетоманы.
На «променад» Корш действительно водил Марка каждый раз. Так уж повелось. Премьера там или не премьера, но каждое посещение Николаевского театра включало «визит» за кулисы. Нет, не приме к ручке приложиться, не с премьером парой слов перемолвиться, не затем даже, чтоб в директорском кабинете «преломить по рюмашке». Нет. Просто пройтись за кулисами. Подышать пылью декораций, споткнуться о бутафорскую скамейку, прошествовать с деловитым видом меж разминающейся в коридорах и холлах «подтанцовки»…
Справа распахнулась одна из многочисленных дверей, кто-то сильно врезался Марку в бок.
– А, чтоб тебе! Шляются, как у себя дома! – рыкнул голос, даже в столь разъяренном регистре явно женский. Девичий.
Сначала ему бросились в глаза неправдоподобно разные ноги – одна ступня была, казалось, чуть не в полтора раза длиннее другой. Через секунду он сообразил: пуанты. Одна нога уже обута, второй «лапоть» (это только на сцене, в танце они так сказочно прекрасно выглядят, а вблизи, при стойке на полную ступню… почти гусиные лапы, только узкие) торчит из кулака, как олимпийский факел.
– Евгений Геннадьевич, ну что же это такое? – Девушка помахала (довольно яростно) «лаптем» перед Ген-Геном. Тот только вздохнул:
– Что там? Лезвие или стекло?
– Стекло. – Она сделала длинный, очень длинный, почти бесконечный вдох, точно сдерживая слезы. Кончики тонких пальцев – указательного, среднего и безымянного – были испачканы чем-то красным.
Кровь, сообразил Марк. Возвышенные закулисные нравы. Он шагнул чуть в сторону и наконец увидел ее лицо… То самое, от которого он не мог отвести взгляда полчаса назад.
Ген-Ген опять вздохнул. Терпеливо, устало:
– Как тебя… Ижорская, да? Ну что мне с тобой, Ижорская, делать? Где я тебе сейчас замену найду? Второй состав, небось, уже по домам разбежался – до конца антракта сколько там осталось?
– Нет-нет, я могу! – точно испугавшись, воскликнула девушка. – У меня… я не очень поранилась, только руку, ну, палец… немножко… я проверяла на всякий случай… Ноги в порядке, честное слово! Я могу танцевать!
– В этом? – Ген-Ген ткнул пальцем в проступающее на персиковом атласе балетной туфли пятнышко. – Думаешь, не видно будет?
Девушка замотала головой:
– Нет! То есть, я не думаю… я… у меня запасные есть… конечно, есть! Я быстро переобуюсь! Не надо меня заменять… я просто…
– Ладно, ступай. Ишь ты – просто… Ладно, говорю, иди, иди, я разберусь.
– Видал? – обернулся он к Марку, когда девушка скрылась. – И вот так постоянно. Костюмы друг дружке уродуют, в грим клея наливают, в пуанты стекло сыплют. А уж слабительного в чай закадычной сопернице – это, считай, вообще ничего не произошло. Ах, танцовщицы, ах, небесные создания! Имена себе придумывают – с ума сойти, какая красотища! Вот почему Лопаткина не стала псевдоним поизящнее придумывать? И посмотри на нее! Гордость российского балета, и на фамилию всем наплевать. А то, извольте радоваться, Полина Ижорская! Это вот эта, что пуантами со стеклом у меня перед носом трясла. Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса![7] А впрочем, – он задумчиво хмыкнул, – хорошая девочка. Старательная. Может, что из нее и выйдет. Надо присмотреться. Не зря ж ей стекла в пуанты насыпали – была бы неперспективная, никто бы ничего не делал. Они ж, сильфиды эти нежные, только с конкурентками воюют. Мне-то из своего кабинета не всегда понятно, а внутри-то змеюшника все друг друга до косточек насквозь видят, до миллиграмма – кто чего стоит. Со всеми вытекающими последствиями. Скорпионы – и те дружелюбнее. Хотя, что я тебе говорю, ты и сам знаешь. У тебя ведь еще бабка тут танцевала? Или преподавала, что ли.
В Николаевском когда-то танцевала мама. Тогда он, разумеется, был вовсе не Николаевский. «Театр оперы и балета имени…», так было отчеканено на тяжелой бронзовой табличке возле парадного входа. Странно, удивлялся маленький Марк, ведь «табличка» должна быть маленькая, а тут здоровенная, со стол размером, доска. Фамилию, красовавшуюся на «доске», он теперь уже позабыл, конечно. Ясно, что какой-то «видный государственный деятель Советского Союза». Еще более ясно, что никакого отношения к балету увековеченная в бронзе фамилия не имела: будь там, к примеру, Горский или хотя бы Лопухов, никто бы и не подумал менять именование. Но совпартфункционеры почему-то очень уважали балет. Может, это помогало им чувствовать себя «благородными»?
Маме прочили большое будущее, но танцевала она недолго. Лет восемь, кажется. Пока перед очередной премьерой… пока не случилось то, что случилось. А бабушка – бабушка да, она тут была всю жизнь: сперва на сцене, потом в репетиционных залах. Ан, де, труа, гран батман выше, я говорю «плие», а не бабу мне тут на чайник, легче, легче, спину держать, хвост собери, что за павлин, ну-ка подобраться, и колени, колени убрать, совсем убрать, сказала, вот так, а верхнюю ногу длиннее, длиннее, в бесконечность, вот умничка, ну же, еще раз, ан, де, труа… Марк много еще помнил такого вот – смешного, вроде «запасных» и «лишних» ног, грубого, даже страшноватого, вроде «оторви ногу от бедра». Разного. Зачем память все это хранит?
– Марк Кстинч!
Он вздрогнул.
– Марк Кстинч. – Вынырнувшая откуда-то сбоку журналисточка подсунула микрофон чуть не к самому носу, привычно комкая отчество.
Почему-то простое, в сущности, отчество Константинович на журналистских языках застревало, запутывалось непроизносимыми узлами и в итоге урезалось до невнятного «Кстинч». Марк иногда думал, что это похоже на сербскую фамилию, а что, пусть в следующем романе о Вяземском будет некто Кстинч, сербский шпион или, наоборот, пламенный революционер. Или не серб, а, к примеру, черногорец – впрочем, разницы между разнообразными балканцами он до сих пор толком не понимал: язык практически один и тот же, а национальности разные, парадокс.
– Марк Кстинч, – с тем же придыханием повторила девица с микрофоном. – Мира Мирская, еженедельник «Центр культуры». Умоляю, буквально два слова для нашего еженедельника. – Марк хмыкнул: название журнала девица произнесла вполне внятно, да еще и дважды повторила, видимо, чтоб в памяти присутствующих получше отложилось. Хотя названьице, честно говоря, так себе, пошловатенькое и с претензиями до небес. – Вы на премьере – это так… так… – Девица тараторила и словно бы задыхалась от собственной скорости, задыхалась и тараторила, тараторила и задыхалась.
И, собственно, что уж такого необыкновенного в его появлении на премьере, думал Марк, он вроде бы театр посещает вполне регулярно, а премьер и вовсе старается не пропускать. Странная девица. Впрочем, все эти борзописцы «от искусства» странные. Те, что вокруг политиков крутятся, как-то поприличнее бывают, иногда даже с мозгами. Чего бы ей быстренько сказать, чтоб отвязалась?
– Как вам премьера? – Девица наконец выдала хоть что-то похожее на вопрос.
Ну спасибо, родная. Долго думала? Вопрос-то – из чемпионата на самую бессмысленную фразу. Как вам, извольте радоваться, премьера? Ах, ох, восхитительно (а что, кто-нибудь скажет «ужасно»?), блестяще, великолепно, изумительно – мозг автоматически начал выдавать ряд подходящих синонимов. Вот еще чудесное есть словечко – «шедеврально». И все, счастливые, расходятся. И зачем спрашивала? Впрочем, он выдал пару-тройку дежурных фраз про «шедеврально» и «новое прочтение классики».
Девица, однако, не унималась:
– Марк Кстинч, скажите… Вам никогда не хотелось написать роман о балете? Вот именно вам. Настоящий большой роман. Нет, я не хочу сказать, что… – Она немного смешалась, догадавшись, что ляпнула почти грубость, словно намекала, что детективы на «настоящий роман» не тянут, но вдохнула поглубже и опять затараторила: – Мы все очень, очень все любим Вяземского, это романы, поднимающие жанр детектива до высот настоящей литературы. Но ведь все знают, какой вы поклонник балета, а тут такие драмы, такие коллизии закулисные, столкновения характеров, страсти, даже трагедии. Может быть, есть надежда, что вы – большой писатель и знаток этого искусства – создадите новый шедевр, ну, что-нибудь вроде… «Мир на острие пуантов»?
Марк вздрогнул – теперь уже не столько от неожиданного появления репортерши, сколько от неожиданного «попадания».
Роман – его «балетный роман» – должен был называться «Баланс».
Она вздергивала хрупкий подбородок, разворачивала плечи и начинала кружиться. Как будто летела. Мама говорила – нельзя так, голова закружится. Ха! Глупости! Алинка могла кружиться бесконечно. Кружиться, выгибать спину в «ласточке», двигать, пристально глядя в зеркало, руками – так, чтобы от плеча до кончиков пальцев проходила волна. Как делала маленькая белая фигурка на экране старенького телевизора. Это называлось – балет. Иногда фигурок было много, и тогда они сливались в одну массу – не разглядеть! Алина терпеливо дожидалась очередного соло – и вглядывалась, запоминала, пыталась тут же повторить. Фигурка в телевизоре поднималась на самые кончики пальцев – и кружилась, и прыгала, и летала над сценой. Алина же не то что летать или кружиться – подняться на эти самые «кончики» не могла. Разве что встать на цыпочки – но это было совсем не то.
– Мало тут, видно, таланта, – пел репродуктор мягким, точно бархатным голосом, вокруг которого, дробно звеня, рассыпались хрустальные гитарные переборы.
Мало тут, видно, таланта –
Нужно, мол, ей еще пуанты.
Чтобы на носочки встать,
Книгу с верхней полки достать.
В этой книге тысячи лиц –
Весь театр, вся жизнь «закулис»,
Ни строки про счастье там нет –
Только про балет, про балет![8]
Что такое «пуанты», Алина не знала. В словаре было написано, что это балетные тапочки. Но разве в тапочках можно встать на пальцы? И если они тапочки, почему они – пуанты? Словарь объяснял, что название произошло от французского слова «острие», и от этого все становилось еще непонятнее.
В словаре были и другие «балетные» слова: пируэт, арабеск, антраша, фуэте. Алина повторяла их, как волшебное заклинание.
Вообще-то она была Ангелина, мама, грустно улыбаясь, называла ее «мой ангел». Но все остальные звали Алиной. Ей самой, по правде сказать, было все равно: Алина так Алина, Ангелина так Ангелина. Не Фрося, и ладно.
Отца она не помнила. Как будто его и не было никогда.
Но он, разумеется, был – когда-то и где-то. Нет, не потому что в появлении ребенка участвуют двое, в детскую голову такие мысли не приходят. В детстве легко верить и в аиста, и в «ветром надуло», и в «само получилось». Но невозможно, невозможно поверить, чтоб ее мама – невзрачная, блеклая, не толстая, но какая-то вся бесформенная, как мешок с картошкой, с ее маленькими, глубоко посаженными, невнятного серо-коричневого цвета глазками, вокруг которых как попало лепились неопределенные, точно смазанные, черты лица, – и чтоб у нее «само получилось» что-то вроде Алины? Да быть такого не может! Наверное, ее подбросили. Или перепутали. Или украли. А что? И очень запросто, вон и в книжках, и в кино так всегда бывает: поменяли младенцев, и принцесса оказывается в избушке бедного пастуха или водовоза, а потом вырастает, и все видят, что она – настоящая принцесса.
Алинка додумалась до этого рано, лет, должно быть, в шесть, а то и в пять, вглядываясь в туманную глубину темноватого от старости трюмо, из которой, как в сказке про волшебное зеркало, выступали чеканно очерченные, чуть поднятые к вискам брови над темно-голубыми, с просверком «ледяных» искорок глазами. Не глазами – глазищами. «Чо зенки вылупила?» – шипел соседский Витька. На Витьку Алине было наплевать.
Она плотно закрывала дверь и опять начинала кружиться…
Комната была довольно большая, но какой-то дикой формы: длинная, как коридор. Выглядело это ужасно. Зато удобно. Можно кружиться, можно даже прыгнуть – раз, два, три, точно над сценой взлететь.
Балетный класс, куда после бесконечных уговоров отвела ее мама (сомневаясь, охая, страшно удивляясь, что приняли – вот чудеса-то!), показался Алине огромным. Тут поместилось бы, наверное, десять таких комнат, как та, в которой они жили. Одна стена класса была зеркальная, вдоль нее тянулась длинная палка. Это называлось «станок». Ан, де, труа, первая позиция, вторая позиция, малый батман, гран батман, батман девелопэ, плие, теперь отошли, повторяем на полу, тянуть, тянуть ногу…
Это было – счастье!
Подумаешь – больно! Мышцы ныли, не давая заснуть, но что с того? Они ныли – и с каждым днем наливались силой, ноги, поначалу точно чугунные, теперь взметывались вверх, словно без усилий, словно их тянули протянутые сверху невидимые струны, тело становилось как будто легче, оно точно само тянулось в полет, в полет, в полет!
Алина занималась упрямо и бестрепетно. В репетиционном зале – пока не выгонит гремящая ведром уборщица – и дома, в длинной, похожей на коридор комнате. Тут не было ни станка, ни тем более зеркала во всю стену. Но разве это так уж необходимо? Роль станка успешно исполнял тяжелый дубовый комод – прабабушкин. А трюмо – тоже прабабушкино – хоть и не простиралось на всю стену, вполне исправно отражало все экзерсисы. Ан, де, труа, батман, гран батман, плие, батман девелопэ…
Другие девочки, отрабатывая фуэте, рисовали мелом на полу репетиционного зала круг – чтобы «не потерять точку вращения»[9]. Алине хватало комнаты: посередине места было ровно на вращение, чуть сдвинешься или пошатнешься – привет, угол!
Иногда, не рассчитав, она все же цеплялась за стол, диван или тот же самый комод – и рушилась на жесткий щербатый пол. Как подбитая птица. Локоть, колено или бедро простреливало болью. Но она поднималась, закусывала губу, вскидывала подбородок – ну-ка, улыбку, улыбку, – что за кислая физиономия, – подсказывало жестокое зеркало, и, вдохнув, повторяла упрямое па. Разминка, экзерсисы, прыжки, баланс, опять экзерсисы… Ан, де, труа… Истово, как кто-то, должно быть, молится…
– Как вы думаете? О балете ведь может потрясающий роман получиться, ведь правда? – повторила настырная журналистка.
Может, и не вовсе она безмозглая, идейки изобретает, слово «коллизии» выучила. Правда, название «Мир на острие пуантов» мало того, что безобразно, еще и бессмысленно – «пуант» и означает острие. Тем более что их два, и значит, должно быть «на остриях». Тьфу. Нет уж, ну ее, эту девицу, с ее идеями, микрофоном в центре культуры и… ах да, коллизиями.
Марк буркнул что-то невпопад – про то, что балет нам подарили небеса, что ему все нравится, что постановка прекрасная, музыка волшебная, декорации сказочные – ну, всякие бессодержательные комплименты, которые привыкаешь говорить на автопилоте, не вдумываясь, практически, как пошучивал тот же Ген-Ген, не приходя в сознание.
Вопрос о «балетном романе» он оставил без ответа.
Не только из‑за «острия пуантов». Из‑за самого вопроса. Неприятный был вопрос, что и говорить. Потому что все, что так удачно начиналось, все у него сейчас вдруг застопорилось. Марк писал свой «балетный роман» уже не один месяц, а придумывать начал и вовсе сто лет назад. Ну, сто не сто, а года два точно, когда Вяземский превратился в интересную, но текучку. Серия, она и есть серия. «Баланс» же должен был стать настоящей Книгой. Быть может, главной книгой в его писательской жизни – Марк чувствовал это так же явственно, как знал, что у него две руки и две ноги, а голова, наоборот, одна. Но сейчас в этой самой голове происходило что-то не то. Точнее сказать, вообще ничего не происходило. Как будто он не писатель, а привязанная к колышку коза: ходит-ходит, а все на одном месте. Вот и роман не двигался. Хоть плачь.
Он придумал анонимного поклонника, присылавшего Ей белые лилии – почти как в «Призраке Оперы». Марк не знал еще – кто этот Он, где живет, как выглядит. Может быть, и никак. Может быть, аллитерация с «Призраком Оперы» должна быть центром? нитью, связующей времена и выплетающей вечный сюжет? Может, Он – с белыми лилиями – тоже таится в лабиринтах театральных подвалов, и ждет, и крадется темными переходами, чтобы взглянуть на Ее танец, и подстерегает, и оберегает… Ведь Она такая сильная – и такая хрупкая! Столько опасностей вокруг, только миг – и нежный, летящий над сценой цветок будет безжалостно и безнадежно изломан… Кто-то должен Ее защитить. Защищать!
Марк придумывал события, детали, эмоции… Но дальше белых лилий (вот они были действительно живые!) не шло. Все остальное – диалоги, описания, сюжетные повороты – все было каким-то картонным. Пыльным и дряблым, как старая декорация.
Наверное, потому что он так и не сумел толком Ее разглядеть. Ее, Алину-Ангелину.
Он видел, как клубящиеся небесной синевой глаза темнели от непролитых слез – когда перетруженные связки отзывались на каждое движение пронзительной болью, но – арабеск должен быть воздушно невесом, но – прыжок должен быть стремительным и летящим. Или когда подруги (подруги – в балете не бывает никаких подруг!) шипели за спиной обидное. Или когда Директор (кругленький, лысоватый, похожий на Ген-Гена, впрочем, с него Марк и писал) оставлял Ее не то что во втором – в третьем составе.
Слезы, разумеется, не проливались никогда. Его Алина была сильна, как бывают сильны только ангелы или святые. Она всходила на алтарь искусства и знала, знала, знала, что это – алтарь. Но что с того? Боль, сжигающая тело, не имеет значения. Значение имеет только полет. Никакая цена за него не может быть слишком высокой. Искусство само знает, сколько взять с каждого. Снова и снова она бестрепетно шла в этот огонь – и улыбалась. И вновь репетировала – до изнеможения, до обмороков, до кровавых мозолей.
Марк явственно видел каждую ссадину на узких ступнях, он изучил каждую их косточку так, что мог бы, наверное, нарисовать – если бы умел рисовать.
Но лицо – лицо ускользало.
И вот теперь Марк наконец его увидел: нежный очерк еще по-детски пухлых губ, хрупкий подбородок, брови «чайкой» над чуть косо поставленными глазами – длинными, глубокими, как горные озера, где поверх воды тянется голубоватый туман, в глубине которого просверкивают острые льдистые искры.
* * *
Ноябрь с первых дней решил напомнить, что в российских широтах он – месяц зимний: сыпал острой ледяной крупой на мерзлые земляные комья, щетинящиеся космами мертвой коричневой травы с проседью инея, раскатывал на бледном асфальте темные дорожки застывших луж, крутил, как плетью, жестким сухим ветром, прохватывая его ударами до самых костей…
В это время Марку особенно сильно казалось, что «сквер» и «скверный» – слова однокоренные. Он знал, разумеется, что общего между ними не больше, чем между «пирогом» и «пирогой», но некоторые скверы буквально вопияли, что совпадение не случайное. Особенно один.
Летом тут было еще ничего. Небо, как и полагается, синело вполне оптимистически, чахлые тополя хоть и заносили окрестность белесой пуховой дымкой, но их жестяная полудохлая листва все-таки хранила воспоминание о зеленом, а среди пересохшего пырея и мятлика там и сям радостно пробивались солнечно желтые улыбки неистребимых одуванчиков. Кажется, именно мятлик называют «петух-курица», зачем-то старательно вспоминал Марк.
Сейчас, однако, никаких «петух-куриц», разумеется, не было видно. Ноябрь стер все цвета, превратив пейзаж в черно-белую фотографию: старую, бледную, исцарапанную почти до неразличимости. Да и сам райончик был какой-то невнятный: еще не окраинная промзона с проплешинами пустырей и редкими оазисами чудом сохранившихся частных подворий, но уже и не сияющий разноцветьем вывесок центр. Череда монотонных панельных пятиэтажек (взрослые, вспомнилось ему, называли их странным шипящим словом «хрущовки») упиралась в серый бетонный тыл какого-то торгового комплекса – бывшего советского универсама – и именовалась почему-то проездом какой-то там пятилетки. Почему – проезд, если тупик, вот уже больше тридцати лет недоумевал Марк. С одной стороны «проезда» разлегся пустырь, где маленький Марк когда-то играл с соседскими пацанами в «войнушку», дальше поднимались такие же хрущовки и несколько точечных высоток. Почти напротив пустыря от «проезда» ответвлялся кривой переулок, вдоль которого торчали дряхлые, похоже, послевоенные двухэтажки, редко поставленные и почти черные – как гнилые зубы.
В и без того редком ряду «зубов» зияла дыра – скверик, возле которого, поеживаясь от налетающего сразу со всех сторон ветра, Марк остановился. Неровный квадрат с чахлыми деревцами и разросшимся с одного боку кустарником, что делало «квадрат» совсем уж перекошенным, выглядел так же скудно и убого, как и его окружение. Так же скудно и убого, как домишко, когда-то стоявший на этом месте.
Потом – уже давным‑давно, больше тридцати лет назад – на месте домишки образовался горелый пустырь. Небольшой, но страшный: черный, скалящийся мертвыми обожженными обломками. Впрочем, это Марк придумал. Бабушка, забравшая его к себе, его сюда не пускала. Да он и не рвался. Вспоминать… вспоминать не хотелось.
Впервые – впервые после – Марк забрел сюда уже лет, кажется, в пятнадцать. И даже не сразу узнал место. Вообще все стало каким-то другим: дома были ниже, переулок – уже. Черная проплешина, которой Марк не видел, но придумал так явственно, что как будто своими глазами смотрел, заросла бурьяном и какими-то кустами.
Потом здесь собрались строить не то кинотеатр, не то баню, и вокруг поднялся забор – хлипкий, щелястый, шаткий. Линялый щит на хлябающих воротах сообщал, что строительство ведет какое-то там СУ. Кажется, это означало «строительное управление». За забором, однако, царила мертвая неподвижность. Ну, если не считать шныряющих по бурьяну собак и галдящих на кустах воробьев.
Потом настала перестройка, и про баню-кинотеатр забыли. Забор развалился, доски растащили частью местные жители для каких-то неведомых хозяйственных нужд, частью мальчишки на костры, частью появившиеся неизвестно откуда бомжи.
А потом вдруг кому-то приспичило провести «благоустройство». Бурьян ликвидировали, к проросшим там и сям тополям добавили кусты боярышника и шиповника, заасфальтировали три с половиной причудливо изогнутые дорожки – получился скверик.
Очень скверный скверик, привычно подумал Марк.
Чего он вообще опять сюда приперся?
Похоже, настырная журналистка произвела на него более глубокое впечатление, чем показалось в тот момент.
Марк смотрел, как скудный фонарный свет, просачиваясь сквозь путаницу мерзлых сучьев, рисует на побелевшей от первых морозов дорожке кружевную сетку теней: каждый порыв ветра смещал ее, двигал, шевелил, так что мертвый асфальт казался диковинным живым ковриком – пожалуй, ничего живого тут больше не было. Смотрел на пляску теней, а видел пляску огненных лоскутьев – рыжих, алых, ослепительно золотых.
Снег тогда был совсем не похож на снег, он тоже стал рыжим, багровым, желтым – только бледнее, чем пламя. Выше висело холодное черное небо. Такое холодное, что взметывающиеся в вышину стаи искр не могли его согреть, застывали, становились из золотых голубовато-ледяными, такими же, как рассыпанные по черноте острые зимние звезды. Может быть, звезды так и получаются – из замерзших искр?..
Домишко был двухэтажный, дряхлый, на четыре квартиры: две на одном этаже, две на другом.
Бабушка уговаривала маму переехать к себе: что, говорила, места не хватает разве, квартира вон какая просторная, сколько можно в бараке ютиться. По сравнению с бабушкиной квартирой их дом и впрямь мог показаться бараком. Но мама переезжать почему-то отказывалась. Марк не понимал, почему. Бабушка хотела забрать к себе хотя бы его, но тогда он и сам начинал отказываться – как же он будет без мамы? Без его прекрасной, волшебной, самой красивой и самой непонятной в мире мамы? В конце концов, не так уж все плохо было в их «бараке». Даже и совсем не плохо.
Местная легенда гласила, что дома эти строили пленные немцы. Марк не знал, правда это или нет, но дома и впрямь были немного странные. Под слоем штукатурки, если расковырять, обнаруживались не кирпичи или бревна, а косые деревянные планочки, образующие решетку. В ее ячейках проглядывали щепки, обломки цемента, какие-то непонятные, похожие на вату из старого пальто клочья – как будто в стены набили всякого мусора. В квартире напротив, где жила толстая Люба с сестрой и вредной дочерью-восьмиклассницей, одна из стен треснула, посыпалась, и было видно, что все так и устроено: две деревянные решетки, а между ними – какая-то дребедень. Дыру сперва пытались заделать, потом толстая тетя Люба ходила куда-то «хлопотать», и вскоре дырявая квартира опустела – соседей переселили куда-то, где, как думал маленький Марк, в стенах не было дырок. Ведь нельзя же, в самом деле, жить в комнате с половиной стены? Летом-то, пожалуй, даже интересно: воробьи и синицы могли бы залетать прямо в комнату. А зимой? Сразу снегу наметет, на полу будет сугроб. С одной стороны, это тоже весело – можно лепить снеговика прямо в комнате. Но зато пришлось бы все время ходить в пальто, варежках и валенках – и спать в них, и обедать. А если книжку почитать захочется? Как в варежках страницы перелистывать? Нет, неудобно жить в квартире с дыркой.
В квартире под ними все стены были целые, но кто там жил, Марк не знал, потому что никого там никогда не было. Наверное, у этих жильцов тоже есть какая-нибудь бабушка, и они переехали к ней, думал он тогда.
А Марк с мамой почему-то так и не переехали. Остались в «мусорном» доме. Они да вечно нетрезвый сосед дядя Ваня с первого этажа.
Бабушка, конечно, преувеличивала. Дом, хоть и построенный из мусора, был гораздо лучше барака. Где вы видели барак с центральным отоплением, газовой колонкой и всякими другими нужными удобствами? Правда, ванна почему-то стояла в кухне, но маленькому Марку, который отдельную ванную комнату видел только у бабушки, казалось, что так и надо. Не зря же кухня такая огромная.
Комнат в их квартире было две. Одна крошечная, немногим больше туалета – бабушка называла ее «детская» и сердито качала головой – считалось, что тут живет Марк. Но он все время норовил проскользнуть в соседнюю комнату – огромную, еще больше кухни, и почти пустую. В углу у окна стоял гардероб, дальше протянулся вдоль стены узенький диванчик, который смешно назывался «канапе». Комод, на котором громоздился радиоприемник с проигрывателем, стоял почти возле двери, у другой стены, посередине которой царило громадное тяжелое трюмо.
Мама сидела перед ним часами. Это называлось «готовиться к роли». Вглядывалась в стеклянную глубину, хмурилась, улыбалась, поднимала подбородок, поводила плечами. Как будто разговаривала с той, что смотрела из зеркальных глубин. Марк немного боялся: вдруг мама и та, из зеркала, поменяются местами? На вид они одинаковые, а не на вид? Страшновато. Потом мама вдруг вспархивала с круглого «рояльного» табурета – и кружилась, и летала по комнате, и замирала посередине – только ноги двигались мелко-мелко и руки летали, летали, летали…
Марк следил за ней как завороженный.
– Не смей подглядывать! – шипела она, яростно сверкая глазами. – Вон из комнаты, и чтоб духу твоего здесь не было, когда я репетирую!
Но он все равно потом опять прокрадывался в комнату, прятался в уголке – и смотрел. Невозможно было не смотреть.
Ну как же можно было уехать к бабушке?! А вдруг мама, посидев возле зеркала, вспорхнет, закружится – и улетит туда, в стеклянную бесконечность? Или еще страшнее: она будет сидеть, вглядываясь в двойника, и будет становиться все бледнее, все прозрачнее – пока не останется только та, в зеркале. И пустой черный табурет перед тяжелым трюмо… Даже подумать жутко.
Зеркала Марк недолюбливал до сих пор.
Маму – там, в забытом уже детстве – обожал.
Не в смысле очень любил, это, конечно, да, а буквально – обожал. Считал богиней.
Когда мама возила его к бабушке (это называлось «нанести родственный визит»), он, сидя на черном кожаном диване с высоченной спинкой, к верхушке которой была приделана как бы полочка со всякими красивыми штучками, листал толстую блестящую книгу, на которой золотом было вытиснено «Легенды и мифы Древней Греции». И Марк с первого раза понял: мама – это Артемида-охотница. Прекрасная, стремительная и безжалостно суровая. Актеон, которого растерзали собственные собаки, сам был виноват – он же знал, что подглядывать за богиней нельзя, и подглядывал. Конечно, Артемида рассердилась и наказала его.
Мама была такая же. Но, конечно, она не могла бы превратить Марка в оленя, мало ли что там в книжке написано, мифы – это ведь сказки? Да и собак у них никаких не было. Поэтому он все-таки подглядывал. Забивался в угол за комодом, где возле двери, под вешалкой, оставалось свободное пространство. Взрослому человеку туда, пожалуй, было бы не втиснуться. Но Марк был маленький, и места ему хватало.
Если, забившись за комод, задрать голову, можно было увидеть стоящую на краю шкатулочку. Крошечную, меньше спичечного коробка, и круглую. Точнее, самой шкатулочки снизу было не видно, но на ее крышке стояла маленькая стеклянная балерина, похожая на маму. Только мама была, конечно, гораздо красивее. И танцевала так, как эта стеклянная фигурка никогда бы не смогла. Все, что умела маленькая танцовщица, – это кружиться. Надо было нажать маленький завиток, внутри шкатулочки начинали как будто переливаться колокольчики, а балерина кружилась.
Трогать шкатулочку тоже запрещалось. Ну и ладно, вздыхал Марк. Все равно мама даже кружилась лучше, чем ее стеклянная копия.
В театр они ездили почти каждый день. Изредка вечером, но обычно – с утра. Потому что репетиции бывают чаще спектаклей. Так говорили и мама, и бабушка. Театра Марк побаивался – очень уж там все было большое. Но зато там никто не запрещал смотреть, как мама кружится и летает. И он, пристроившись за роялем в уголочке репетиционного зала, где вместо одной стены было зеркало, или прижавшись к жесткой кулисе, смотрел. И никто, никто его не прогонял!
Всем было не до него. Особенно когда готовились к премьере. Марк знал: премьера – это значит, что спектакля не было, не было, а потом его придумали, отрепетировали, и он раз – и есть.
Последняя премьера, к которой мама готовилась, была «Коппелия». Марк запомнил: мама часто повторяла это слово. Оно было похоже на «капель». Но это, наверное, ничего не значило, потому что капель – это вода, правильно? А у них теперь все время горел огонь.
Ну не все время, конечно.
Но, когда они возвращались из театра, где незнакомый дядька говорил всякие непонятные слова и указывал, где стоять и куда прыгать (как будто мама сама не знала!), на комоде, на подоконнике, на столике, из которого «вырастало» зеркало трюмо, зажигались свечи – много. И мама сидела перед зеркалом, а вокруг шевелились легкие золотые лепестки. И в зеркале тоже были огоньки – еще больше, чем в комнате. Мама в этом сиянии становилась смуглой, точно загорелой. И ее зеркальный двойник – тоже.
Потом из верхнего ящика комода появлялись шарфы – оранжевые, желтые, алые – легкие, как лепестки свечного пламени, совсем прозрачные. Один или два шарфа мама набрасывала на себя, как платье или плащ, другие начинали вдруг виться и летать вокруг нее. Она даже распускала вечный «балетный» пучок, и каштановые волосы тоже вились, кружились, просверкивали золотыми искрами. И язычки над свечами колебались и дрожали, повторяя мамины движения. Точно они были кордебалетом вокруг порхающей посреди них примы. А если смотреть сквозь полусомкнутые ресницы, лепестки пламени разрастались, сливались – и казалось, что мама танцует внутри гигантского костра. Или камина. Как саламандра. Это было очень красиво. В жизни так не бывает. Только в сказке.
Мама репетировала эту премьеру так увлеченно, что даже как будто забывала про Марка. Не запрещала смотреть, не гнала из комнаты. Глаза, даже обратившись в его сторону, словно бы не замечали столь ненавистного ей «постороннего свидетеля», не видели ничего, кроме плещущегося в них пламени.
Забившись за комод, Марк глядел на разворачивающееся перед ним волшебство так пристально, что уставали глаза. Он прикрывал их – там, в красноватой полутьме, на изнанке век продолжали мерцать и клубиться все те же алые блики. Убаюканный их неуловимой и непостижимой пляской, он погружался в зыбкую дремоту, потом открывал глаза – и видел тот же танец въяве, – и веки опять потихоньку смыкались.
Так бывало почти каждый вечер.
Кроме одного.
Последнего.
До премьеры оставалось всего несколько дней…
Марк помнил, что проснулся – или показалось, что проснулся – оттого, что кто-то его душил. Как будто в рот и нос запихали колючее шерстяное одеяло. Злое, царапучее, так что вместо вдоха получался только кашель. Наверное, ему все-таки показалось, что он проснулся. Потому что глаза не открывались, как будто их тоже замотали тем же кусачим одеялом. И когда их все-таки удалось разлепить, он ничего не увидел.
Комнаты не было. Вместо нее вокруг колыхался душный серый войлок, в котором метались рыжие и алые сполохи, очень похожие на язычки свечей, только гораздо больше. Не язычки, а целые язычищи. Марку стало страшно, что язычищи, которые вдобавок еще и трещали и даже свистели, сейчас его слизнут, он попытался сжаться в самый-самый маленький комочек, чтоб стать совсем незаметным… и обо что-то стукнулся локтем. «Что-то» оказалось боковой стенкой комода. Стенка была темная, тяжелая, привычная, даже царапины были все те же. Хотя разглядеть их было трудно, глаза щипало невыносимо. Стенка уходила вверх, и там, где она заканчивалась, начинался душный серый войлок. И еще там стояла стеклянная балерина. Почему-то она светилась и сверкала, как золотая.
Марк приподнялся, закашлялся, схватил теплую сверкающую фигурку, стиснул в кулачке, прижал к груди… почему-то вокруг стало темнее, оранжевые сполохи казались теперь темно-багровыми, а серый войлок и вовсе сделался почти черным. «Одеяло» закрыло теперь и уши. Это было неприятно, зато не стало слышно, как в серой мгле и сполохах что-то трещит.
Он дотянулся до двери, подцепил ногтями толстый занозистый край, потянул… еще раз… дернул – стало совсем темно… почти совсем… Дверь приоткрылась. Цепляясь за стену, за косяк, еще за что-то, Марк вывалился в коридор. Точнее, за дверь, потому что и коридора тоже не было – так же как за спиной не осталось комнаты. Вместо коридора висел такой же серый, почти черный войлок, и такое же кусачее одеяло лезло в рот и в нос, закладывало уши, царапало глаза.
Привалившись лопатками к стене, Марк сполз на пол. Стало чуть-чуть полегче. Как будто можно было уже не пытаться вдохнуть через колючее одеяло, и глаза щипало вроде бы меньше – если не стараться что-то разглядеть. Зачем стараться? Все равно же ничего не видно. В голове что-то тонко, тихо зазвенело, это было гораздо лучше, чем треск и шипение. И совсем не страшно. Почти совсем. Сейчас он немножечко отдохнет и попробует вылезти из этого серого и кусачего. Вот посидит и попробует. Совсем немножечко посидит…
Из войлочных клубов вдруг вылезло что-то большое, бесформенное – вроде чудища в «Аленьком цветочке». Только в сказке чудище потом превратилось в принца, но в жизни ведь так не бывает. По крайней мере так всегда говорила мама: никаких принцев, одни сплошные чудища, зазеваешься, утащат и сожрут со всеми косточками. Марк прижался к стене – может, не заметит, не утащит, не съест?
Но совсем не дышать еще не получалось, а колючее «одеяло» забилось уже в самое горло, и никак, никак невозможно было не кашлять. Ну что тут делать?!
Чудище зарычало, протянуло к Марку лапы – здоровенные, как у хоккейного вратаря (он видел по телевизору) – заухало, подхватило его на руки…
Да, наверное, ему все-таки только показалось, что он проснулся. Наверное, и войлок, и чудище с лапами ему просто приснились.
Ведь только во сне может быть, что ты зимой на улице без пальто, без шапки, без валенок. Но тебе совсем не холодно, потому что вместо пальто и шапки ты замотан в одеяло, и это гораздо лучше, гораздо теплее, чем пальто. Конечно, это был сон. Наверняка. Наяву никто не сидит на снегу, завернувшись в одеяло.
Этот новый сон был гораздо лучше, чем предыдущий, про серый клубящийся войлок и оранжевые трескучие сполохи. И одеяло было совсем не колючее, оно не царапалось, не лезло в нос и в горло, в нем было мягко, тепло и спокойно. В горле еще першило, но кашель как будто утих. В ушах все еще немного звенело, и перед глазами плавали кривые желтые круги и полосы – как обрывки ниток.
В большую белую машину засовывали длинные носилки, накрытые белым, из-под которого высовывалось что-то черное. Вокруг носилок суетились какие-то люди в синем и в зеленом.
– Да где там! – сказал кто-то рядом. – Ладно, хоть малец в коридор выползти успел. Дыму наглотался, конечно, но вроде в порядке.
– И куда его теперь?
– Да у него бабка! – завопил еще один голос, вроде бы знакомый. Марк скосил глаза и увидел соседа дядю Ваню, на которого тоже было напялено что-то вроде одеяла. – Знаете, какая! Я скажу, я… у ней телефон есть! У меня записан… – Дядя Ваня вдруг замолчал. – Там… в коридоре… на стенке записан… Но вы ж найдете? Такая бабка, что ух!
Нос и лоб пощипывало морозом, а спине было тепло. Надо же, какое мощное одеяло, подумал маленький Марк и завозился, поворачиваясь, чтоб посмотреть, что там, за спиной…
В черное небо поднимался гигантский огненный цветок: алый, оранжевый, золотой. Очень красивый. Марк вдруг вспомнил про стеклянную балерину, шевельнул пальцами – фигурка была на месте, в прижатом к груди кулачке. Он вытащил ее на минуточку, взглянул – теперь балерина уже не светилась золотом, стала такая же, как была всегда. Марк вздохнул и снова стал смотреть на взметывающийся к небесам цветок.
Куда потом подевалась та музыкальная шкатулочка? Должно быть, прячется в одном из уголков бабушкиной квартиры – в секретере, в гардеробе, в книжном шкафу или на антресолях. Марк даже не пытался ее отыскать. Почему-то она потеряла свою прежнюю притягательность, перестала быть волшебной, забылась.
Как и мама.
Марк до сих пор не понимал, как так вышло, что он, маленьким так страстно маму любивший, потом почти ее не вспоминал. Почему-то вспоминать было тяжело и неприятно, как будто опять кто-то начинал его душить. И глаза щипало нестерпимо, и кашель начинался невыносимый и неудержимый. Лучше было не вспоминать. Как будто мама осталась там, в серых войлочных клубах, в огненном цветке, пылающем на месте их дома. Осталась – и все. А теперь – другая жизнь. Не хуже, не лучше, просто другая.
Квартира была (впрочем, почему – была? она и до сих пор такая) просторная, солидная, внушительная. Такая же, как список бабушкиных регалий – заслуженная, народная, и еще такая, и еще эдакая. И пусть большинство титулов было заработано в период уже преподавательской, не танцевальной деятельности, не важно, звания есть звания. Не за красивые глаза те звания давались – за упорную, бесконечную и почти беспрерывную работу. Ну и квартира тоже.
Кроме тяжелых глянцевых «Легенд и мифов Древней Греции» с тонкими, словно летящими рисунками, тут было еще много – много-много, очень много! – книг. Громоздкий мрачноватый шкаф, дверцы которого искрились гранеными стеклами в латунных переплетах, был забит плотно, так что книги приходилось доставать с немалым усилием. Да еще нужно было точно запомнить, откуда вытащил – ряд моментально смыкался, а нарушений установленного порядка бабушка не терпела, утверждая, что все беды – от расхлябанности. Тома в шкафу стояли ровным строем, ни на миллиметр вперед или назад – увесистые, внушительные, многие с ятями и ерами, оставшиеся от каких-то неведомых прошлых бабушек и дедушек.
Книжки попроще «жили» на стеллаже в коридоре – высоком, под самый потолок. Чтобы добраться до верхней полки, приходилось залезать на стремянку. Можно было усесться на верхней ступеньке и вытаскивать одну книжку, другую, третью, листать, возвращать на место – пока не попадалась какая-нибудь, от которой невозможно было оторваться…
Может быть, думал иногда Марк, он и маму не вспоминал из‑за того, что, поселившись у бабушки, с головой ушел в чтение? Там был не просто другой мир – там было множество других миров. И каждый звал своим особенным голосом, манил собственными, непохожими на других красками и ароматами.
И вот еще странность какая. Почему-то свои «писания», свои бесконечные строчки на бесконечных белых листах он никогда не связывал с разноцветной чередой корешков на книжных полках. Даже когда начал – это уже лет в двадцать пять, наверное? – писать что-то более-менее связное, даже тогда ему ни разу не мнился, не мечтался, не снился томик с собственным именем на обложке. И Татьяне он свою рукопись вручил вовсе не потому, что она была издатель, и в мыслях не было. И когда она сказала «очень даже ничего», он – вот уж действительно аберрация сознания, – задыхаясь от нестерпимого, незнакомого счастья, тем не менее не осознал, что «с этим можно работать» означает «в печать». Вот просто в голову не приходило, и все тут. Книжные полки не имели, не могли иметь никакого отношения к его «бумагомаранию».
Интересно, а что сказала бы бабушка, увидев на полке – на своей книжной полке – его романы? Марк до сих пор не привез в это логово, в этот «музей» ни одного своего томика – ему все казалось, что она бы подобного «беспорядка» не одобрила.
Каждые две недели, по воскресеньям, если не было срочных репетиций, повторялся один и тот же ритуал. Бабушка тщательнее обычного одевалась (не столь парадно, как, скажем, на премьеру, но туфли или сапоги – смотря по сезону – начищались до витринного блеска, а стрелкой костюмных брюк – юбок бабушка почти не носила – можно было резать хлеб), причесывалась (волосок к волоску!), пристраивала сверху шляпку с вуалеткой. Шляпка напоминала тюбетейку, только без узоров и с плоским донцем, и называлась почему-то «ток». Марк как-то раз даже забеспокоился, разве можно «ток» носить на голове, ведь розетки трогать запрещено строго-настрого, ток может убить. Бабушка объяснила, что между шляпой и электричеством нет ничего общего, это просто совпадение французского слова и русского, но Марк все равно немного боялся.
Довершали наряд шелковые, бронзово поблескивающие митенки – черные митенки бабушка считала вопиющей, непозволительной банальностью – или лайковые перчатки. С улицы доносился короткий гудок клаксона – весть о поданном такси…
Возвращалась бабушка к вечеру. Не особенно поздно – зимой, правда, было уже совсем темно, а летом обычно еще и сумерки не начинались, – но очень усталая, словно постаревшая и даже как будто сгорбленная. Хотя этого, разумеется, быть не могло: чтобы бабушка сгорбилась – это немыслимо, так не бывает, как не бывает, к примеру, не текущих ручьев. Если ручей перестал течь, то это уже не ручей, а лужа или болото.
Бабушка снимала шляпку с электрическим названием, стаскивала митенки или перчатки, переодевалась в громадный шелковый халат с синими и зелеными драконами.
Доставала из буфета пузатую бутылку, наливала в широкий, похожий на бочонок бокал – довольно много, до середины – и долго, долго сидела на кухне, время от времени покачивая бокал перед собой и пристально вглядываясь в округлые бока, за которыми переливалось жидкое золотое пламя.
– Мама умерла? – спросил как-то Марк.
Бабушка помолчала, покачала головой, вздохнула:
– Лучше бы умерла. Чем так…
Она никогда его не обманывала. Вообще презирала ложь. Умолчать о чем-то – да, это допустимо, умалчивать в этой жизни приходится о многом, хотя бы из вежливости. Но солгать?! Все равно что из помойного ведра пообедать. Так она говорила. И губы поджимала брезгливо.
Однажды бабушка взяла Марка с собой.
Они довольно долго сидели на неудобных стульях в скучной квадратной комнате. От стен, выкрашенных болотно-зеленой краской – до высоты роста, дальше шла отделенная коричневой чертой побелка, – от желто-серого линолеума, от вделанных в потолок унылых белых плафонов почему-то хотелось зевать. В стене напротив была дверь – филенчатая, белая, не очень аккуратно покрашенная – на железной ручке виднелись белые капли и потеки.
Потом дверь открылась: санитар в синей робе, больше похожий на плотника или водопроводчика, чем на медицинского работника, привел странное маленькое существо. Халат свисал вокруг хрупкого тела, как пустая тряпка, как будто внутри вовсе ничего не было. Но снизу из-под серой тряпки высовывались ноги в коричневых шлепанцах, значит, тело все-таки было. Сверху халат увенчивала крошечная головка, туго повязанная серым в крапинку платочком. Все вместе было похоже на гигантскую ночную бабочку.
– Зачем?! – зашипела «бабочка» страшным свистящим и одновременно хриплым голосом. – Зачем ты его притащила?! Он мне все испортил… он меня… меня нет… нет… нет меня!!! Полюбоваться привела?! Ненавижу!
Посреди свистящего шепота «ж» прозвучало звонко, пронзительно, страшно – как хищный вой бормашины: она еще не впилась, и рот еще можно закрыть, но нельзя, нельзя, и острое блестящее сверло жужжит уверенно и неотвратимо, придвигаясь все ближе, ближе и ближе…
Она… или оно?.. существо повернулось к Марку, под низко надвинутым платочком распахнулись, сверкнули глаза – и личико преобразилось, разгладилось, засветилось. А глаза… глаза горели жарким, обжигающим, нестерпимо живым огнем.
– Мама? – прошептал Марк. – Нет…
Из серых тряпичных «крыльев» высунулась скрюченная коричневая лапка – тоже как у бабочки – и она (мама?!! нет!!!) шагнула к Марку, попыталась замахнуться…
Он не мог двинуться с места.
Синий санитар в один шаг оказался рядом, крепко взял за «крыло», под которым скорее угадывался, чем был виден, острый локоть, остановил движение, потянул назад, покачал головой:
– Вам лучше уйти.
Всю дорогу до дома бабушка молчала. И Марк молчал. Не было слов, чтобы сказать, спросить, не было на свете слов, которые годились, чтоб хотя бы назвать то, что осталось там, среди болотно-зеленых стен, под круглыми белыми плафонами, за белой филенчатой дверью. Осталось там – и в то же время осталось и с ним, то начиная саднить чуть ниже горла, то шелестя, шипя, скрежеща в ушах, то царапаясь за глазными яблоками, сколько ни сжимай лоб, не помогает.
И после они тоже никогда об этом не говорили. И водить Марка в интернат бабушка больше не пробовала. До самой своей смерти.
Она умерла… черт, какой же это был год?.. кажется, Татьяна как раз сообщила, что беременна… или нет, конечно же, нет, Татьяна появилась в его жизни позже. Да, точно – позже. Они ведь вместе жили в бабкиной квартире – ну сколько-то там – и никого, кроме них, там не было.
Впрочем, и это тоже не важно.
Когда бабушка умерла – вот просто не вернулась с очередной репетиции, упала прямо там, в зале с зеркальной стеной, роялем в углу и длинными палками вдоль стен, – Марк, отстояв все полагающиеся похоронные ритуалы, выслушав тысячи хвалебных слов в ее адрес и столько же соболезнующих в свой, почувствовал…
Странное облегчение он почувствовал, чего перед собой-то притворяться. Пустая – без никого! понимаете, без никого! никто не скажет, что чашка стоит не на месте, – квартира была как берлога. Укрытие.
Хотя бабушку было все-таки жаль.
Один из кустов – на самой границе фонарного света и окружающей тени – зашевелился, точно в нем, меж мерзлых прутьев, у самой земли что-то ворочалось. Марк поежился – не то от очередного порыва ветра, не то от непонятной тревоги. Да ладно, что там может быть внутри куста?
Ветки задергались, в световом круге появилась кошка. Довольно тощая, недовольно дергающая плечом и брезгливо поджимающая лапы. Трехцветная, с неожиданным удовольствием отметил Марк. Это к удаче.
Символ удачи, даже не взглянув в его сторону, гордо прошествовал к соседнему со сквериком дому. Даже спина символа выражала независимость и презрение ко всему окружающему, тем более к торчащему столбом возле замерзшего сквера человеку. Ты кто? Прохожий? Вот и проходил бы. А я тут живу, тут все мое, а ты мне без надобности и вообще неинтересен. Вот если бы у тебя в кармане была, к примеру, сосиска…
Марк улыбнулся собственным мыслям. И вовсе не такой уж этот скверик унылый. Просто сезон не самый симпатичный. Вот скоро снегу насыплет, будет красота…
Старуха появилась перед ним внезапно – жуткая, вся в каких-то клочьях, больше похожая на куль тряпья, чем на живого человека. Торчащие из-под намотанного на голове платка седые космы взметывались от порывов мозглого ветра, как змеи на голове Медузы Горгоны. Марк подумал, что мешает «Медузе» пройти, отшагнул в сторону – каблук поехал на подвернувшейся ледышке, – но старуха, даже не пытаясь его обойти, встала чуть не вплотную, точно в землю вросла, забормотала что-то невнятное и, должно быть, оттого жуткое. Точно одна из макбетовских ведьм: «Шерсть кожана, зуб собачий, все в котел лети скорей!»
Он даже обернулся невольно – не видать ли еще двоих, таких же. Хотя и одной-то, если честно, было многовато.
Никого, впрочем, не было. Ни в скверике, ни в кривящемся промороженном переулке, ни в провалах между редкими домишками.
Сгорбленная, с криво втянутой в перекошенные плечи головой, старуха не доставала ему даже до плеча. Но казалось, что глаза – острые, пронзительные – смотрят из-под надвинутого на самые брови драного платка прямо в упор. Или даже свысока.
Кого-то она Марку напоминала. Вот только – кого?
Наверное, Азучену из «Трубадура». Он не слишком жаловал оперу, но наиболее значительные шедевры, разумеется, знал – писатель все-таки, а трагедия есть трагедия, даже когда в ней зачем-то поют. Ему, кстати, всегда казалось странным, что Азучену гримируют старухой. Если в начале событий она юная мать, а к финалу ее сыну должно быть лет двадцать, значит, самой ей никак не больше сорока – крепкая, почти молодая женщина. Но во всех постановках Азучена – непременно жуткая древняя старуха, вроде макбетовских ведьм. Может, потому что клокочущая в ней ярость выглядит тем страшнее, чем дряхлее оболочка?
В безумных глазах подступившей к нему старухи жарко горела такая же ярость, что и у оперной мстительницы.
Или не ярость? Веселье?
Он тряхнул головой, отбрасывая наваждение, неуверенно двинул рукой – коснуться: полно, да настоящая ли она? Может, морок?
Старуха не то рыкнула, не то взвизгнула – точно он не кончиками пальцев ее коснулся, а раскаленным железом, – протянула на мгновение руку, точно собираясь схватить, отдернула, метнулась в сторону, назад, в пляшущие над сквером жидкие вихри ледяной крупы.
Марк кинулся следом, опять поскользнулся, споткнулся, едва не рухнув на хлипкое ограждение, выровнялся, зашагал осторожнее.
Старуха исчезла. Как и не бывало. Хотя деться ей было вроде бы некуда. Она же старуха! И он, здоровый, молодой еще мужик, не сумел догнать? На метле, что ли, улетела?
Или померещилась?
* * *
Марку казалось, что внутри него все смерзлось в единый монолит. Как будто – вот руки и ноги вроде бы наличествуют, все-таки хоть как-то он двигается, а посередине – сплошной лед, одним куском: сердце, легкие, что там еще есть. Кажется, уже ничего и нет, одна сплошная сосулька. Разве может человек жить, если у него вместо сердца – сосулька?
Очень хотелось выпить чего-нибудь горячего. Чаю, кофе, да хоть компоту – лишь бы горячего. Или даже просто – выпить. Чтоб почувствовать, как внутрь льется жидкий огонь, как растапливается, тает смерзшийся комок, как расправляются застывшие легкие, как горячая волна обжигает, омывает, оживляет упертую в ребра неудобную ледяную глыбу, превращая ее если не в пламенный, то хотя бы просто в мотор. В живое сердце. Вздрагивающее от предчувствий и замирающее от страха – но живое.
В трех кварталах от скверика обнаружилось кафе – маленькое, дружелюбно подмигивающее тремя теплыми красноватыми окнами-витринами. На среднем подоконнике – там, в уютном тепле, в обрамлении первых морозных узоров и кирпичного цвета штор спала кошка. Очень похожая на ту, трехцветную, что напугала, а после обрадовала его в скверике. Ну надо же! Прямо какой-то день счастливых примет. Ну или что-то в этом роде.
4
Андрей Вознесенский. Песня акына.
5
«Каждый умирает в одиночку» – неоднократно экранизированный роман Ганса Фаллады, название которого стало крылатой фразой.
6
Звание Étoile используется только в Ballet de l'Opera national de Paris. Самая подробная (восьмиступенная) иерархия – в Мариинском театре.
7
«Подъезжая под Ижоры, Я взглянул на небеса И воспомнил ваши взоры, Ваши синие глаза». А. С. Пушкин.
8
Александр Дольский. Начинающая балерина.
9
Фуэте может исполняться и с продвижением, но обычно именно исполнение «не сходя с места» приравнивают к чистоте мастерства. София Головкина когда-то исполнила «100 фуэте на почтовой марке», как писали рецензенты, подчеркивая неподвижность точки вращения. Современные примы стремятся не увеличить количество повторов, а усложнить сам элемент, включая в серию фуэте двойные (не 360 градусов, а 720) и даже тройные. 32 фуэте сегодня являются своего рода мастер-минимумом, ибо включаются в большинство сольных партий классических балетов, таких как «Корсар», «Дон Кихот» и, разумеется, «Лебединое озеро». Однако, к примеру, Майя Плисецкая, танцуя Одиллию, вместо традиционных фуэте исполняла круг из tours piqué, чередующихся с chaînés– deboulés, говоря, что это движение лучше раскрывает характер героини, хотя в других балетах исполняла и традиционные 32 фуэте.