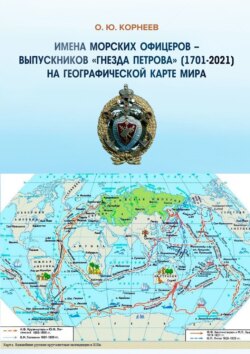Читать книгу Имена морских офицеров – выпускников «Гнезда Петрова» (1701—2021) на географической карте мира - Олег Юрьевич Корнеев - Страница 4
Краткая историческая справка о этапах развития «Гнезда Петрова»
Морская академия
(Академия морской гвардии)
(1715—1752)
Оглавление1 октября 1715 г. (старого стиля) был подписан указ Петра I, в котором было написано: «УКАЗУЮ ОСНОВАТЬ НА АДМИРАЛТЕЙСКОМ ОСТРОВУ МОРСКУЮ АКАДЕМИЮ» (РГА ВМФ. Ф. 223). Академия была создана в новой столице России Санкт-Петербурге на базе старших навигаторских классов Навигацких школ Москвы, Нарвы и Новгорода из числа воспитанников дворянского происхождения. Академия создавалась по образцу французских морских училищ Марселя, Тулона и Бордо и расположилась в двухэтажном доме на деловом дворе бывшего соратника Петра I адмиралтейств-советника А. В. Кикина (в 1713 г. лишенного чинов и званий за участие в аферах с подрядными компаниями, а в феврале 1718 г. казненного колесованием в Москве за участие в планировавшемся перевороте царевича Алексея). Здание Академии располагалось на берегу Невы напротив здания Адмиралтейства (там, где сейчас находится соответствующий угол Зимнего дворца).
Для организации Академии Петр I еще в 1714 г. пригласил французского барона Пьера-Антуана Сент-Илера (Saint-Hilaire), который был принят на службу в чине генерал-лейтенанта. Историк Ф. Ф. Веселаго пишет о нем: «Барон Сент-Илер… был человек замечательный по своим знаниям, смелым проектам и самому неуживчивому характеру».
18 сентября 1715 года барон представил свой проект царю в трех версиях. В одной версии он назвал учебное учреждение Морской академией, в другой – Морским училищем, а в третьей – Морским корпусом, в соответствии с уже существовавшими в Европе кадетскими корпусами. В этом проекте впервые в России Сент-Илер использовал термин «кадет» для обучающихся (образовано от французского слова cadet – младший, несовершеннолетний). Для 300 молодых дворян он полагал необходимым 60 профессоров с жалованием в 600 руб. и деревню с подсобным хозяйством. Кроме этого Сент-Илер писал, что дом Кикина, по его мнению, не подходит для Академии, и просил построить новый. Но Петр I, прочитав данные проекты 30 сентября, на полях проекта изложил свои более скромные представления об организации обучения и содержании учеников, а относительно нового дома написал: «Учинить в Кикина дворе, а вновь делать трудно». Он также утвердил название «Морская академия» и не возражал, чтобы обучение проходило на голландском и немецком языках.
Внутренний порядок в Морской академии регулировался в соответствии с «Инструкцией к Уставу Морской академии в Санкт питербурхе», утвержденной вместе с проектом Сент-Илера 1 октября 1715 г. Каждая статья начиналась повелением: «Его Величество заповедует» или «Его Величество повелевает», а заканчивалась непременно угрозой: «под наказанием». Петр I сделал приписку в Инструкции: «Для унятия крика и безчинства выбрать из Гвардии отставных добрых солдат, и быть им по человеку во всякой каморе во время учения, и иметь хлыст в руках; и буде кто из учеников станет безчинствовать, оным бить, не смотря какой бы он фамилии ни был». Там же было указано: «Для наблюдения за порядком в каждой каморе у дверей стоял часовой, имевший право арестовать зачинщика, о всех беспорядках он докладывал Директору, а тот Его Сиятельству Адмиралу. После вечерней зари – „тапты“ – из академии и камор отлучаться запрещено, а командующий над гвардией офицер каждый час чинит „рунд“ – обход с целью осмотра. Директору и Командиру Морской Гвардии повелено во все дни быть в залах или школах Морской Гвардии и смотреть, что учители, профессоры каждый ли, по своей должности своей исправляет и обучает ли Морскую Гвардию». Таким образом можно заметить, что вместо термина «Морская академия» Петр I использовал термин «Морская гвардия». Вследствие этого разночтения в дальнейшем появилось название «Академия морской гвардии».
Для справки:
25 июня 1838 года на знамя Морского кадетского корпуса была прикреплена белая Андреевская лента, на которой в частности было написано: «1715. Академiя морской гвардiи».
Поскольку с января 1716 г. по октябрь 1717 г. Петр I вместе с супругой находился за границей, то становление Академии происходило без него. Директором Академии был поставлен барон Сент-Илер под главным начальством графа А. А. Матвеева, между которыми почти сразу начались разногласия. В декабре 1716 г. А. А. Матвеев писал Ф. М. Апраксину, что «он С. Илер навигаторской науки не знает; и если бы не случилось английских профессоров, то нельзя было бы и в десять лет ни одного кадета из науки в науку произвесть». В результате данных разногласий 12 февраля 1717 г. Петр I шлет из Амстердама указ Ф. М. Апраксину о том, что руководство Морской академией поручить А. А. Матвееву, а барона Сент-Илера «для его прихотей отпустите, ибо на его место мы надеемся здесь сыскать другаго».
Из Москвы в Петербург приехал профессор Г. Фарварсон и некоторые учителя из русских, в том числе восемь навигаторов, среди них Ф. Алфимович, Г. Г. Скорняков-Писарев. Кроме этого были переведены учителя французского языка Иосиф Иванов Гагин (родом итальянец) и немецкого языка Яган Вурм. В феврале 1716 г. из Навигацкой школы в Москве было дополнительно переведено в Санкт-Петербург 36 преподавателей географии, геометрии и математики. 14 февраля 1716 г. граф Ф. М. Апраксин приказал послать в Санкт-Петербург также учителя Степана Гвына со своими учениками.
Петр I собственноручно написал перечень наук, необходимых для изучения в Академии: математика, навигация, сферика, астрономия, математическая география, ведение шканечного (вахтенного) журнала, артиллерия, ружейные приемы, фортификация, изучение корабля, рисование, геодезия, фехтование и верховая езда (вольтижировка). Во время летней кампании воспитанники должны были находиться в практическом плавании на кораблях Балтийского флота, исполняя обязанности матросов, комендоров и морских солдат, обучаться «корабельному правлению», самостоятельному ведению «журналов путеплавания» и производству обсерваций. Таким образом Академия морской гвардии должна была готовить офицеров в области навигации, артиллерии, фортификации, устройства корабля (кораблестроители) и геодезии.
Первые ученики в Морскую академию набирались по результатам смотра недорослей, проведенного на исходе 1715 г., сразу после утверждения проекта Положения об Академии. Президент Адмиралтейств-коллегии граф Ф. М. Апраксин 14 февраля 1716 г. приказал, чтобы к концу февраля из Навигацких школ Москвы, Нарвы и Новгорода были переведены окончившие классы геометрии и тригонометрии 279 учеников из недорослей и солдатских детей лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков и других разночинцев. Когда же из Москвы и других городов приехало значительно большее количество учеников, чем требовалось, то 44 ученика из бедных семей отправили обратно, а часть оставшихся школьников попала на Петровский завод, где военный инженер Вилим Геннин организовал свою школу.
В Академию принимались в основном дворяне, значительно реже – разночинцы. В учебном заведении поддерживалась строжайшая дисциплина: побег карался смертной казнью, опоздание из отпуска – каторгой. Сроки обучения не были строго установлены и определялись уровнем знаний учеников.
Академия имела военную организацию: 6 бригад-отделений по 50 человек во главе с офицерами гвардейских полков, называвшимися «командирами морской гвардии». В помощь каждому назначались, также из гвардии, один или два офицера, два сержанта и несколько заслуженных старых солдат, исправлявших должность дядек и обеспечивавших дисциплину. Воспитанники должны были жить в здании Академии, однако многие жили на квартирах.
В апреле 1716 года вышло «Положение о гардемаринах в российском флоте», которым отменялось воинское звание «навигатор». Воинское звание «гардемарин» (в переводе с французского – «страж моря», «морской гвардеец») было установлено как переходное от ученика Академия к чину мичмана (учрежден в 1713 году, младший офицерский чин в Российском флоте с 1732 по 1917 гг., с перерывом в 1751—1758 гг.).
Петром I было установлено, что в гардемарины могли быть переведены только те ученики Академии, которые «превзошли науки», то есть успешно сдавшие высшие мореходные науки. В последующем, сдав очередной экзамен, гардемарины получали первичное офицерское звание – унтер-лейтенант (с 1732 г., после причисления звания мичмана к офицерскому составу, выпускникам Академии присваивалось при выпуске это воинское звание). Таким образом моментом окончания Морской академии являлось получение гардемарином офицерского звания. В связи с этим имеющиеся в архивных документах фразы о том, что ученики Морской академии выпускались гардемаринами, являются некорректными.
С момента образования гардемаринов они не имели определенной военной формы. Историк Ф. Ф. Веселаго писал, что форма, по всей видимости, была матросская, так как при первом практическом плавании летом 1716 г. было отмечено: «Им роздали такие же парусиновые „бостроки“ как матрозам». Только в мае 1723 года указом Петра I было постановлено гардемаринам иметь форму «во всемъ» сходную с лейб-гвардии Преображенским полком, то есть: кафтаны темно-зеленые, у кафтанов воротники и обшлага, и также камзолы и штаны красные, а шинели василькового цвета. Гардемарины имели шпаги с золочеными эфесами и ружья. Такая форма просуществовала до момента преобразования Академии в Морской шляхетный кадетский корпус в 1752 г.
В строевом отношении гардемарины составляли роту по образцу Гвардейской сухопутной роты. Кроме рядовых гардемаринов, в ней находились сержанты, каптенармусы, фурьеры и капралы. Одно время были унтер-фендрики, называвшиеся потом подпрапорщиками. В унтер-офицерские чины назначались гардемарины «хорошей нравственности» и «обучающие высшие науки». Кроме каптенармуса, ответственного за хранение вещей и обмундирования гардемаринов, другие унтер-офицеры по форме ничем не отличались от рядовых гардемаринов. В полном составе Гардемаринская рота практически никогда не пребывала: летом все были на практике на кораблях, а зимой в портах, где зимовали корабли. Тем не менее обязательным условием обучения гардемаринов было дальнейшее получение теоретических знаний, для чего они имели занятия с учителями Академии.
В первые годы существования Морской академии финансирование ее деятельности было все же недостаточным. Так, А. А. Матвеев 2 мая 1717 г. жаловался Сенату на «неописанную скудость денег» и «несказанные трудности», так как от Адмиралтейства «кроме доброго „нета“ никакого положительного довольствия не получается». В результате школьники Морской академии снимали углы по окраинам, где подешевле, и даже на другом берегу Невы.
Решая множество государственных проблем, Петр I уделял внимание и Академии. Так, 2 ноября 1717 г., сразу по возвращении из-за границы, он распорядился выдать деньги «в Морскую академию на содержание школьников» из соляного сбора, то есть из дополнительных средств, не идущих на содержание армии (подушные сборы) или флота (питейные и таможенные сборы). В результате этого малообеспеченные воспитанники стали получать ежемесячно по 1 рублю, а при переходе в обучении из «цифири в геометрию» – еще по полтине в месяц. В меркаторской навигации им прибавляли по 2 руб. с полтиною, а в круглой навигации – по 3 руб. человеку на месяц. В 1718 г., реализуя повеление Петра I о том, что «Академический двор, что был Кикина, достроить», здание Кикиного двора стали расширять и к Академии пристроили несколько мазанок, в которых разместили малолетних учеников Академии.
В мае 1718 года количество гардемаринов достигло 300 человек, после чего было определено, что это количество является комплектным для Гардемаринской роты Морской академии, которое нельзя превышать. Командир Гардемаринской роты был практическим руководителем и всей Академии. Из 300 человек старшие гардемарины составляли 100 человек, которым было определено по 16 рублей жалования в год, а младшие гардемарины (200 человек) получали по 12 рублей. После смерти Петра I количество гардемаринов неуклонно снижалось, и в 1739 г. их было всего 66. При этом только с 1741 г. Гардемаринской ротой Академии стали командовать морские офицеры.
В 1718 году в Морской академии был открыт отдельный геодезический класс на 30 человек для подготовки геодезистов, топографов и картографов с целью картирования побережья Российской империи. Выпускники этого класса И. М. Евреинов и Ф. Ф. Лужин первыми были отправлены для составления карт Сибири и должны были следовать «…до Камчатки и далее, куда Вам приказано, и описать тамошние места, где сошлись ли Америка с Азией…». С этой первой, не широко известной экспедиции 1719 г. началось целеустремленное изучение дальневосточных морей.
Определенного срока обучения учеников в Академии не существовало, период пребывания в учебном заведении зависел от способностей каждого воспитанника, и главное – наличия свободных вакансий в списках Гардемаринской роты, а затем вакансий в офицерском составе флота. Общий срок обучения-службы в гардемаринской роте составлял 6 лет и 9 месяцев. Однако в отдельных случаях гардемарины производились в офицеры через 4—5 лет после попадания в Гардемаринскую роту, и в то же время нередки были случаи службы в гардемаринском звании по 15—20 и более лет. Известно, что в 1744 г. в отставку «по болезни и старости» был уволен гардемарин Академии Иван Трубников в возрасте 54 лет, безрезультатно проучившийся почти три десятилетия! За плохую службу в Гардемаринской роте и низкую успеваемость нередки были случаи обратного перевода гардемаринов в Академию на положение ученика или просто в матросы на флот.
Однако в XVIII веке существовала и практика, когда были назначения в Гардемаринскую роту Академии без предварительного в ней обучения. В основном это относилось к сыновьям флотских офицеров, которые получали соответствующее образование дома. В таких случаях отец, находившийся в одном из портовых городов, посылал соответствующее прошение в Адмиралтейств-коллегию с приложением перечня пройденных дисциплин и Свидетельств офицеров, подтверждающих уровень знаний недоросля на основе проведенной «экзаменации». Члены Коллегии иногда довольствовались подобным прошением и назначали недоросля в гардемарины, а иногда вызывали его в Академию для проведения «экзаменации» ее учителями. Если вновь определяющейся сделал с отцом несколько морских кампаний, то это служило лучшей рекомендацией. Сыновья заслуженных адмиралов, как исключения из общего правила, за заслуги отцов иногда поступали не только в гардемарины, но и непосредственно в мичмана, что по современным понятиям может быть охарактеризовано как незаконный протекционизм (блат).
При Петре I нередки были случаи отправления гардемаринов для обучения за границу на несколько лет, например, во Францию, Италию, Голландию, Испанию и другие страны. По возвращении гардемарины сдавали соответствующий экзамен для получения офицерского звания.
Принятие решения о переводе гардемарина в офицерское звание осуществлялось специальной Комиссией, члены которой назначались из флотских офицеров, в Санкт-Петербурге – самой Адмиралтейств-коллегией, а в портах – Главным командиром порта. Из портов специальные комиссии направляли в Адмиралтейств-коллегию количество баллов, набранных экзаменуемыми гардемаринами, после чего Коллегия принимала решение. При этом Коллегия следила за тем, чтобы к экзамену в мичмана представляли гардемаринов в порядке их служебного старшинства.
В 1731 году адмирал Сиверс сократил комплектность Академии с 330 единиц до 150, и хотя в 1732 году он был снят со своего поста и комплектность была признана недостаточной, но реальных действий по ее увеличению предпринято не было.
В 1732 году императрица Анна Иоанновна пожаловала для Академии каменный дом князя Алексея Долгорукова на углу набережной Большой Невы и 3-й линии (ныне здесь здание Санкт-Петербургской Академии художеств), так как на старом месте Академии и окружающих участках решили строить Зимний дворец.
Переезд Академии в новое здание состоялся только в 1738 году. Новый дом был теснее предыдущего, и большинство учеников было отправлено для проживания в город. При этом переезд на Васильевский остров вызвал большие неудобства и лишние траты для учеников и гардемаринов Академии. Так, окормлялись, то есть принимали пищу, ученики и гардемарины, не находившиеся в плаваниях и в других портах, в полотняной церкви Св. Николая Чудотворца (на месте дома №67 у Синего моста) на Морском полковом дворе Адмиралтейского острова, который в то время находился у Исаакиевской церкви, за Мойкой. После переезда на Васильевский остров обучающимся приходилось дважды в день перебираться на другую сторону Невы по наплавному мосту, переход через который был платным. В то же время для обучающихся в Сухопутном кадетском корпусе, давно уже существовавшем на Васильевском острове, переход был бесплатным. Все это приводило к тому, что в Морскую академию все меньше становилось желающих поступать. В последующем вопрос о строительстве надлежащего здания для Академии продолжал периодически подниматься Адмиралтейской коллегией перед императрицами Елизаветой и Екатериной II в 1741, 1744, 1747 годах, но безрезультатно.
15 декабря 1752 года Морская академия указом императрицы Елизаветы Петровны была преобразована в Морской шляхетный кадетский корпус. Данное переименование не повлекло за собой упразднение звания «гардемарин», но оно стало уже присваиваться ученикам старших курсов.
Всего за 1717—1752 гг. Академия подготовила свыше 750 моряков и геодезистов. Причем бывали случаи непосредственного производства в унтер-лейтенанты, а наиболее выдающихся по успехам выпускников – в лейтенанты. Из Академии вышли известные мореплаватели и исследователи С. Г. Малыгин, И. М. Евреинов, Ф. Ф. Лужин, Д. Я. и Х. П. Лаптевы, С. И. Челюскин, М. С. Гвоздев, А. И. Чириков, А. И. Нагаев, Н. В. Головин; флотоводец В. Я. Чичагов и многие другие прославившие Россию офицеры. Воспитанники геодезического класса осуществляли съемку территории Российской империи, участвовали в издании Академией наук в 1745 г. первого географического атласа России. А. Нагаев составил первые карты Берингова моря, а также первый атлас с подробной лоцией Балтийского моря. Н. Головин командовал Балтийским флотом в ходе Русско-шведской войны (1741—1743). А. Чириков был помощником Витуса Беринга в период Первой и Второй (Великой Северной) Камчатских экспедиций, а в 1741 г. он первым из европейцев достиг западного побережья Северной Америки.
Одними из первых выпускников Морской академии, принявшими участие в картографическом описании России, а именно Обской губы Карского моря, сразу после выпуска в 1719 году стали Петр Чичагов и Иван Захаров в экспедиции майора лейб-гвардии Семеновского полка Ивана Михайловича Лихарева.
Необходимо также подчеркнуть, что Морская академия до 1724 г. частично выполняла функции Академии наук России, пока не была образована Петербургская академия наук.