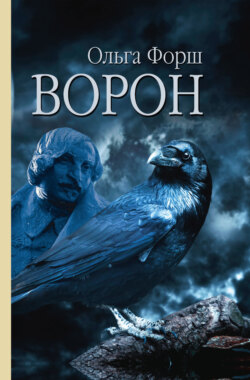Читать книгу Ворон - Ольга Форш - Страница 7
Современники
Глава VI
Высочайший приезд
ОглавлениеВдруг двери студии распахнулись, и вбежавший стремглав Александр Андреевич Иванов в вечном плаще с красным подбоем от поспешности чуть не растянулся на пороге. – Государь здесь близко, в базилике Maria Maggiore, и сейчас будет к вам! – вскрикнул он.
Ставассер
Александр Иванов жил на горе. Пройдя с улицы Сикста через чудесный сад, затканный гроздьями винограда и цветущими розами, Багрецов прошел к нему в мастерскую. На огромном окне стояла ширма в полтора стекла, чтобы убить яркую зелень рефлексов от деревьев: миндаля, фиг, орехов, древней змиевидной лозы.
Гигантская картина «Явление Мессии» была задернута драпировкой. Внезапно отдернув ее, художник, словно посторонний, мог глубже отмечать недочеты. Больше двухсот этюдов природы и фигур было развешано по стенам.
– Александр Андреич, – сказал Багрецов, – ты еще долго намерен, как муравей, из римских камней здесь лепить Палестину? Сколько раз предлагал я тебе: дай свезу на свой счет. Перестань чудачить. Общество Поощрения тебе денег на поездку не даст. Я доподлинно знаю, что в Петербурге по этому вопросу говорят: Рафаэль писал первоклассные вещи, не выезжая из Италии, подобное может и Иванов.
– Нет, уж я дождусь, чтоб художника русского для славы родины послала б, как мать, она сама, родина… А пока что из окрестностей Рима как-никак я создаю иорданский ландшафт. Вообрази: наиболее подошел Субиако, в горах сабинских. Скалы голы и дики, река чудесной быстротекущей воды. Обидно одно: приходится втягиваться в развлечения, до которых я не большой-то охотник. Но, не вызывая злобы у братий «питторов», нельзя отказать с ними поужинать и прочее… даже ломать комедию под гром барабана. Эх, если бабка не наворожила, как тебе, – трудна дорога художнику русскому!
Мало того, что картине жертвуешь жизнью и удобствами, – как удары плетьми – этот обрыв беспрестанный в работе: то болезнь глаз, то натурщик неплочен, то голых людей искать надо – близок свет – в Перуджии! Ведь эти аспиды, содержатели римских купален, ни самомалейшей щелки для глаз наблюдателя не оставляют.
Однако хоть и питаюсь я одной чечевицей, но на предложения Общества Поощрения я, братец мой, не пойду.
– А что пишет оно тебе неприятного?
– Предлагают любовь мою разорвать другою, и это убийство зовут «легким занятием кисти». Говорят, что, изготовляя картины жанра для лотерей, я смогу найти себе и дальнейшие средства к жизни. Варвары люди!
И вдруг вспомнив о чем-то совсем недавнем, еще и еще с гневом воскликнул:
– Варвары, варвары… о, что они сделали с Бенедеттой! Да я ведь было бежать к тебе хотел, если б ты сам не пришел…
Багрецов вспыхнул. Вдруг при имени Бенедетты забилось сердце, и тут же мелькнуло в уме: как, неужто влюблен? Он даже не сразу понял, что толковал ему Иванов, торопясь, перебиваясь и дополняя речь руками.
– Прибегал на заре Доменико, ее брат, переодетый, с привязной бородой. Его ищет полиция… наспех сообщил: слуга, который склонялся за подкуп выпустить Бенедетту, на другой день после нашего посещения виллы Волконской отказался наотрез. Хуже того: Бенедетту перевели в сырую камеру, запретили свидания. В этом деле видны руки монахов. Я побежал к Гоголю, просил, молил идти немедля к княгине. Гоголь был недвижен, сам чем-то крайне удручен. Представь, он сказал: «Хлопотать не стану. Как попало, зря, в этакую кашу нечего и мешаться. Довольно того, что раз уж напутали, приведя на виллу заговорщика».
Он мрачный такой, Гоголь. «Вопрос по существу решать надо, говорит, кого именно вы считаете на земле хозяином? Ежели себя, то и суйтесь в дрязг политики! Я же признаю над собой хозяина, важнейшего себя. И этот хозяин повелевает мне одно: заниматься грехами собственной моей души, мирным устроением общества, а не какими-нибудь заговорами и подкопами под властей… Поверьте: вы своей картиной, а я книгою сделаем сильнейшую революцию в мире, нежели глупым вмешательством в дела итальянской полиции».
– И ты в душе с ним согласился? – с гневом вскричал Багрецов. – Когда же ты выйдешь из порабощения Гоголю? Да ты слеп, что ли? Не видишь, что все биготство его, весь тон проповедника – от дьявольского самолюбия? Да он ведь ни с кем из людей не вяжет себя чувством, а каждый ему лишь средство или предмет наблюдения. Ну, вот, предлагаю тебе: проделай с ним опыт. Жизнь всего лучше докажет мою правоту. Помнишь, ты мне говорил о своем проекте новой инспекции над художниками, где бы взамен чиновника стоял человек к художникам близкий? Чего ближе поэта? Вот и твоему Гоголю предложи для мирного исправления общества писать о всех вас отчеты своим гениальным пером. Пусть научит власть имущих и все варварское общество наше вернейшей оценке произведений искусства! Это ль не достойное служение отечеству? Вот предложи-ка ему разработать хорошенько проект.
– Изумительный совет, необыкновенное измышление, – сказал Иванов, обнимая Багрецова. – Не сомневаюсь, что порадую этим проектом Николая Васильича в его жажде служить отечеству. А в секретари я приглашу профессора Чижова. Но как жаль, что Гоголь на днях едет в Неаполь! В один миг проект не испечь, а я такой копотун…
– Ну и копайся, над тобой не горит, – сказал Багрецов, в досаде, что этот «блаженный», влюбленный в одну лишь свою картину, как глупая рыба, идет на каждый крючок. Гоголь, которым он так дорожит, при бешеном своем самолюбии, конечно, с ним насмерть поссорится за подобное предложение…
– Ну и черт с ними!
Багрецов был особенно зол: не переставая наблюдать за собой, он немало был поражен сердечным волнением – чувством, давно необычным, которое не оставляло его при мысли о Бенедетте.
«Недостает, чтобы я в это дело ввязался!» – подумал с досадою Багрецов и тут же невольно сказал Иванову:
– Я попытаюсь добиться помощи у Волконской, но без свидетелей…
Иванов пустился обнимать его и благодарить, будто он делал ему личное большое одолжение. И, конечно, так было: Багрецов снимал с нежной совести этого чувствительного человека то, что в нем порождало непосильное чувство ответственности.
Отец Багрецова, живя в Италии, близко сошелся с отцом княгини Волконской. Будучи на много его моложе, он испытывал род юношеского ему поклонения, восхищаясь необычайной просвещенностью, изяществом, грансеньерством князя. Тем более что по сухости своей природы он подобных размягчающих чувств не любил испытывать по адресу пола слабейшего, боясь утратить свободу.
Княгиня Зенеида была тогда уж подростком и отлично запомнила красивого юношу. Как-то она даже намекнула Багрецову, что отец его был ее первой и, вероятно, единственной, несчастной любовью.
Багрецов помнил с детства рассказы об уме и пышности старого князя и почему-то очень раздражительные отзывы теток о молодой княжне Зенеиде. Одна особенно едко приводила слова фрейлины Волковой другой светской даме, Ланской, по поводу поведения княжны на Воробьевых горах при закладке храма Спасителя: «Уж так-то компрометировать себя, как она с синьором Барберини! Ведь уехала с ним в Одессу. Ей мало и горя, что сам государь недоволен».
Багрецов шагал к вилле Волконской и думал о том, какое бы это было счастье, если б он действительно мог любить Бенедетту. Но нет… Он знал слишком трезво, что за чувство им движет… Все та же капризная жажда власти, что гнала деда с полком неприступные брать высоты, гнала отца в увлечении модным научным вопросом – за шальные деньги выписывать негров, венчать их силком в церкви с девками, за каждого ребенка шоколадного цвета выдавать премию…
Честолюбие военное и штатское было чуждо Глебу Ивановичу, но в жизни себя ощущал он хозяином. Да, так было с юности…
Багрецов вдруг, как вчерашний, припомнил один случай с отцом. Старик в тех же целях естествоиспытателя принудил обвенчаться свою побочную дочь Анну, существо недалекое и забитое, с псаломщиком сельской церкви, жадно ожидая, как живописно сам говорил, чем отрыгнется военное семя предков в кутейных кровях псаломщика. Потомства не последовало. Но назло чванным теткам старик ежедневно приказывал лакею звать «зятя» на бостон. Изрядно подпоив дьячка, старик говорил: «А ну, дьяче, дерни-ка мне Иону во чреве китове, али Троицу фигурально».
Закрывал дьяк руками лицо: «Вот он един-с».
И, вдруг развернув на обе щеки ладони, сияя покрасневшим от жертвы Бахусу носом: «А вот он, между протчим, и троичен в естестве-с».
Как-то, идя за книжкой в библиотеку, Глеб Иванович наткнулся на эти увеселения, пришел в мгновенную ярость, схватил, что мелькнулось в глаза, – большой хлебный нож и кинулся на отца.
Все помертвели. Старик вовремя отскочил. Очень бледный, сказал: «Уважаю вас, Глеб Иванович, и при вас скоморошить не стану».
Слово сдержал, но до последнего приезда из Академии сына звал его на «вы» и по имени-отчеству, как бы тем закрепляя свое от него отчуждение.
Багрецов так погрузился в прошлое, что очнулся, лишь споткнувшись об обломок капители, нежданно забелевший в изумрудной зелени. Он уже давно был в парке княгини и беззаконно топтал ее чудесные травы, сбившись с тропы. Багрецов решил войти в виллу без доклада, почему-то уверенный, что встретит княгиню в парке. И правда: белое платье уже мелькнуло ему в четырехугольном дворике, обсаженном густо лозами.
Княгиня была одна на скамейке. В руках она держала кожаную золотообрезную книгу. «Фома Кемпийокий», – угадал Багрецов. Глаза ее смотрели вдаль, в голубое Альбано, и полны были грусти невыразимой.
Уважая ее печаль, Багрецов в нерешимости остановился. Княгиня сама его увидала. Обыкновенно столь сдержанная, ушедшая в свою особую жизнь, она вдруг в детской доверчивости, как бы не в силах удержать радость, пошла к нему навстречу, протянув обе руки.
Багрецов смутился, что княгиня по близорукости его спутала с кем-либо иным и сейчас он попадет в гнуснейшее положение, определяемое французами непереводимым словом – ridicule.
Изумление его возросло, когда княгиня заговорила:
– О, как хорошо, что это именно вы, вы – русский, и через Татищевых будто бы даже родной. Не правда ли? К тому же образ вашего батюшки со мной навсегда…
Она улыбнулась тою улыбкой, которая, должно быть, некогда кружила головы поэтам, и проговорила с нежною грустью:
– Есть минуты, когда сердце так слабо, что хочет только родного по языку, родного по крови, по родине.
Багрецов вмиг представил себе лицо ее молодым, как он видел его на картине Брюллова: огромные, голубые как небо глаза, сияющие, ликующие вдохновением, золотистые, отлетевшие под зефиром кудри, благородство и нежность сверкающего умом белоснежного лба и эта несравненная легкость, как бы крылатость и сейчас тонкого, стройного стана.
– Предо мной воскресло мое прошлое с такой силой, какой я в нем и предположить не могла. И знаете что? Москва и два вечера у нас, на Тверской… Но присядем здесь.
Она опустилась на скамью в густой беседке вьющихся роз.
– Пушкина, едва привезенного фельдъегерем из двухлетней ссылки в Михайловском, привел ко мне вдруг Соболевский. Я пела ему. О, как он слушал… Румянец то вспыхивал, то угасал на его необыкновенном лице. Так выражалось у него всякое сильное волнение. И поверьте: я пела ему лучше, нежели четырем императорам на Венском конгрессе со всею их свитою. Это была его элегия, положенная на музыку композитором Геништою: «Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман…»
А торжество мое, когда я получила поэму «Цыганы» с большим листом почтовой бумаги, где его крупным, размашистым почерком написаны были единственные по гармонии стихи…
– Я их помню, – сказал Багрецов и, заражаясь ее волнением, понизив голос, сказал:
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы,
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновенья…
Он прочел до конца чудесное посвящение. Слезы брызнули из прекрасных глаз «северной Коринны».
– А второй незабвенный вечер, – сказала она, – это когда Мари Волконская приезжала проститься. Она ехала к мужу, в снежную могилу Сибири, где погребены были декабристы. Избранной музыкой хотели мы ей, музыкантше, усладить горечь разлуки с сыном, благословить ее на долгие годы страданий.
Как сейчас слышу: я пою отрывок из Agnès, вот я его оборвала в том месте, где несчастная дочь просит отца простить ее. Внезапно я сделала сближение горя Алисы с горем Мари, которая ехала к мужу против воли отца, и рыдания сжали мне горло. Я кинулась на шею несчастной Мари, и, заливаясь слезами, мы обнялись.
Горькие и светлые, о, незабвенные дни на родине, в этом белоколонном доме на Тверской…
Княгиня закрыла глаза белым платком. Багрецов вдруг догадался, что с ней приключилось что-то необычное: быть может, ей нужна помощь. Багрецов, растроганный, с глубоким сочувствием сказал:
– Княгиня, как соотечественнику, как сыну друга вашего дома и, если разрешаете, – родне, доверьтесь мне, скажите, что с вами случилось?
Есть простые, задушевные звуки, пред которыми самые скрытные, окруженные загородками люди выходят из своего уединения. Княгиня, по природе полная доверия и прелестной доброжелательности к людям, вдруг сбросила запуганность последних лет, забыла горечь опыта, клевету близких, угрозы муками ада, гибелью души, всю тяжкую эгиду черных сутан и, кладя руку на руку Багрецова, с забытым доверием сказала:
– Мой духовник передал мне вчера постановление святой коллегии в ответ на мою просьбу похоронить меня в церкви святого Анастасия, где хранятся сердца пап со времени Сикста. Но под каким условием они согласны на это! О, как мне оно тяжко! Вообразите, под тем условием, если я собственноручно подпишу вот под этим документом свое имя.
Княгиня вынула из книги лист крепкой белой бумаги и, не в силах прочесть вслух, только сказала:
– Вот…
Багрецов прочел:
«Склеп для праха католиков из русских княжеских родов Белосельских-Белозерских и Волконских, которые желают, чтобы тела их лежали у подножия, где погребены сердца римских пап, дабы протестовать и загладить от имени всей России ее величайший грех, что она не признает римского папу как единого главу всей церкви и наместника бога на земле».
Багрецов был смущен. Он не мог понять муки княгини. Ему самому было так безразлично, где и как зароют его прах, а папы, бывшие и грядущие, казались одной бутафорией. Он молчал, понурив голову.
А княгиня сквозь слезы продолжала таким голосом, каким говорит человек о самом заветном, за что ему умереть:
– О, как мне тяжело принять этот приказ. Мне так… будто, подписав его, я предам свою родину. Может, это только соблазн, минута слабости, и, не появись вы сейчас, я бы справилась с собой.
Багрецову стало томительно душно, его вдруг потянуло с такой неудержимой силой к яркой, к солнечной Бенедетте, что, со всем почтением целуя руку Волконской, он горячо сказал:
– Княгиня, сама судьба, а по-вашему сам бог привел меня к вам в ту минуту, когда вы доступны, как все смертные, слабости, колебаниям и боли. Я неверующий и, простите меня, ничем не могу помочь в вашем деле. Наблюдал же я в своей жизни одно: если один человек действительно приходит на помощь другому – он тем самым множит и свою внутреннюю силу. Княгиня, будьте великодушны! Вы страдаете сами, облегчите ж страданье другого… упросите отпустить из тюрьмы Бенедетту, молодую итальянку; сестру того Доменико, который здесь недавно у вас так нашумел…
Кроме того, снимите горькое подозрение со своего дома. Ведь наутро, после речей Доменико у вас, был приказ о строжайшем заключении его сестры с лишением ее свиданий. Все это относят на счет вашего духовника, княгиня, с которым столкнулся Доменико, произнося на акведуке свои пламенные речи о свободе Италии.
Княгиня, если у вас, душой и телом предавшейся католицизму, все еще не угасла любовь к России… во имя сегодняшней вашей муки, поймите же, посочувствуйте пламенной страсти итальянца к его действительно истерзанной родине!
Во время речи Багрецова княгиня заметно бледнела, голова ее гордо откинулась назад, брезгливость и гнев сверкнули в потемневших глазах:
– Вы мне даете слово, что не введены в обман? – воскликнула она. – Вы можете заверить честью, что этой девушке свиданья запрещены? И это после… после посещения моей виллы?
– Клянусь в том, княгиня! Но вы легко можете это проверить, послав доверенное вам лицо с запиской и передачей чего-либо для девушки.
– Это ужасно, – прошептала княгиня, – мне обещано было как раз обратное. Но прощайте, мой друг… Мне сейчас надо остаться одной. Обещаю вам твердо: эта девушка в скором времени будет на свободе! А вас, в свою очередь, прошу забыть мой откровенный с вами разговор…
Багрецов еще склонился над рукой княгини и ушел с виллы Волконской как юноша, полный забытых надежд.
Однако прошло несколько недель, а все оставалось по-прежнему: Бенедетта сидела в тюрьме, и свидания с ней были запрещены. Багрецов сунулся было на виллу: один раз ему сказали, что княгини нет дома, другой – что не велела никого принимать. Багрецов хотел послать Гоголя или Иванова, но первый внезапно уехал, а второй, пользуясь счастливым промежутком здоровья, затворился в своей мастерской. Багрецов знал, что если сейчас добраться к Иванову через все запоры – все равно он не поймет ни слова о чем-либо постороннем своей работе. Стипендия его иссякла, и он должен был день и ночь двигать картину, чтобы можно было просить о новом продлении пенсии у государя. Николай I собирался приехать в Рим.
Как-то под вечер Багрецов встретил княгиню Волконскую на Пинчио. Она была в коляске с своим духовником. На его поклон она не ответила. Не заметила вовсе или было ей так внушено иезуитами, обступившими ее тесней прежнего?
Багрецов вспомнил ее слезы и колебания и злобно сказал: «Ну, дело в шляпе, княгиня погребена будет в церкви святого Анастасия!»
От препятствий чувство к Бенедетте, пусть воображаемое, становилось мучением. Он кинулся к синьоре Пепите, узнать хоть про Джулию, – оказалось, что и той нету в Риме, – уехала временно к брату в Реджио.
Наконец, ночью 13 декабря приехал в Рим император Николай из Чивита-Веккиа через станцию Поло.
Какая буря была в эту ночь! Ветром сломало немало чудесных старых маслин. Кипарисы стояли растрепанные; нарушив свою конусообразно-строгую форму, они походили на гигантские веники. Государь в карете посланника на превосходных серых лошадях проехал днем в Ватикан к папе.
Багрецов бродил по площади св. Петра и мельком видел его. Он был в конногвардейском мундире, молодцеватый, громадный, с волнующим и повелительным взором. Римляне пришли в восторг от его роста и выправки.
Колоннада Бернини набилась зеваками. Широкие ступени лестницы расцветились нарядными офицерами в затянутых до удушья мундирах. Как попугаи, пестрые швейцарцы папской гвардии, сверкая серебром алебард, пугали ими напиравший народ для очищения свободного схода царю.
Николай показался на лестнице. Его, видимо, тешил эффект появления в вечном городе. А римляне, как их древние предки, всегда жадные до зрелищ, всегда пьяные солнцем и душистым кианти, что было духа кричали: «Evviva!»
Какой-то транстеверинец, такой же большой, как и царь, с седыми кудрями, в белоснежной рубахе, с перекинутой через плечо синей бархатной курткой, всплеснув руками, воскликнул:
– О, если б ты был нашим государем!
Тут нарядные дамы, и русские и итальянские, потеряли всякое самообладание и принялись бросать пред лошадьми севшего в карету царя – одна пред другою: розы, шитые шелком платки, разноцветные шарфы… Казалось, они готовы были сами кинуться под серых коней, как кидаются исступленные Индии под колесницу Джаггернаута.
Глядя на эти восторги толпы, Багрецов в сотый раз задавал себе вопрос: какие качества толкают людей на подобное поклонение? И что за дикая потребность выражать его ничем не заслужившему, совершенно постороннему человеку? Ужели только за высокий его рост и за сан монарха?
Всем художникам, русским пенсионерам Академии, равно как и проживающим здесь на собственный счет, было необходимо представиться государю немедленно в соборе св. Петра. Веселой гурьбой поспешили туда.
Государь явился уже в штатском: он был в коричневом сюртуке, застегнутом на все пуговицы, в черном галстуке, без воротничков. Его сопровождал по храму граф Федор Толстой.
Представившихся было человек около двадцати: медленно и чинно, как всем по инструкции рекомендовалось, они подошли.
Государь окинул пенсионеров быстрым сверкающим взглядом и вдруг недовольно рванул:
– Слыхать, шибко гуляете?
– Но в такой же мере и работают, – вступил немедленно добродушный Толстой.
Государь круто повернулся и быстро, по-военному, словно делал смотр, стал переходить от одного произведения к другому, нигде не задерживаясь. От времени до времени он бросал Толстому в короткой повелительной форме приказы, слегка указуя рукой на предмет:
– Поручить сделать копию!
В коричневом суконном сюртуке большая фигура царя казалась чугунной. Он был как бы собственный памятник, сошедший с пьедестала.
Багрецова поразило обиженное и вместе надменное выражение, лица его, когда он сказал, подняв голову на купол Петра:
– И у нас бы такой храм построить! Желательно, чтоб при мне…
– Ваше величество, но это чудо строилось веками и сейчас не закончено, – деликатно начал Толстой.
– Полно вам, – оборвал государь, – вы всегда говорите одно и то же!
И уже с полным неудовольствием, войдя внутрь и воззрясь в пол, воскликнул:
– Так это-то мой Исаакий? Неужто так мал?
Самолюбие царя было задето сравнительной линией соборов, вычерченной на полу, где размеры Исаакия пред собором Петра были просто мизерны.
– Быть не может… – еще раз повторил царь и вскоре пошел к выходу.
Все приделы храма и ниши заполнены были монсиньорами и аббатами.
Царь вышел из собора и уехал. Художники повалили в остерию Лепре обменяться впечатлениями и узнать, кто получит какой заказ.
Багрецов сам больше не видел государя, но получил живейшее представление о дальнейшем его пребывании в Риме в остерии Лепре, куда через несколько дней попал в урочное время.
Художники прежде всего ругательски ругали Киля, своего заведующего. Это был упрямый немец, дилетант в живописи, приставленный, как унтер, к пенсионерам с инструкцией свыше «подгонять» их в работе.
– Проклятый немец, – кричал Рамазанов, – затеял нашу выставку, слыхал ты – где? – кинулся он к Багрецову, еще хмельной со вчерашней попойки. – В палаццо Фарнезино, где фрески Рафаэля! Да чья живопись выстоит против них?
– А ведь предлагали ему устроить выставку в мастерской Иванова, тем более, что его громаду с места не сдвинешь… а исторических живописцев у нас всего – он да Воробьев, да и тот в Палермо.
– Тем больше вам сраму, что подчинились зловредному Килю, – кричал Рамазанов, – состряпали по его немецкому рецепту этакое рагу «aus nichts»[19] выставку из ничего…
– Скульпторов небось не переломал: не понесли работы из глины! Все как один отрезали: сквасится по дороге глина, а грязищи царь довольно помесит на римских улицах.
– Что за цель была у директора, что за цель? – подозрительно повторял измученный, побледневший Иванов, кутаясь в свой вечный плащ на красной подбивке. – Одурить пред царем художников русских! Хорошо хотя, что Михайлов впросак не попал, – не избыть бы беды.
– А что же Михайлов?
– Да вот он и сам, пусть расскажет.
В остерию вбежал Михайлов, беспечнейший из художников, знаменитый тем, что терял целые папки драгоценных рисунков. Все закричали ему:
– Ladro, ladro…[20]
Он хохотал, крича всех громче:
– Ладра – ладрой, а зато взыскан царским заказом!
Михайлова обступили, требовали подробностей про анекдот, с ним приключившийся.
– Я, как, братцы, знаете, копировал в монастыре святого Мартина с Рибейры и хотя знал, что царь ко мне будет, пошел, как обычно, пешком, думая поспеть вовремя. Вдруг жарит коляска, а в ней неаполитанский король да с нашим. Пропала головушка! Без крыльев не долетишь. Гляжу, на привязи чей-то осел. Я вмиг на него, и хлыстом… Тут хозяин осла выбежал, орут итальянские бабы не хуже нашинских, мальчишки с свистками, витурины с бичами… Вор, дескать, ladro… За одну минуточку пред монархом приехал, влез на леса. Тут царь входит, спрашивает: «Для кого делаешь копию?» А я от бега дышу, как мех. Царь принял за волнение. Он это любит. «Не робей, говорит, Академии другую сделаешь, эту – мне».
– А сознайся, что хозяин осла тебе здорово всыпал?
– Не поспел… откупился я немалым количеством скуди. Вот у Ставассера похуже дела, – слыхать, карабинеров звал. Расскажи-ка, Ставассер!
– Зачем звал карабинеров? Кто ж твои статуи грабил?
– Самого чуть не разбили… Сижу в студии над своей нимфой, вдруг вбегают, кричат: «К вам император!» Ну, вошел со свитой, весьма похвалил и велел выполнить в мраморе. Тут душа ушла у меня было в пятки, да спасибо графу Орлову – спас. Царь говорит: «Делай для меня побольше размерами!» – «Воля вашего величества, – бормочу, – но я держал величину в натуру, и сюжет этот большего размера не терпит…»
Тут граф Орлов немедля взял мою сторону, и царь, как кость, милостиво бросил: «Делай как знаешь, главное, поскорей! И готовься: желаю тебя видеть в работе в присутствии твоей прекрасной натурщицы».
При этом адъютант, сопровождавший царя, так погано влип глазами в статую, что царь ему сказал: «А тебя не возьму, скажу все твоей жене, смотри – приревнует».
А когда царь уехал, вся улица ринулась на мою мастерскую требовать «скуди», которые царь будто бы мне оставил для раздачи народу. Уж не знаю, кто пустил этот слух. Грозились всё изломать. Карабинеры чуть отстояли. Что касается Джулии…
– Дальнейшее мы знаем сами, – вмешался Шехеразада, – фортуна улыбнулась Джулии… Оный адъютант свел с ней знакомство и уже раскошелился поднести ей сияющий рубинами браслет и ангажемент в Россию… А там, гляди, взберется повыше. Адъютант лишь первая ступень.
– Нет, нет, римлянка не то, что парижанка, – вступился Рамазанов. – Джулия, узнав, что царь ее желает видеть в райском виде, сказалась больною. Я уверен, что покуда царь будет здесь, она позировать мне не станет.
– Однакож у тебя на дому бриллианты приняла! Как же, хвастала тетушка!.. – прогнусил вдруг Пашка-химик.
Багрецова взволновал разговор.
– Но ведь Джулии здесь не было? – вмешался он. – Она уехала к брату…
– Уже с неделю как она на Реджио, – подскочил Пашка-химик, – и, сохраняя невинность, получает рубины…
Пашка продолжал какую-то гнусность. Багрецов уже не слушал. Он вышел из остерии и закоулками прошел к квартире, где, узнал он, жил прежде Доменико с двумя сестрами.
В пролете ворот, темном от обилия цветущих гроздей глициний и плюща, заткавшего всю стену, Багрецов столкнулся носом к носу с длинноногим и несомненно военным человеком. У прирожденных штатских не бывает в сюртуке грудь колесом и так не подрагивают на ходу плечи, привыкшие к кудрявым эполетам.
Багрецов догадался, что это и был адъютант, подаривший браслет Джулии. Непонятное чувство ужалило Багрецова. Он с изумлением подумал: «Ужели ревность?» И странней еще: он вовсе не думал о Джулии. Он бесился из-за чести дома… из-за того, что сестра Джулии не кто-нибудь, а она – Бенедетта.
Тетка, ведьмистая и страшная, как все старухи-итальянки, не хотела впускать Багрецова.
– Джулия в жестокой малярии… ой, ой, какой жестокой!
Он дал старухе золотой, и, погано шамкая ему в ухо, она зашептала:
– Джулия на работе в студии, сейчас туда направился высокородный русский принчипе…
– Ну, хоть он и долговяз, а я попаду раньше его, – сказал Багрецов.
И, чуть не давя полуголых чернокудрых ребятишек, он напрямик побежал в мастерскую Рамазанова.
Но художник заперся. Тщетны были стуки. Он так увлекся работой, что не слыхал ничего. Вскоре подошел и адъютант. Багрецов, спрятавшись в кустах, имел удовольствие видеть, как, наконец, вышедший на стук из кухни мальчишка-итальянец – слуга Рамазанова – сказал адъютанту, что маэстро уехал на несколько дней в Альбано. Тот в досаде пощипал усы и повернулся вспять. Багрецов, сам не зная для чего, продолжал пребывать в своей засаде.
Смеркалось. Уже заморенные зноем итальянцы заваливались спать, чтобы, пропустив час, когда минует опасность злой понтинской малярии, в ночной прохладе, забрав гитару или мандолину, бродить с возлюбленной до света. Багрецов без конца сидел на горке, в запущенном винограднике. Он решил во что бы то ни стало выследить Джулию. Он был уверен, что Рамазанов ее укрывает. Джулию он хотел расспросить о сестре. Решительно Бенедетта не была ему безразлична, особенно с тех пор, как он, приведя Доменико на виллу Волконской, тем самым невольно ухудшил ее положение в тюрьме.
Наконец, совсем поздно, действительно Джулия вышла с черного хода. Сам Рамазанов открыл ей дверь в запачканном глиной фартуке. Сперва он один выскочил на улицу, для чего-то оглядевшись во все стороны, потом выпустил ее. Джулия была в большом черном платке, зашитом шелковой гладью, какой носят вечерами на Пьяцце венецианки. Лицо ее было скрыто. Чуть сверкнул в сторону Багрецова пламенный черный глаз, и голос, полный и звонкий, который Багрецов запомнил единственным, который ни с чьим другим спутать не мог, этот голос сказал Рамазанову:
– Addio! Значит, завтра опять в этот час?
– Да, да, и опять в строгой тайне, будь покойна, – сказал Рамазанов, запирая дверь.
Багрецов в мгновенье спрыгнул с виноградника и, перерезав девушке в узкой уличке путь, схватил ее за руки и шепнул в самое ухо:
– Ты не Джулия, ты Бенедетта!
Девушка дрогнула. В нерешимости на минуту закрылась платком поплотнее, но вдруг откинула его совсем с головы на спину и, беря Багрецова под руку, сверкая зубами и глазами и всей ослепительной красотой своего лица, она бросила:
– Синьор, я Джулия, Джулия… сестра-близнец Бенедетты!
Багрецов сжал ее ручку, похолодевшую от волнения, и сказал:
– Ложь! Не поможет, я тебя узнал, ты – Бенедетта. Больше того: я тебе раскрою, каким образом ты на свободе. Это следствие моего же измышления. Не кто иной, как я, дал твоей статуеобразной сестре совет смениться с тобою платьем на свиданье, что, конечно, она и сделала.
– Остроумный совет еще не доказательство… – улыбнулась девушка; она окончательно овладела собой. – Да и где у вас доказательство, что я не я, а моя сестра? Ваша любезная характеристика? Но, быть может, я статуя только по отношению к вам!
Багрецов опешил. В самом деле: где же доказательства? Уж не то ли, что его сердце билось с давно забытой силой, что безошибочно знало оно: эта девушка – Бенедетта! Не вступая в пререкания, он стал ей рассказывать про тот вечер, когда он привел на виллу Волконской Доменико, про неловкую попытку Иванова замолвить за нее пред княгиней, про общий ужас, когда наутро оказалось, что попытка спасти только ухудшила положение. Багрецов рассказал ей про вести, которые принес в остерию Шехеразада, про предложение адъютанта и его сияющий рубинами браслет…
Не будучи ни сват, ни брат, Багрецов почему-то ощутил необыкновенный прилив красноречия и яростно изобразил весь стыд такого падения для политической героини.
– Даже во имя дела? – спросила девушка, густо вспыхнув, и приостановила шаги.
Они проходили по совершенному пустырю, где уже солнце выжгло зелень, кустарники были обглоданы козами, и только камни с древними надписями стояли то тут, то там со времени императоров. Ничто не напоминало о современности. Какие-то волнующие, неуловимые сознанием грезы охватили Багрецова. Сумерки превращались в ночь так быстро, как в грозу голубизна неба сменяется лиловыми тучами. Багрецову уже неясны были ресницы на опущенных и, как он угадывал, гневных глазах его спутницы. Пытаясь разбить свою зачарованность Бенедеттой, из самолюбия не желая терять давно, впрочем, опостылевшую ему свободу, он продолжал со страстью заправского моралиста:
– Есть дела, которые пачкают, – опять Багрецов внезапно развил мысль с такой беспощадностью, что маленькая ручка, зажатая в его руке, вдруг задрожала и выскользнула.
– Если вы посмели так со мной говорить, то вы теперь должны мне и помочь избежать позора… Иначе вы – презренный болтун!
Девушка была бледна от гнева. Ее лицо, обрамленное черным шелком платка, было как у «Юдифи» Аллори с головой Олоферна.
Окончательно утвержденный в своей догадке, опять сжимая ей до боли руки, Багрецов ответил:
– Клянусь честью, я дам тебе сколько надо для выкупа твоей сестры, для дел «Юной Италии», но пошли к черту долговязого адъютанта и признайся мне, что ты Бенедетта!
– Да, я – Бенедетта, – сказала она и, опускаясь на камень в этой пустынной местности, залилась вдруг слезами. – Я так измучилась…
Багрецов обнял Бенедетту. Он так был благодарен, что полюбил ее, не зная даже, что любит.
– Я ненавижу этого адъютанта, – прошептала Бенедетта, – я бы хотела вернуть ему тот браслет… но Барбара уже его продала. Ведь она мне вовсе не тетка, а совсем чужая. У меня не было чем ей заплатить, а брат мой Доменико тоже в тюрьме, в Реджио.
– Не беспокойся ни о чем, дорогая, – сказал ей Багрецов, – браслет, разумеется, куплен на Корсо, где их делают дюжинами, мы вместе поищем, и я его обратно отошлю адъютанту. Но надо, чтобы ты от Барбары немедленно переехала ко мне. Ты не беспокойся, – поспешил он ответить на опасливый пытающий взор, – у тебя будет полная свобода и отдельный выход. Мы можем даже не видаться совсем. Ведь я прочных романов заводить не охотник, а на легкий ты сама не пойдешь. Пусть лучше нас свяжет интерес к «Юной Италии».
– О, как вы благородны! – прошептала она. – Да, конечно, я сейчас водворюсь у вас. Я боюсь, что синьора Барбара подкуплена тем офицером.
Багрецов привел к себе в дом Бенедетту, которую представил своему maestro di casa как Джулию, нанятую им портниху для шитья белья.
Maestro di casa, чудесный старик, пробормотал:
– Знаем мы этих портних. Девушку-сироту обидеть нетрудно.
Отличное начало: старик, у которого внучку загубили солдаты швейцарской гвардии, будет особенно досматривать за Бенедеттой, обрадовался Багрецов, ведь только это и было нужно. А сама Бенедетта была совсем покорена его благородством.
Багрецов счел полезным для дела рассказать старику, про происки адъютанта, чтобы на случай, если бы он явился, тот не допустил его до гостьи.
– Да я его, eccelenza[21], будьте покойны, спущу с лестницы, – погладил он нежно по голове Бенедетту, вспомнив собственную обиженную внучку.
19
Из ничего (нем.).
20
Вор, вор (итал.).
21
Ваше сиятельство (итал.).