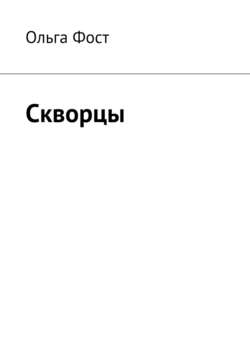Читать книгу Скворцы - Ольга Фост - Страница 2
Первая часть
ОглавлениеБывают на земле вечера, что ложатся на усталые плечи горизонта тонкой мерцающей шалью, и так упоителен в эти часы воздух, так нежен, словно первое прикосновение влюблённых губ – ещё не поцелуй, но уже не просто ласка. Легко в такие вечера сквозь пьянящий этот воздух лететь, то взмывая восхищённо на теплых его волнах, то бесшабашно ныряя вослед прохладным. Внизу плещется темнота, и играют на ней, переливаются золотистыми искрами созвездия городов человеческих. Перемигиваются с огоньками, что светят из немыслимого приволья ночи, проступающей сквозь призрачный свет уходящего дня, манят уютным теплом далёких окон.
Её окно я всегда нахожу сразу. Не спутаю ни с каким иным – его свет, словно рука друга. Его свет, словно голос, которому достаточно только позвать. Вот оно – на семнадцатом этаже, под самой крышей, в торце дома.
Дом и сейчас неплохо смотрится на фоне окруживших его высотных новостроек – как джентльмен более чем средних лет на балу дебютанток сезона. А когда-то он был статен, молод, и жизнь бурлила в нём так, что обитатели нижних этажей слышали, как танцуют самый лучший танец в мире соседи с верхних – и наоборот. Слышали – и сами подстраивались под его упоительный ритм.
Жарче всего зажигали в угловой квартире с этажа под крышей, а уж оттуда молниями расходилась эта, единственная зараза, от которой нет лекарства. От которой не надо лекарства.
Еженощно юный дом томно постанывал перекрытиями – поэтому самой распространенной проблемой квартирантов были вечно подтекающие краны и пятна на крахмальных простынях потолков. Что, разумеется, некоторых жильцов откровенно раздражало. Та же рыжая медсестра с третьего этажа ехидно выпускала вместе с дымком:
– Доиграются они там. Бе-пэ-пэ-пэ ещё никто не отменял. Набегаются по диспансерам, набегаются.
А соседка с двенадцатого, счастливая обладательница огромного мраморного дога, злорадно кивала в такт этим словам. Но бессильна была их ревность: очень даже известные силы хранили тех, кто раскачивал дом от крыши и до подвала.
Сашка и Алька обожали целоваться на балконе. С семнадцатого этажа было видно далеко-далеко: ясным днём – даже купол Ивана Великого. Весенними ночами слаженный хор лягушек и соловьев с поросших ивами берегов Сетуни мешал спать всем, кроме этих двоих. Волынский лес, что таит в своей глубине самые горькие кремлевские тайны, лежал перед ними, как бархатное покрывало. И хмелела от их поцелуев высота, и вырастали крылья у любовавшегося ими простора. Их не стесняло ничто – даже немеряный бабушкин гардероб, выпихнутый прочь из квартиры отчаянными усилиями её наследников сотоварищи. Даже бутылки из-под пива, в изобилии населявшие тот же балкон благодаря регулярным заседаниям кухонного префклуба, не отвлекали этих двух Шур от главного.
– Народ, там конец марта, если вы не заметили, – балконная дверь приоткрылась на полтора деликатных сантиметра, как раз, чтобы кончику острого Лисиного носа проникнуть в эту щёлочку.
Сашка ничего не ответил, зато выразительно посмотрел на сестрин нос, отчего тот даже слегка порозовел. Алька же, покаянно вздохнув, призналась, что чуть раньше стащила из гардероба пальто из толстенного драпа и с каракулевым воротником.
– Угу, уже поняла, – Лиса демонстративно сжала пальчиками свои аристократически узкие ноздри, и поскорее захлопнула балконную дверь, чтобы нафталиновую вонищу не натянуло в кухню: в духовке у Лисы подходила пицца. Страшно гордая своим кулинарным подвигом, маленькая хозяйка этого шального скворечника никак не стремилась смешивать амбрэ отжившего прошлого с головокружительным запахом горячего сыра. Аромат навевал мечты о светлом будущем и никогда не виденном Средиземноморье. А если влюблённым романтикам хорошо и в нафталине – ну и пжалста.
Мысли двадцатилетней девчонки, как известно, мелькают проворными ласточками, поэтому Лисе вдруг почему-то вспомнилось Средиземье из недавно прочитанной книги и целую сигарету удерживало стайку ласточек возле себя.
– Пирог пригорит, госпожа фантазёрка! – свежая струя табачного дыма, коснувшаяся чуткого нюха Кота, оторвала парня от рычажков эквалайзера и выманила на кухню, – с тобой за компанию потравиться, что ли?
– Пирогом или куревом? – хлопоча у плиты, привычно вступила Лиса в пикировку: краем глаза она приметила, что излюбленный Котом «Беломор» уже наготове.
Разве можно упускать поманивший шанс? Чтобы студент четвёртого курса журфака – и не ответил на вызов женщины, особенно, если та явно сама не прочь? Да ни в жисть!
– О-о, высокочтимая и несравненная жрица сего, – он бухнулся перед Лисой на колени, глянул ей в глаза и потерял мысль, – э-э-э… сего храма…
– Пьянства и разврата, – в тон ему подсказала Лиса.
Но Кота не так-то просто было сбить. Он поднял взгляд к пятну на потолке и недостающее вдохновение обрёл там:
– Жрица храма вечно голодных панков и отощавших порнократов! Приму от тебя даже яд, ибо твоею властию, солнце моё незакатное, будет он во благо моему скорбящему пузу, – громогласно завершил Кот-Кирка свою выходную арию, выразительно шлепнул себя по животу и защёлкал перед беломориной вынутой из кармана Зиппой. Зажигалка явно вела родословную из окрестностей Малой Арнаутской, поэтому огонёк выскочил лишь с шестого щелчка. Терпкое облачко, выданное папиросой, совсем было спрятало Кирилла, но он тут же разогнал дым ладонью, чтобы посмотреть, дошёл ли до Лисы его намёк.
Судя по всему, дошёл ещё прежде, чем прозвучал: она уже поставила на стол пять тарелок и с самым невозмутимым видом разрезала то, что торжественно именовала пиццей. И в самом деле, ну какой могла быть пицца в России в марте одна тысяча девятьсот девяносто третьего года? Правильно, пицца по-русски, в чугунной сковородке с высокими бортиками.
На толстый слой дрожжевого теста (спасибо маме: прислала с оказией гуманитарную помощь, и упаковку сухих дрожжей в том числе), так вот, на тесто Лиса обычно клала обжаренный в каком-нибудь масле репчатый лук. Сверху это дело поливала болгарским кетчупом. Потом брала пару сосисок, резала мелкими кубиками. Иногда – кружочками, так больше нравилось ненаглядным Шурам. Затем Лиса выкладывала всю эту красоту на кетчуп и лук. Потом… о, потом следовала главная фишка русской пиццы. Верно – не маслины. А соленные Кирюхиной бабушкой огурцы! Правда, рассол из них, перед тем как нарезать, надо отжимать хорошенько, – а то потекут, тесто расквасят, оно и не пропечётся толком. И, наконец, сыр! Его Лиса натирала на крупной тёрке. Обычный сыр, «Советский». Можно и «Пошехонский», который, в отличие от «Советского», в магазинах – почти всегда. Тёртый сыр щедрой рукой сеялся на всю предыдущую окрошку, и сковородка с разноцветным содержимым следовала в разогретую заранее духовку. На пару сигарет, не дольше.
– Готово! – провозгласила Лиса, – давай, Кот, кличь Брауна, а то вечно этот бизнесмен со своим телефоном в обнимку – даже не ест толком, исхудал уже совсем.
Парень сглотнул слюнки и раскрыл было рот, чтобы провести ликбез на тему того, почему так исхудал Браун, но спохватился, что нечего посвящать в разные мужские дела женщину. Даже если эта женщина – Лиса. А может быть, именно потому, – в свои без малого двадцать два Кирка Васильев уже немало соображал, хоть и был по жизни обаятельным рыжим разгильдяем, за что и схлопотал от Лисы прозвище.
Лиса и Браун уже почти два месяца как тихо и мирно остались друзьями. Однако, если бы Кирилл хуже знал сестру своего друга, он бы принял её теперешнюю веселую невозмутимость за чистую монету. Хотя внешне всё обстояло просто – Браун захотел свободы, и Лиса в ответ лишь плечом повела: надо – ступай. Отчего девушка не стала цепляться за умницу, который к тому же всегда при деньгах, но при этом упросила брата позволить Брауну по-прежнему жить у них, Кот мог только догадываться. Из Лисы будущий рыцарь золотого пера даже после двух совместно распитых бутылок вина не смог вытянуть ни слова: она всегда предпочитала слушать других, не то, что Сашка – хохмач, сорви-башня и ходячая девичья грёза.
Кирка на всех парах помчался в залу и застал Брауна, в миру более известного как Борька Васин, на излюбленном месте: чернявый, худощавый и невысокий, тот стоял у окна и смотрел вдаль. Плечом к уху прижата диковинка – труба радиотелефона с длиннющей антенной, в руках – неизменная записная книжка, более похожая на гроссбух.
– Замётано, – заканчивал Браун очередные переговоры, – в четверг мои бойцы к вам стартуют.
Больше всего Кот ценил Брауна за умение всех построить, – сам-то он, в лучшем случае, умел строить только себя, и то не всегда – только когда очень нужно. А вот манеру Брауна небрежным жестом доставать пачку купюр из заднего кармана брюк просто терпеть не мог. Борька же ну никак не мог отказать себе в этой маленькой слабости: мать растила его с братом совсем одна, и до последнего времени они жили почти в нищете. Полегче стало, когда Браун окончил с золотой медалью школу в родном подмосковном городке и поступил на экономический факультет МГУ. Сам. Без подтяжки. И без лохматой лапы. Что уже само по себе удивительно. Впрочем, в конце восьмидесятых и не такие чудеса случались…
Случилось оно и у Лисы с Сашкой: тринадцать лет вдовевшая, в один прекрасный августовский день мать вернулась с курорта под ручку с неким Михаилом Леонидовичем, которого представила ребятам и бабушке, как жениха. Поставила перед фактом – и баста, не обсуждается. Сашка, которому не привыкать было к жёсткому характеру матери, принял тогда её выбор с олимпийским спокойствием юноши, которому страх увядающей женщины перед одинокой старостью не знаком даже в теории. Лиса тоже ничего не сказала, но в глазах дочери Татьяна Николаевна увидела не просто согласие с выбором – понимание.
А вот спустя полтора года, за одним особенно вкусным ужином – сосиски и картошка по-французски (то есть, в мучном соусе) – мать их удивила по-настоящему:
– Михаила Леонидовича давний друг пригласил за границу, поработать, лекции почитать. Мы с ним улетаем на следующей неделе.
И блестящими глазами посмотрела на мужа.
Тогда Сашка сорвался. Взвихрился за ним сквознячок, когда он шагнул в коридор и схватил куртку. Дверью на прощание шарахнул так, что в окнах затрещали рамы.
Михаил Леонидович ободряюще похлопал супругу по руке и пошёл на балкон покурить.
А обычно молчаливая Лиса обняла Татьяну Николаевну за опущенные горестно плечи, ткнулась лицом к той в волосы за ухом и прошептала:
– Мамулик… мы уже большие – справимся. Ты не бойся за нас – езжай.
И тогда мать заплакала – этого Лиса не видела с раннего детства:
– Лесенька, ласточка моя… как же мало мы с тобой были, мало говорили. Я и не заметила, как ты выросла.
Лиса притихла и лишь слегка посапывала носом, вдыхая самый лучший в мире запах, запах, зовущий домой, – запах мамы. Татьяна Николаевна помолчала, собираясь с мыслями. И очень осторожно, чтобы не спугнуть покой дочери, вполголоса произнесла:
– Любить надо тех, от кого пахнет мылом, свежими простынями и хорошо прожаренными котлетами. Но мы почему-то всегда очень хотим любить тех, от кого веет дымом костров и пылью далёких дорог.
– Ты – об отце?
– Да, ласточка. И на чью-то беду вы с Сашкой очень на него похожи.
– Почему на беду, мама?
С тех пор миновало два февраля. В первый же год тихо-тихо угасла бабушка, и остались брат и сестра Скворцовы сами по себе – остальной родне оказалось не до них. И пришлось бы ребятам туго, если бы не повидавшая на своём тридцатилетнем веку всё, что можно и что нельзя, Нинель из соседней квартиры. Нинель научила их снимать показания счётчика, чтобы платить за электричество, мастерски изъясняться на общенародном наречии, и, случалось, подкидывала чего-нибудь съестного, – когда Лиса в очередной раз забывала пробежаться по магазинам перед лекциями в институте. А ещё проверяла иногда, чтобы посуду эти невыносимые дети мыли после употребления, никак не перед.
***
– Посуду надо мыть после употребления, – лукаво взглянула Лиса на Альку, разомлевшую от тепла и сытной пиццы а-ля рюс. Без пяти минут невестка шутливо отмахнулась от почти уже золовки:
– А мальчики на что?
Кирка отозвался тут же, умудрившись опередить самого Сашку, который только и успел, что поднять в притворном возмущении брови:
– Мальчики у вас, девочки, – и он нахально сверкнул глазами на Лису, – для того, чтобы украшать поцелуями и венками слов эти пепельные локоны! И тенистую зелень этих очей! И эти…
Договорить он не успел – Лиса фыркнула непочтительно, а Сашкина ладонь тяжело легла другу на плечо:
– Любишь женщин, Кот? Вот и давай – начни с мытья тарелок. А ты, сестра, имей в виду, этого зверя…
О чём он хотел предупредить Лису, так и осталось неизвестным: раздался протяжный, нервный звонок в дверь.
Это оказалась Нинель:
– Олеся, – Нинель была из тех немногих, кому Лиса позволяла звать себя настоящим именем, – Олесь, выручай… В коридоре света почему-то нет, и я ключ в замок вставить не могу. То ли слепая совсем, то ли безрукая уже – одно из трёх.
На звук голосов в прихожую вышли Сашка и Браун.
– Сашуль, Борик, поможете?
Браун достал из шкафа свою сумку и выудил оттуда карманный фонарь. В тусклом луче этого фонаря Сашка и обнаружил, что единственная освещавшая коридор лампочка разбита, в замке Нининой двери торчит обломок ключа, а на самой двери написано отвратительное ругательство.
– Вот раздери твою за ногу! – никогда прежде ребята не видели хохотушку и язву Нинель такой потерянной. Каштановые волосы утратили блеск, поник независимо вздёрнутый носик, и, без того миниатюрная, она показалась ещё ниже ростом. Черты лица вдруг потеряли чёткость, и сквозь отменный макияж резко проступил возраст.
Пока Браун подавленно молчал, а Кот и Сашка решали, как сподручнее выбить дверь, девчонки сосредоточенно глядели друг другу в глаза, явно что-то соображая.
– Ночуешь у нас, – у Лисы аж голос зазвенел, – разбираться, что к чему, – утром. В ЖЭК позвоним, может, там чего присоветуют. Пошли, пошли, придёшь в себя.
Браун послал Лисе странно ласковый взгляд, но она этого не заметила, под ручку увлекая Нинель во влажное тепло кухни, пропахшей ароматом небывалых стран.
Всякий, кто впервые попадал на эту кухню, на пару мгновений замирал в дверях, пытаясь привыкнуть к тому, что это – кухня. Сначала в глаза бросались надписи на стенах. Красным фломастером и щедрой Сашкиной рукой «Ум дали, дури дали!» Под ней мелким синим бесом «Моя мечта – надменна и проста» красовались Кирюхины каракули. «Небо горит – мы танцуем в огне!» – ну, это уже Лиса-алисоманка подписала. На торчавшем из стены винте, где ещё недавно крепилась разбитая упрямой Котиной башкой настенная лампа, печально болтался колокольчик. Половину обеденного стола занимали японский магнитофон и россыпь разноцветных кассет. Всем этим любовались плакаты «Арии» и портрет Кинчева, приклеенные Лисой к дверцам кухонных шкафчиков. С противоположной стены, кое-как цепляясь за высохший пластилин, на вошедшего смотрели фотографии Шевчука, Бутусова и Киссов во всей их загримированной красе. На подоконнике лежала опасно накренившаяся стопка книг – её содержимое менялось в зависимости от институтского расписания Лисы. Стопку эту с двух сторон не очень уверенно подпирали импровизированные из бутылок канделябры, похожие более на остроконечные потухшие вулканы. По балке над окном тянулся стыренный из каких-то пыльных закромов (ну, кем – и так понятно) кумач с лозунгом «За связь без брака!»
На холодильнике, на четырёх магнитных буквах из детской азбуки, висел ватман, изображавший из себя стенгазету с заголовком «Бортжурнал». Булавками к ватману крепились записки и записочки.
«Сегодня на базе не ждите, буду утром. БВ» – этот флажок в клеточку появился накануне, а Браун, как и обещал, – спозаранку. Алькин шедевр «Без меня водкой полы не мыть! Ваша ALL» просто было жалко снимать. «Лисёна, мы в рейсе до 18-го. КиС», ещё не успели убрать, хотя ребята уже пару дней как вернулись. Записка «Народ! Я в астрале, не дёргайте!», подписанная зодиакальным значком Весов с метлой вместо нижней черты, появилась ещё в зимнюю сессию, но Лиса и сейчас нередко вывешивала её на двери: курсовики и самостоятельные никто же не отменял…
***
«Если ты спросишь, что такое жизнь, раскроется за левым моим плечом крыло цвета рассветного неба. Если ты спросишь, что такое смерть, справа взметнётся кинжалом крыло белоснежное. А если ты, не спросив ничего, прижмёшь меня к сердцу, крылья в несколько взмахов поднимут нас за облака. И там я отвечу тебе, что это – любовь.
Держи меня. Крылья несут нас, пока ты веришь в них, пока я знаю, что нужно тебе моё объятие. Держи меня. Крепче. Не отпускай».
Уже давно и абсолютно без конечностей спал Браун. Ушёл ночевать к себе домой ставший вдруг странно тактичным Кот. Угомонились на своём скрипучем диванчике-книжке Алька и прижавшийся к ней всем телом Сашка. А девчонки – большая и маленькая – всё ещё сидели в прокуренной кухне под песни неведомого француза и при свете оплывающей по бутылочному горлышку свечи.
Нечто проспиртованно-красное в разговоре за жизнь исчезло из будущей стеклотары совершенно незаметно, теперь за вином с той же скоростью следовал подаренный Нинелью на Новый год вишневый ликер. Он оказался явно лишним. После подкрашенного спирта не пейте, гражданки, подслащенный спирт!
– В этом грёбаном мире все только и делают, что развлекаются друг за счет друга. Ты, Лиса, такая наивная и молодая, а вот будет тебе тридцать – и ты сама всё-о увидишь. Развлекаются, молодость себе продлить хотят! А молодость просто так назад не даётся – только если пьёшь чужую кровь, – даже во хмелю Нинель не забывала учить Лису уму-разуму.
Та попыталась что-то возразить, но ограничилась тем, что повела отрицательно ладонью.
– Да прям! Тебя пьют – и ты пьёшь! Будешь пить!
– Не буду. А ты… ты – добрая, хорошая, ты…
– Угу. Скажи-ка это той бабе, чьего мужика я трахаю. И чьи деньги мне перепадают, поняла? Мы на них вот этот самый ликер пьём!
Нинель вдруг развеселилась, поднесла рюмку к свече и попыталась чокнуться с огоньком. Лицо её окрасилось в рубиновый цвет, стало хищным:
– Всё в ажуре, никто не в обиде. Думаю, его жена про нас с ним знает – может, это ей даже удобно? Сама типа на стороне шарится, ну и…
Нина снова усмехнулась непослушными, отчего-то дрожащими губами. Лиса заглянула подруге в глаза и протрезвела.
Голос женщины охрип, стал ещё более тягучим и низким:
– А ту-у-ут… Ко-ро-че, Олеська, он пришёл, а я – не хочу. Ну, вот не-ха-чу, и хоть ты тресни! Он и эдак, и так, а я – никак. Вот прямым текстом ему уже сказала, что не хочу! А он мне руки крутить, за шею аж прижал… И знаешь, что? Дала я ему – лишь бы отстал уже. Вот прям, как стояли, так и… На хрена мне синяки?
Лиса выпрямилась. Голова была ясная до боли. Девушка смотрела, как с губ Нинели пулями срываются слова и свинцовыми каплями несутся к ней, Лисе. Впечатываются в лоб, в виски, пятнают рубиновым сетчатку и падают, падают, падают ядовитыми зубьями дракона в распаханное настежь сердце.
– Только не спрашивай меня про лябофь, не спрашивай, – Нинель встрепенулась, словно вышла из транса, – лябофь – это роскошь, на которую ни у кого и никогда нет ни сил, ни времени. Плюнь тому в глаза, кто станет заговаривать тебе зубы любовью – нет её, это сказка, сопли в сахаре для девочек в розовых очках.
Затрещал фитиль, колыхнулось, качнуло головой пламя, и заметались вокруг огромные тени. Склонилась тяжелая лохматая рыжая голова к скрещенным на столе рукам. Вязким слякотным сумраком опустился на женщину спасительный пьяный сон, и уже не почувствовала она, как под щёку легло мягкое полотенце, а плечи укутало одеяло.
***
Доброе утро тихонько вкралось через форточку ветерком и шебутными мартовскими лучами. Солнечные пальцы, шаловливо ласкаясь, коснулись выцветших обоев. Когда-то они были светло-голубыми, а узор из переплетённых листьев боярышника – серебристо-белым. Обои поклеил отец, перед тем, как перевезти маму, Сашку и ожидавшуюся Олесю в новый дом.
Дом этот родился точнехонько на границе города и деревни, что медленно отступала под натиском панельно-кирпичного воинства разрастающейся столицы. Поэтому жившая в доме ребятня, вдоволь наскакавшись у подъезда в нарисованные на асфальте классики, перебегала через двор и оказывалась на деревенской улице. Здесь терпко и бесстыдно пахло навозом, антоновкой и дымом. Но не успел ещё Сашка окончить начальную школу, как ни улицы той, ни деревенских домов с узорными наличниками не стало. И всё, что ещё долгие годы спустя напоминало о том, что здесь когда-то было селение – это исправно родившие яблони да ямы на месте бывших подполов.
Ну, растворилось в небытии прошлое и растворилось, – брат на эту тему и не задумывался особо. А сестра его не скоро смогла без волнения ходить через разбитый на месте деревни парк: на пограничье душу вдруг взрезало – жёстко и глубоко, словно осокой. Лишь со временем стало не так больно – в конце концов, девочка была плоть от плоти этого пограничья: вот только что спускалась на лифте с семнадцатого этажа, а дорогу перешла и, пожалуйста: пыльный просёлок, поле картофельное, ивы серебрятся, и – воздух, простор, ветер! Кто бы мог подумать, что такое возможно – и где? В столице! Возможно – особенно, когда старому городу становится тесно в прежних пределах и он начинает расползаться вширь. Каменным ожирением болеют все мегаполисы – и неотвратимо, безжалостно подминают под себя предместья.
Лето перед рождением Олеси выдалось тяжёлым, раскалённым – вокруг Москвы горели торфяники, над городом висел непривычный, дикий, как и всё заграничное, смог. Мама, с трудом дожидавшаяся в старой коммуналке олесиного появления на свет и переезда в новый дом, маялась ужасно и всё просила отца, чтобы тот перевёз её поскорее из заасфальтированного центра в новорожденный микрорайон, на воздух. Терпеливо ходила гулять с сынишкой на Патриаршьи пруды, чтобы хоть там, в тени лип, у воды получить желанный кусочек прохлады. А мальчику всё было нипочём – да и кому в три года есть дело до какой-то там жары, когда по пятам едет вот такой мировой грузовичок на веревочке? Сашка, этот сын Садового кольца, таким и остался – горожанином аж до самого последнего лейкоцита. С детства души не чаял в упругом асфальте, головокружительном аромате бензина, велосипедах, грузовиках, локомотивах, мотоциклах, да и вообще, во всём, что движется, сверкает и тянет в путь-дорогу на подвиги. Ну, а женщины и машины платили Сашке полной взаимностью.
Брата с сестрой, даже зная о разнице в возрасте, можно было принять за двойняшек: русоволосые, остроглазые, вечно в синяках и к неизбывному страданию бабушки худые до прозрачности. Всё жаловалась соседке: «Аж душа сквозь рубашки светится… уж и кормим их – на рынке Черемушкинском творожок езжу им брать – и режим у них, а всё без толку!» Без толку, без толку – по каким деревьям, чердакам и подвалам брат с приятелями лазает, там и сестру ищи. Но…
Мальчишечьи забавы хороши девочке до поры, до времени. Но наступает странный срок в её жизни, когда вдруг окутывает душу тревожная тишина, хочется покоя, молчания и полёта. Иная в такие минуты идёт к книгам, и жадно, нетерпеливо перекидывая страницы, ищет в них ответы на ещё не высказанные вопросы. Другая целыми днями из комнаты может не показываться – шебуршится себе там с куклами, нашёптывает им что-то жарко, взахлёб. А есть и та, которую уже одолел неясный, но могучий зов, и вот уже тесна ей комната, скучны вчерашние игры и томит заранее известным финалом недочитанная сказка – ей бы уже свои слагать, да не в одиночку.
От ставших вдруг маленькими и непонятными игрушек, из душной квартиры стала сбегать Олеся всё чаще и чаще. Прихватывала с собой книгу из отцовых, чаще всего – о Москве и окрестностях, булку покупала по пути и уходила через дорогу, к реке. В заветное место своё шла – к заброшенному скрипучему мостику, что висел, цепляясь за честное слово склизких глинистых берегов, скрытый со всех сторон горемыками-ивами. Неподалеку журчали три родника, но их сил не хватало, чтобы оживить убитую стоявшим выше по течению химическим заводом реку.
Народ сюда ходить брезговал, а Олеся словно не замечала ни грязи, ни расползшихся, как зубы в старческом рту, досок мостика; ложилась плашмя на них, одну руку под голову, другую опускала к мутному потоку, и, лаская поблескивавшую тускло мёртвую воду, шёпотом уговаривала ту потерпеть – хотя сколько терпеть, и сама не знала. И текли с той водой мысли, тёмные ещё, смутные… как же дальше-то жить? Я – женщина. Ну, пусть не по-настоящему ещё, но ведь – женщина! Чего я хочу? Кого? Любить? Да, да, о, конечно – да… Принадлежать любимому? Но я же не вещь… И никогда не стану, и даже иллюзию такую не буду создавать у мужчины, потому что. Потому что быть женщиной – значит, не быть вещью. Интересно, а как это – быть мужчиной? Не овладеешь – не поймёшь. Но и мужчина – не вещь, а человек, такой же, как и я. Целый мир, вселенная. Тогда почему так часто отдаются люди во власть друг другу? Так проще? Ха, казнить нельзя помиловать? Бред, это же невозможно! Никогда! С мужчиной надо только на равных – или никак! Не то какая тогда это получится любовь? Смех один. И дружить можно только на равных – иначе это уже не дружба. Вот мама никого не хочет знать, а её хотят многие… Звонят по сто раз на дню, в театр приглашают, нас куда-то всё тащить пытаются. А она всех отшивает, потому что считает, что это нечестно: взять – и всё. Она-то ничего не может дать в ответ. Потому что… хотела бы вернуть папу. Она любит его – и нас, потому что мы его частичка. Они были до встречи чужие, а потом полюбили друг друга, чтобы родился Саша, и они стали родные. А когда я родилась – они стали ещё роднее? Нет, не так: они породнились ещё до нашего рождения.
Так текли её мысли, и текла под пальцами печальная радужная вода. Пальцы после едко пахли машинным маслом и тухлой травой, и чтобы не испачкать отцовскую книгу, Олеся оттирала их предусмотрительно прихваченной из дома марлей – уж этого добра в доме, где бабушка – врач, хватало.
Томительно странно читались книги отца, геолога, погибшего в экспедиции, о которой мама наотрез отказывалась говорить даже спустя годы. На полях этих книг хорошо сохранились его карандашные пометки. В той, что о Москве, почти на каждой странице то телефон, то дата, то имя – да у Алексея Скворцова, кажется, весь город ходил в друзьях-приятелях! И оживали названия улиц, и подмигивали задорно окна, и взмахом занавесок провожали дома всегда желанного гостя – и по душам до рассвета поспорить горазд, и помочь, если что – в первых рядах, и когда надо – молчун надёжный.
Олеся всегда самую капельку завидовала брату, который помнил отца – Сашке было пять лет, когда… А ей самой только и запомнилось смутно, как ехала у отца на плечах, и от высоты замирало под ложечкой, а далеко внизу смеялась мама. Смеялась нежно, звонко, как смеются солнечные лучи добрым мартовским утром.
Да, да, да, поистине добрым бывает утро, которое начинается с аромата кофе, вошедшего в комнату… в сон… ой, как же пахнет!
Лиса осторожно приоткрыла левый глаз и тут же сощурилась обратно: Браун раздвинул занавески, и выцветшие светло-голубые обои резво отразили лучи шалого мартовского солнца.
– Вставай, красавица, проснись, открой сомкнуты негой взоры, – продекламировал он и протянул чашку с кофе к той части скомканного в изголовье одеяла, где, по его расчёту, должно было находиться лицо засони.
Засоня меж тем тайком любовалась склонившимся к ней, улыбаясь из темноты своего убежища свежести и силе его лица да окаймлённым густыми ресницами жарким карим глазам… завораживали они, как глаза рокотовских портретов. Однажды это открытие поразило Лису прямо в серединку сердца и осталось там навсегда.
Она приподнялась, приняла из его рук питьё и проворчала больше для виду:
– Уж даже и кофе твоё величество изобразил под цвет радужки.
– Да на здоровье, – ласково усмехнулся Браун и тихонько позвал, – Нинель… просыпайся, коф пришёл.
Лиса подняла от чашки заспанный взгляд – напротив её дивана, на кушетке, куда в последнее время перебрался ночевать Браун, разметалась спящая. Сон красит любую женщину – и пламенела она неведомым цветком, румянцем горячим, рыжими искрами рассыпанных по подушке прядей и вызывающе нежной белизной плеч пламенела женщина в колдовском своём сне.
Но вот пошевелилась она, потянулась сладко так, сладко, и сонные чары плавно сменились молодой, чуть нахальной, назло всему этому миру улыбкой:
– Привет, люди-звери, – пропела хрипловато Нинель, – Браун, ну ты же солнце!
Редкая женщина не делает шоу из ничего. Приподнимаясь, чтобы сесть на кушетке, Нинель повела плечами и дала одеялу упасть на колени. Не скованная обычными женскими латами – всего лишь в кружевную сорочку облачённая – сверкнула щедрая грудь. Но почти тут же почти смущённо одеяло чуть-чуть поднялось вверх, оттенив попутно линию бедра, красоту обнаженных рук, сочный маникюр. Явив себя миру, Нинель, наконец, позволила Брауну угостить себя кофе.
Редкая женщина не с первого взгляда понимает вторую. Поднеся свою чашку к губам, Лиса спрятала улыбку. Хороша, подруга.
А сама не спеша закончила лакомиться горьким, но таким сладким напитком.
***
«Чёрт бы подрал эту разницу во времени!», – Татьяна Николаевна уже минут сорок, как лежала без сна и прислушивалась к раннему субботнему утру чужого города в чужой стране.
– Блюм-блюм-блюм, – прозвонили часы на далёкой ратуше. В воображении нарисовался букет свинцовых цветов, и женщина улыбнулась – подростками Саша и Олеся просто донимали маму игрой в ассоциации. Поделиться бы – а не с кем: Михаил Леонидович в данную минуту досматривал сто сорок восьмой сон и плавно переходил к сто сорок девятому.
«В Москве десять – может, уже можно позвонить?» – но она лишь выпростала руки из-под одеяла и напряжённо вытянула их вдоль тела, не позволив себе на цыпочках унести телефон в кухню и там, со скоростью, которой позавидовала бы пианистка Кэт, набрать комбинацию клавиш. «Пусть скворчата ещё поспят. Что-то у Олеси вчера вечером голос был странный – недовольный? Усталый?» Татьяна Николаевна нахмурилась – малышка там совсем не высыпается, и ладно бы только учёба эта вечерняя, ладно – коль нет дневного отделения. Но вбила же себе в голову, что должна ещё и работать! И где? Какое-то подозрительное кооперативное издательство, выпускают то ли учебники, то ли сборники сочинений для поступающих. Гоняют её там, как сидорову козу – как же, нашли себе девочку ответственную… «Неужто ж я бы денег не посылала – ведь посылаю, когда удаётся?! Хорошо, хоть Сашенька на дневном, и при кафедре – лаборантом. Надо бы спросить – а книжки-то трудовые им завели? Что бы ни творилось в государстве, а документы у любого человека должны быть».
– В порядке, – погрузившись в невёселые свои размышления, это она уже прошептала. При этом Татьяна Николаевна не задавалась никогда вопросом – зачем все эти бумажки с печатями и подписями, она просто знала: документы должны быть. Вроде как щит от внешних невзгод. Государство к тебе – р-раз: а что ты из себя представляешь, муравьишка? А ты ему в ответ – на-ка, утрись справочкой из домбомсоцжилкомиссии – человек я!
А про то, что все эти бумажные щиты – не более, чем бумажные, она и подавно не хотела размышлять: иных иллюзий так приятно держаться. И до чего больно с ними расставаться. Татьяна Николаевна повернулась на бок, прижала к животу колени и натянула на голову одеяло. Так привыкла с детства – военного, эвакуированного в далёкое башкирское село детства – и только дырочку оставила дышать. Опьянение заграничной жизнью постепенно уступало сомнениям – чего ради она оставила детей без присмотра? Ну да, иногда удавалось пересылать продуктовые посылки – по крайней мере, непоседы сыты. И даже одеты. Не бог весть что, конечно, – довольно скромные гонорары кочующего преподавателя позволяли отовариваться лишь на распродажах, – но и не обноски. И – всё? Ради еды, ради одежды? Ну, а ради чего же. Что матери ещё нужно? Чтобы чадо было сыто и не мёрзло голышом. И чтобы довольно было жизнью своей. А хорошо ли там скворчатам? Олеся возвращается поздно, Боря её не всегда может встретить, да и Саша тоже. Ну, разве это дело, чтобы девочка одна в одиннадцать вечера топала по тёмным улицам? Швали всякой много, да и по радио вон какие страсти рассказывают! Шайки по улицам, оружие легко купить, наркотики… Секты людей заманивают, деньги из них качают. А Олеся такая открытая, такая любопытная – господи, спаси девочку мою, сохрани, помилуй! Царица, мать небесная, защити, вразуми мою маленькую!
Да, взрослые, сказала тогда Олеся. Всё бы хорошо, только вот дочуня всегда была горазда хорохориться, эдакий ёжик – шкуркой наизнанку. Не то Сашка. Вот уж кто иголки выпускает по поводу и без повода! Всё у него на лице написано – не актёр, нет. Хотя и хорош – загляденье. Весь… Но свернувшаяся в клубочек под одеялом женщина привычным усилием воли запретила себе думать о погибшем, как было сказано в отчёте о той трагедии – «под обвалом», муже. За спиной завозился и всхрапнул Михаил Леонидович. И причмокнул при том.
С Михаилом было хорошо. Надёжно. Увлекательно. Разносторонне образованный, жизнерадостно уверенный в себе, он локомотивом шёл по отпущенным ему годам и как-то даже с удовольствием тянул за собой тех, кто хотел к нему прицепиться. Расставался, правда, тоже легко.
Вот и в утро отъезда, в аэропорту, среди нервно озирающейся и кисло пахнущей тревожным недосыпом толпы, над которой дамоклово висело ожидание таможенного и паспортного контроля, Михаил выглядел так, будто уже сидел в салоне самолёта. Сашка, втиснув крепко сжатые кулаки в карманы брюк, громко молчал о том, где он видел всё это Шереметьево и тех, кто драпает на сытый Запад через образовавшуюся в железном занавесе щёлочку. Олеся глядела на то же в сложных чувствах: с одной стороны – чего в чужой стране ловить, лучше б в своей попытались что-то построить, а с другой – легко рассуждать, когда ни семьи, ни детей, ни стариков-родителей на шее. Вот и выстукивала она облупленным мыском сапога какой-то рваный ритм, исступлённо скусывала с мизинца и без того обглоданный ноготь, время от времени посматривая в сторону матери и Михаила Леонидовича. Наконец, когда объявили регистрацию на рейс, порывисто обняла Татьяну Николаевну, глянула как-то особенно. Чёрными показались в тот момент дочкины глаза. Прижалась снова и прошептала на ухо:
– Мусь, любимый… жена должна быть рядом с мужем. Мы с Сашкой всё понимаем, не тревожься.
Татьяна Николаевна, конечно, не тревожилась. Точнее, теперь она понимала, что всё это время старательно уговаривала себя не. А за скворчат было страшно. Очень. И почему она так легко захотела поверить, что они уже взрослые?
***
Ах, коф приходит и уходит, а кушать хочется всегда… Остатки вчерашней пиццы показались наутро тем вкуснее, что всё-таки основательно пропитались рассолом-м.
– Ом-м-м, – не удержала гортанного стона жутко, просто жутко голодная Лиса. Она бы так и плавала в нирване, но долго блаженствовать ей не дали: в дверь раздался позывной Кота – один длинный и один короткий звонок. Вот же ёлки-палки, десять утра, что ему не спится?
Лиса поспешила открыть.
Коридор был уже освещён – похоже, соседи из квартиры напротив разорились на лампочку – и потому озадаченная Киркина гримаса явилась Лисе во всей прелести своего безобразия.
– М-дя-а! – произнес он, окинув взглядом хозяйку, на которой из верхней одежды была только тёмно-красная Сашкина ковбойка. Байковая, мягонькая, и Сашке не к лицу совершенно.
– И тебе утречка доброго, – недоверчиво отозвалась Лиса, настороженно поглядывая на ржавую стерню, которую Кирилл Васильев в остром приступе журналистского вдохновения гордо поименовал модной недобритостью, – только не целуйся.
Увы, это недвусмысленное приглашение пофехтовать пропало втуне: Кот не изогнулся в ловком шутовском поклоне, не промяукал что-то типа «Ну хоть ручку позволь облобызать!», он даже трагикомическую маску снял и был теперь серьезён. Девушка заподозрила неладное.
– Не сотвори добра, Лиса, и не придется отмываться от благодарности, – сумрачным баском возвестил Кир.
– Да что, блин, за…?
И тут она увидела. Коричневый дерматин на двери в квартиру Нинели почти ободран, кое-где – у откосов и притолоки – ещё висят лоскуты, из-под которых торчат пепельно-пыльные клочья ваты. Лиса чихнула. Вата зашевелилась, маленький серый комочек оторвался от нитки, за которую цеплялся, и медленным дымчатым облачком поплыл к полу. Пол был усыпан шматками всё той же ваты, коричневыми обрывками, но среди них Лиса, глазам своим не веря, разглядела и чёрные… Она вмиг оказалась в коридоре, повернулась к своей двери и упала бы, но Кот обхватил её за плечи и крепко прижал к себе.
Дверь в их жилище выглядела не лучше. Тот, кто это сотворил, даже не особо заботился о том, что разбудит хозяев и окажется пойман на месте. Сквозь ошмётки обивки виднелись глубокие царапины на доске, – словно огромный зверь точил об неё когти. Какая паскуда это сделала?
Вслух Лиса едва утерпела ничего не сказать – хотя губы-то уже сложились для ругательства. Взяла Кирку за рукав и потащила его в квартиру.
– Ага, к лисе Алисе кот Базилио пожаловать соизволили, – подобное Сашкино приветствие следовало считать верхом доброжелательности, ибо спросонья Скворцов обычно бывал далеко не белым и совершенно не пушистым. К тому же, он ещё кофе не пил.
Пока Кот в срочном порядке исправлял это возмутительное упущение и варил напиток богов по одному ему известной методе – а Лиса всегда с некоторой грустью признавала, что ни у кого, даже у ненаглядного Брауна, не получалось такого восхитительного кофе, – так вот, пока Кот колдовал у плиты, девушка в двух словах рассказала брату, что стряслось.
Ошарашенный, он шёпотом послал ситуёвину туда, где, по его мнению, она должна была находиться – то есть, очень далеко. Ситуёвина, понятно, никуда не делась, зато ему уже вручили исходящую умопомрачительным паром амброзию, которая минут на семь примирила Сашку с действительностью. Но конец приходит всему (а кофейку, сваренному Котом, почему-то особенно быстро), истекли и Сашкины драгоценные мгновения покоя. Старший брат с ароматным выдохом сожаления отставил чашку и произнёс:
– Не хочется с государством связываться, а придётся, похоже. Ли, давай сюда Нинель с Брауном, – будем ментов вызывать. И потише в коридоре – Алька кемарит ещё.
Лиса на цыпочках прошла через коридор и совсем уж вознамерилась войти в собственную спальню, как вдруг смутилась отчего-то и изобразила ноготками по двери этакое шествие бравой кавалерии. А может, прогулку на изящном ландо, запряжённом породистой лошадкой? Да кто знает, что там за мыслята у этой Лисы под вечно растрёпанными кучерями…
За дверью послышалась шустрая возня, и Браун чуть громче, чем обычно, отозвался:
– Да?
Олеся не стала ничего объяснять через дверь – а заходить и подавно не пожелала. Просто сказала, чтобы Боря с Нинелью топали на кухню – да полегче, пусть Алька поспит.
Но не прошло и пяти минут, как поднялся такой гвалт, что Александра свет Сергеевна оставила сладкий сон на какое-нибудь волшебное потом и присоединилась к митингу.
– Саня – не надо! Никаких! Ментов! – в четвёртый раз Браун произнес это так, что гомонившие ребята, наконец-то, успокоились. И добавил веско:
– Сами разберемся, есть знакомые.
– Боречка, – плачущая, Нинель становилась ещё пикантнее, – Боречка, прошу тебя, это очень личное дело, никого не надо разбираться. Он немолодой уже человек, у него дома и на работе страшные нелады. И я ещё выпендривалась. У него просто крыша поехала!
Браун пристально глянул Нинели в глаза, и Лисе стало ясно – он это так не оставит. Вздохнув, она посмотрела на Алю, которая в этот момент повернулась и пошла за веником – языками чесать всегда можно до посинения, а бардак вокруг уже откровенно достал. Лиса двинулась вслед за ней – не одной же Шурупче всё это разгребать?
И уже с кухни она услышала, как Сашка звонит в диспетчерскую.
Хорошо в гостях, хорошо… Но лишь в собственных стенах так – надёжно. Когда можно встать ночью, чтобы подкрепиться кусочком сыра или ещё какой нехитрой снедью, и не включать электричество: в своём жилище даже темнота светлее. Родные стены оберегают – не подставят угол, не пихнут незнакомым поворотом. Прищёлкивают да поскрипывают половицы, отзываясь на хозяйские шаги. Даже дверца холодильника, и та пробурчит беззлобно, что тоже, в общем-то, рада тебя видеть.
Усталость последних двух с половиной часов тяжело давила на плечи, а в голове словно клейкий туман ворочался, – не жалея маникюра, Нинель вместе с девчонками уничтожала следы ночного вандала и щедро сдобренной напевным матерком работы слесаря. Обдирала остатки дерматина, замывала полы. Когда лентяй Сашка заупрямился и хотел забить плоды их трудов в мусоропровод, демонстративно потащила свёрток к помойке во дворе. Браун, понятное дело, догнал её, свёрток тот галантно отобрал и самолично препроводил в пропахший сладкой гнилью контейнер. И лишь когда их уголок общего коридора стал чистым, как мир в первый день творения, она с наслаждением выпила приготовленный Котом кофе, нежно расцеловала всё население безумного скворечника в посеревшие клювы и притворила дверь в свою уютную однокомнатную норку.
Подошла к тахте. Посмотрела на неё тоскливо и упала в подушки. И не слышала, как вошёл Браун.
***
– Браун, обожди! Борька! Ну Борька же! – Лиса вприпрыжку, не замечая луж, хлюпающих уже в кроссовках, догоняла парня, летевшего куда там бронепоезду «Пролетарий», – не гони, постой, что скажу!
Неопределённый взмах рукой и по-прежнему стремительно удаляющаяся спина были ей ответом.
«Орешек знаний твёрд, но, всё же, мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу всё знать!» – Скворцовы-дети эту передачу старались не пропускать. Не каждый выпуск, конечно, прочно обосновался в их русых головах, но слова из заставки Лиса непременно взяла бы девизом на свой герб, если бы вдруг случилось таковым обзавестись.
Поэтому она предпочла истолковать жест Брауна по-своему, а проще говоря, проигнорировала его. Ускорила шаг – и вспугнутыми птицами вылетели из некстати попавшейся лужи брызги.
Браун обречённо вздохнул – влажный асфальт причмокивал за спиной всё чаще и громче. Эх, всё-таки женщина должна быть мягкой, ласковой, которой нужна помощь, поддержка, защита – нравились Брауну маленькие, уютные, которых можно носить на руках. Именно такой и показалась при первой встрече Лиса: худая девушка в расхристанной куртке стояла возле фургона, кусала губы и собиралась расплакаться. Промозглый октябрьский ветер лохматил давно забывшую о парикмахере чёлку. Нос обиженно покраснел, да и складка между бровей не отставала. Ото всего этого сквозило таким отчаянием, – Боря не смог пройти мимо, хоть и торопился ко второй паре. Назвавшаяся Олесей, со странной, не то насмешливой, не то очень даже приветливой, улыбкой объяснила, что привезла из типографии заказанные кафедрой издания, но шофёр помочь с переноской отказался, а барышню из деканата и просить-то о таком неловко. Сама ответственная за всё это безобразие уже несколько пачек внутрь здания втащила – но вскоре упарилась и сейчас отдыхает. А в машине ещё оставалась большая часть груза. Да не вопрос! Васин кликнул двух однокурсников, и в шесть рук парни быстро доставили всё, куда надо…
Когда занятия закончились, он вышел из аудитории и напротив дверей в прямоугольнике электрического света увидел Олесю. Она терпеливо поджидала окончания его лекций.
– Я тебя по расписанию вычислила, – всё с той же непонятной своей улыбочкой, сообщила она.
От здания на углу улицы Лебедева и Ломоносовского проспекта до метро «Университет» минут десять спокойным шагом. Они шли полтора часа. И всё никак не могли наговориться – столько вдруг оказалось у них общего. Вот только в музыке не сошлись: Васин русский рок не то чтобы не любил – а так, не переваривал:
– Вторичны они, Олеся. Всю музыку скопировали с Запада. Даже твой передовой БГ.
Олеся не отвечала на это ничего, но её опущенный взгляд весьма ясно показывал, что она не согласна, причём в корне.
– А тексты?! – горячился её собеседник, – ну что за тексты! А ведь кто-то эту чушь ещё и наизусть запоминает!
Олеся лукаво-прелукаво улыбнулась и произнесла речитативом:
– Здесь вполголоса любят, здесь тихо кричат. В каждом яде есть суть, в каждой чаше есть яд. От напитка такого поэты не спят, издыхая от недосыпанья.
– Смотри-ка, умеет же по-человечески выражаться.
У каждого интересного мужчины своя методика отсеивания неадекватных поклонниц. Имелась она и у Васина – при этом женщина говорила «нет» сама. Вроде, и ранимая дамская гордость оставалась цела, и Васинская свобода – в неприкосновенности.
Олесино увлечение русским роком возмутило Борю даже больше, чем курение, – потому что в остальном девушка, казалось, полностью отвечала вкусам этого привереды. А на тех тщательно отрепетированных словах, брошенных им как бы невзначай, размышлением сквозь зубы, сломалось немало симпатичных и очень даже милых девчонок.
Олеся хмыкнула, неопределённо пожала плечом и сказала примирительно:
– Ой, ладно, мои закидоны. Ты вон от Моррисона тащишься, я же не думаю про тебя, что ты пьяница.
Да, да, всё по законам жанра – именно тут он и попросил у неё телефон. Она старательно вывела семь цифр на словно специально дожидавшемся в кармане автобусном билетике (счастливом!), добавив при том, что дома бывает вечером после десяти, а брату можно спокойно оставлять все координаты – Сашка надёжный, как танк. Бережно и быстро лёг её поцелуй на упругую прохладу его щеки – Васин только и успел, что уловить ароматное девичье тепло из раскрытого ворота куртки. И вот уже почти потерял из виду эту странную занозистую щепку в толпе, стекающей в чистилище подземки.
С того дня не прошло и двух месяцев, а Васин уже перебрался из общаги в Олесин мир и стал там своим настолько, что Сашка иногда даже пытался вспомнить, в каком же классе Борька пришёл к ним в школу.
Между тем, Кота этот жёсткий и умный парень сильно напрягал, хотя Кирка и скрывал это старательно – нечего друзей зря огорчать. Впрочем, когда наречённый Лисой – за красивые, разумеется, глаза – Браун предложил ему и Скворцову работу, Кирка отказываться не стал: уж двести баксов на дороге не валяются – студенту деньги всегда нужны. Да и компания хорошая… что ещё надо в двадцать-то лет? Но никак не мог себе Кот признаться в том, насколько же Васин его восхищал. Всем – начиная от организаторского таланта и заканчивая тем, что никогда не жалел ни о чём. И правда, чего думать да гадать, как оно было бы, если бы? Выбрал одну дорогу – и топай себе по ней. Решишь свернуть – да ради бога, но помни, что по иным путям ход закроется. В любви Боря неукоснительно следовал этому принципу, и кстати оказался он в бизнесе – почти таком же увлекательном деле, как и наука страсти нежной.
Одна американка давно сказала, что хитрый человек набивает карманы на разрушении империи, а умный – на созидании оной. Хлопотнее второму, разве что. Ну, это как раз молодым и по вкусу – когда шум, гам, тарарам и весело. Обострённым нюхом Васин чуял, что пенки с рухнувшего государства уже сняли все, кто имел хоть малейшую к тому возможность. Но скучной казалась правнуку купца первой гильдии эта шакалья манера – строить-то куда интереснее! К расцвету кооперативов он ещё возрастом не вышел, потому в торговлю аудиозаписями и джинсами внедриться не удалось: своих там не оказалось никого. Возиться с продуктами и прочими тряпками Боря не хотел. Всякую же технику уважал с детства: отец-инженер, пока был жив, всё время что-то собирал, ремонтировал. Больше всего маленький Борька любил играть с оловянным припоем, а запах канифоли и раскалённого паяльника были такими же родными, как отцовские руки.
Техника… она нужна людям не меньше, чем еда и одежда. Зрелища, музыка, комфорт – почему работающий человек должен отказывать себе в этих удовольствиях? Почему бы не доставить их человеку, который может за них заплатить? Главное – всё и всех организовать.
Да, безмерно восхищал Кота этот сукин сын Васин – даже тем, что завоевал недотрогу Лису.
Спички вспыхнули одновременно, но лишь одна превратилась в факел. Зима и весна пролетели у Бори с Олесей как упоительный тур вальса, а летом… что-то надломилось летом. После того, как она в ответ на его предложение уйти из издательства и заниматься только домом и учёбой, ответила резковато:
– Я хочу, могу и умею работать – почему мне нельзя этого делать?
Эмансипация хороша как тема светского трёпа и в чужих жёнах. А когда декларацию независимости излагает та, с которой был бы не прочь… ой, нет. Жизнь одна, и не хочется к старости пенять друг друга за бесцельно прожитое. Но свою первую и оставшуюся единственной годовщину Браун с Лисой таки отметили.
Парень ещё раз тяжело вздохнул, но вспомнил вдруг, как легко и без сцен Олеся его отпустила. Поэтому запыхавшуюся и разрумяненную мартовским ветром преследовательницу встретила улыбка:
– Да, я уже двадцать три года Борька. И даже Васин. Чего изволишь, мадемуазель?
Мадемуазель в ритме автомата Калашникова изъявила желание не оставлять вышеупомянутого Борьку Васина одного, потому что видела, как тот вышел от Нинели в глубокой задумчивости, быстро оделся и выскользнул из дома. Не надо быть знаменитым жителем с Пекарской улицы, чтобы догадаться – разборку Браун решил учинить сам. А так как потерявший всякую способность складывать два плюс два мужчина рискует сварить совершенно несъедобную кашу, рядом нужен друг, владеющий простейшими навыками дипломатии. Естественно, для деликатной миссии сочла наилучшей кандидатурой саму себя. И вот мадемуазель здесь.
Браун открыл рот возразить, но на ветви соседнего боярышника с оглушительным чириканьем опустилась воробьиная свадьба. Гуляли знатно и от всей души. Вопли про то, как им всем горько, перемежались хвалебными речами в адрес молодых и щебечущим флиртом молодежи.
Испустив третий за последние две минуты обречённый выдох, Браун молча указал подбородком в сторону дома, стоявшего в глубине двора. Девушка коротко кивнула и первой двинулась в указанном направлении.
Чем ближе они подходили к цели, тем громче стучали сердца обоих. У одного – от гнева, у другой… ото всего и сразу. Переживания женщины – это коктейль похлеще молотовского, и надо быть или беззаветно любящим, или профессионально терпеливым, чтобы разобраться в его составных частях и сохранить при этом душевное равновесие.
Двор, по которому они шли, являл собой весьма обширную площадку. С трёх сторон его обрамляли дома, с четвёртой – невнятная проезжая часть, по совместительству служившая и пешеходной дорожкой; самый короткий путь к нужному ребятам подъезду. Чуть в сторонке стояла похожая на Емелину печку котельная – и отличалась от прототипа лишь тем, что небелёная была, кирпичная. Местные молодёжь и подростки уже давно приспособили «котелку» для своих игр – а недавно кто-то, не жалея краски, намахал на кирпичной стене «ДА! ДА! НЕТ! ДА!» Надпись внятно читалась из окон дома напротив и теми, кто шёл мимо – а уж под шаг ложилась просто изумительно: «да-да-нет-да!»
Сам дом всей своей пятнадцатиэтажной тушей нависал над палаткой «Союзпечати», в которой окрестным жителям продавали выпивку, закусь и покурить. Огромная коричневая лужа раскинулась за той палаткой. Пахло сырой землёй и следами всевозможной пищеварительной жизнедеятельности. По берегам водоёма виднелись следы чьих-то незадачливых каблуков. Ровно за лужей раскорячилась металлическая конструкция, под народным названием «муравейник», а детьми именуемая попросту – лазилка. В непосредственной близости от неё вратами в неведомое высился остов качелей – проржавевшие опоры и перекладина ещё имелись, а прутья, к которым некогда крепились сиденья, уже отпилила чья-то недрогнувшая рука. В серой грязи торчали худосочные ясени, мучительно тянувшиеся к равнодушному небу из вечной тени многоэтажек. При взгляде на эти деревья немедленно хотелось водки.
– Батя, ну, вставай же, батя, – подходя к палатке, Браун и Лиса услышали умоляющий, простуженный тенорок.
Ещё четыре широких шага – и они увидели говорившего и его батю, явно перепутавшего асфальт с кроватью.
Шедшая мимо женщина глянула на попытки паренька вернуть упившемуся отцу вертикальное положение, и приостановилась:
– Уши ему разотри пожёстче, да сил не жалей – должен очухаться.
Коротко кивнув, тот доброму совету последовал. Эффект получился неожиданный – не раскрывая глаз, пьяный начал громогласно материть всех баб на свете… особенно досталось какой-то лярве Нинке.
Сердобольная советчица отшатнулась и торопливо двинула прочь.
Ребята уже почти прошли мимо этого тягостного зрелища, но звук знакомого имени вонзился обоим меж лопаток, остановил и заставил обернуться.
Браун всегда выбирал самый верный путь, но при этом несколько раз прокручивал ситуацию в голове, прежде чем. Из-за этого казался Лисе тугодумом: сама она решения принимала моментально и чаще всего – как бог на душу положит. Правда, в подсказках интуиции она не видела ничего запредельного. Когда-то давно попалась ей на полях очередной книги заметка отца: «Интуиция – это способность мозга обрабатывать всю полученную информацию и делать выводы в особом, скоростном режиме. Возможно, ускорение провоцируется стрессом?» По логике этих мыслей, Лиса находилась в стрессе постоянно – и девушка стремительно подошла к парню, который сражался с одолевшими «батю» змеями.
– Давай, помогу.
Последовал вполне предсказуемый ответ:
– Отвали, а?
Лиса всмотрелась в собеседника – Лёшка! Лёшка Белых, из «А» класса. С первого по десятый в параллельных оттрубили, но иногда пересекались во всяких школьных делах – и даже один раз на дискотеке медленный танец станцевали. Под «Сюзанну» Челентано.
– Лёш, я Олеся Скворцова, помнишь?
Он, наконец, поднял лицо. Неприветливое, без намёка на улыбку:
– Помню. Отвали, – и добавил, чуть поразмыслив, – пожалуйста.
Лиса присела на корточки рядом с ним и разругаться предложила потом – а сейчас человека надо с земли холодной поднять и в дом увести.
С разумным доводом парень смирился: в одиночку высокого и ширококостного отца ему удалось разве что с места сдвинуть волоком и то, недалеко. Лиса через плечо бросила Брауну взгляд, который тот понял сразу же. Подошёл:
– Не лезь, Ли, мы сами.
Стараясь не слишком часто вдыхать носом, ребята кое-как вставили плечи под грустный свой груз. Лёша подстроился в ногу с симпатичным невысоким парнем, в глубине души поблагодарив кого-то доброго и понятливого за то, что окна их квартиры выходят на другую сторону, и мать не может видеть позорной процессии: двое парней тащат висящего на плечах огромного мужика в короткой распахнутой дублёнке, а впереди, то и дело оглядываясь на них, плетётся девчонка с выловленной из той самой лужи ондатровой ушанкой в руках.
***
Интересно, кто-нибудь считал, сколько в мире слов? Бог весть – они рождаются и растворяются в других словах, прорастают из них новыми смыслами и формами, то отдавая свою кровь матери-речи, то столь же щедро отбирая её. Вечная круговерть.
Но сколько же слов – только информация. Лишь у некоторых есть подлинная, чистая и даже повторением незамутнённая сила – потому что через них говорит сама жизнь.
Слов этих немного, и одно из них – дорога.
Дорога, дорога… Сколько же в тебе тайн! Сколько ни говори о тебе, а всё равно – и половины не скажешь. У каждого ты своя. Проложенный кем-то путь, отсюда – туда. Иногда – обратно. Кому-то – гонка за седьмым горизонтом. Или движение ради новых открытий. А вообще, дорога – это единственное настоящее, которое у нас есть. Мы вечно в пути, постоянно идём от начала к началу, и так – в бесконечность.
Где-то она сейчас ведёт тебя, твоя дорога? Где ты, Сашка, горячий, стремительный, родной?
Аля свернулась калачиком и закуталась в одеяло – замёрзла без Сашки, да и собственная постель казалась чужой. Впрочем, мать не любила, когда дочери и этому её – другу? – случалось провести ночь у неё в квартире. Юноша и его – подруга? – платили Светлане Анатольевне полной взаимностью. Поэтому большая часть Алиной жизни уже давно шла в скворечнике. Однако, когда Сашка уходил в рейсы, Аля ночевала у матери. Несмотря на без малого двадцатилетнюю дружбу с Олесей (сначала в одной песочнице сидели, а потом в одном классе), она стеснялась оставаться у подруги на ночь, когда её брата не было дома. Смешная!
Лиса уже даже и не настаивала: Сашка с Шурупчей сами разберутся, что к чему и как, а терять подругу из-за всяких там непоняток и переклинов в голове казалось Лисе попросту неразумным.
Сашка, разумеется, всё знал. Подобно Олесе, недоумевал по этому поводу, но не хотел перечить Але. Однажды он ей прямо сказал, что ему было бы спокойней, если бы она ждала его дома. На это Аля быстро, словно ответ давно созрел, проговорила:
– Не хочу, чтобы меня кто-то видел такой – без тебя.
Дом, в котором Аля жила с родителями, стоял через дорогу от железнодорожной станции – мать регулярно ворчала, что живут они, как на вокзале. Мать всегда находила повод для недовольства, и отца, по мнению дочери, затюкала совсем. Он уже даже не пытался отвечать на причитания жены, только встряхивал молча раскрытые во весь разворот «Известия», поудобнее устраивая перед близорукими глазами очередную колонку. Ломкий скрежет газетной бумаги навсегда остался у Али связан с тем унылым, что знакомые её родителей и соседи считали вполне благополучной семьёй.
Але всю жизнь, с детства, нравилось перед сном с головой прятаться под одеяло, пеленаясь в него так, чтобы шерстинки сквозь прохладный хлопок пододеяльника тонко покалывали поясницу. Оставляла лишь дырочку для воздуха. Ложилась на бочок и слушала, как идут поезда. Когда шли тяжёлые, длинные товарные, подушка легко, но всё же подрагивала под щекой. И Аля играла: вот, поезд несёт её в далёкое-далёкое, нескончаемое и, конечно же, самое лучшее путешествие на свете. И засыпала она, и сны её были полны странствий, и всегда – вместе с кем-то высоким, светлым, который держал её за руку и вёл за собой. Лишь однажды сон её напугал. На секунду вроде бы склонилась к цветку на обочине, а выпрямившись, увидела, что спутника рядом нет. Тут же как-то странно потемнело, и вокруг оказался лес, тускло освещённый луной. Одежда вдруг стала тесной, и разом пропали все направления. Спустя несколько бивших кровью в виски мгновений впереди послышался певучий голос, окликающий её, и девушка медленно, то и дело царапаясь и ударяясь ступнями о корни, побрела на зов. А за спиной шумно и страшно рушился лес, и растворялась в пустоте тропа. Зов звучал всё время где-то поблизости, но дойти до того, кто звал, казалось мучительно невозможным.
Этот нелепый сон так напугал Алю, что она не могла забыть его даже спустя годы – а привиделось ей всё это ещё в седьмом классе. Правда, в Сашку она была влюблена уже тогда.
Кто-то, наверное, не согласится, что от влюблённости до любви тоже – дорога, и однако же, оно именно так. Только не всякому хватает сил одолеть это расстояние, вот и поворачивают назад. Или топчутся на месте, не зная, на что решиться. Конечно – ведь впереди дорога ещё труднее.
***
– Горел асфальт! От солнца и от звезд! – в кураже Сашка мог и один переорать включенный на полную громкость магнитофон. А уж в паре с Котом – как нечего делать.
Басовым риффом навстречу неслась трасса. Дальний свет фар скальпелем вскрывал пространство, и оно неохотно поддавалось напору, на два-три удара сердца обнажая дорожные указатели, сонные домишки придорожных поселков, наглухо закрытые деревьями обочины. Улетали в небытие километры. Изумлённо глядела ночь вослед стальному лезвию, вспоровшему её покой.
До возвращения оставалось полторы сотни километров – и почти час дороги.
Всё шло по плану, а рейс – по привычной, уже не раз отработанной схеме. За соблюдением оной, как водится, приглядывал Браун. Накануне утром Сашка и Кот приехали в Питер. Из столицы их привёз не кто-нибудь, а сам Палыч, водитель и автомеханик, гордиться которым мог бы даже господь, если бы ему зачем-то понадобился гараж. Но вездесущему автомобили как-то ни к чему, поэтому гараж содержал не он, а армейский дружок Палыча, у которого тот и останавливался на постой, когда приходила пора очередного рейса. Заодно и денежку помогал заколачивать.
В потихоньку расширившийся за последние месяцы гараж к дружку подгонялись с финского парома бэушные машины, в основном излюбленные обновляющимися русскими мерсы и бээмвушки. А уж с этой перевалочной базы вольнонаёмные гонщики, вроде Скворцова и Кота, доставляли бывалых «европеек» заказчикам. Браун отвечал за московский, самый оживлённый сектор бизнеса, а в команду к себе позвал двоих друзей, Палыча, его сына и ещё пару надёжных и горячих ребят, с которыми в детстве ходил пинать мячик на пустыре за домом. Палыч-то их и гонял оттуда – азартные вопли мальчишек мешали ему отсыпаться после смены.
– Горел асфальт! Под шум колес!
Давно это было или недавно? Да кто его знает? По годам – всего-то ничего: каких-то семь лет тому назад ещё сходили с ума по Марадоне и Пеле, перед смешливыми девчонками фигуряли, пытаясь выплести ногами и мячом путь к загадочному женскому сердцу… А по жизни? А по жизни с тех пор целая и прошла – да со всеми атрибутами: надсадно родились, кровью окрестились, пожили торопливо, увенчав сей конфуз судорожной кончиной. И за какие такие грехи отпустило небо ещё один шанс – мало кто задумывался. Не до философии тут – и не до жиру.
Нынче ребята гнали мерс, и по безмолвной договорённости машину вёл Сашка. Обычно на дорогу им отводилось восемь ночных часов, но семьсот с небольшим километров от Питера до первопрестольной они пролетали чуть быстрее. Нарушали инструкции Палыча, конечно, нарушали…
Кот предпочитал бээмвушки – за неповторимый голос движка, низкий, тягучий… такой у влюблённой женщины бывает – но и на мерседесах вполне мог подменить Сашку; для того и полагалось ходить в рейс парой: первый пилот и пилот номер два, он же штурман. Мог бы подменить… да только Сашка провозгласил себя рыцарем прекрасной дамы Мерседес Бенц, и лучшему другу уступал поводья лишь в крайних случаях. А таких за без малого год, что они накатали, было всего два.
Песня закончилась, и Кот автоматически точным жестом ткнул на перемотку – назад. Несколько секунд они ехали в тишине, которая могла бы и оглушить, но мешал шорох резины по влажному асфальту да мягкий скрежет плёнки в кассетнике.
Дорога плавно пошла вниз – после валдайских русских горок с их перепадами высот и крутыми дугами поворотов этот пологий спуск дарил передышку, и Сашка любил его. По левую руку задумчиво текла Волга, темнел на дальнем берегу лес. Если бы мы могли выбирать место, где умереть, Скворцов предпочел бы здесь. Почему – и сам не знал. Просто уж больно хорошо ему тут было. Он бросил рычаг на нейтралку, убрал ноги с педалей – и по уставшим мышцам потекло наслаждение. Стрелка спидометра ушла чуть правее, но до ста сорока не дотянулась.
Кот выждал ещё пару секунд и включил play чётко на паузе между песнями. Салон наполнился треском иглы по виниловым дорожкам – эта запись ещё не была почищена от шумов.
С первыми аккордами Скворцов приободрился, выпрямился в кресле, нежно вставил пятую передачу и легонько вдавил педаль газа. Покорённая его ласковой властью, машина отозвалась лишь водителю понятным напевом – и вот уже опять Кот не успевает ловить взглядом километровые отметки на обочинах.
– Горел асфальт! Ты чувствовал тепло!
Порывами встречного ветра налетала на лобовое стекло прозрачная тьма, неохватная пустота кружила в небе над путниками.
Салон обволакивал ласкающим уютом – словно родная берлога. Чертовски удобный руль послушно лежал под Сашкиной левой ладонью, а правая, как на скипетре, покоилась на рычаге скоростей. И лишь взгляд выдавал напряжение гонщика: это его глаза раздвигали пространство впереди. Сашка думал о том, как он поцелует Альку при встрече.
Кот поплотнее запахнул куртку, и почти улёгся в пассажирском кресле. Полуприкрыв глаза, он смотрел на красивый, очерченный призрачным светом приборов профиль Скворцова и думал о губах его сестры.
Ровно гудел мотор. Машина летела сквозь ночь. Динамики похрипывали в такт рыдающим на высоких нотах струнам. И уже вполголоса подпевали любимой группе ребята. Свои слова им были не нужны – всё звучало в песнях, под которые они жили.
– Горел асфальт! Смертям! Назло!
***
Плывёт по вселенной крохотный и слегка сумасшедший кораблик Земля, подставив неспешному звёздному свету необъятные паруса небес. Кружится в вечном вальсе, меняет континенты и обычаи, эры и наряды… как сейчас, к примеру: над южным полушарием воцаряется осень, а над северным – куролесит весна. Никогда не бывает скучно на этом корабле – и любой, кому посчастливилось попасть на его гостеприимный борт, остаётся тут навсегда.
Ветер спешил, спешил. Гнал во всю мощь крыльев. На лету зачерпнул в левую ладонь жару Сахары – а в правой нёс просоленную пену океана. Он знал – она уже отворила окно и смотрит в гаснущий на западе камин: ждёт.
Мелькнуло и осталось далеко позади Средиземноморье – крепко спала эта древняя земля, даже не заметила прикосновения могучего атлантического ветра. Лишь кипарисы качнули бархатными макушками в ответ на его влажное тепло да пробудились тёмно-розовые почки на миндальных деревьях.
А он уже нёсся над великой и славной рекой, которую не всякая птица решится перелететь, и лукавой улыбкой светила ему вослед зелёная луна.
Окна были раскрыты настежь – чтобы ночь скорее вошла в дом, наполнила озорной свежестью все этажи, все комнаты. Олеся сидела на подоконнике и встречала апрель. Огромная бабушкина шаль щекотно покалывала шерстинками плечи, спину и чуть ниже… наставления любящих людей надо выполнять неукоснительно, а натурам мечтательным – и подавно.
Тихи и пустынны, лежали внизу улицы, тяжкая хмельная одурь накрыла их пропотелой телогрейкой, и от того ещё выше, ещё дальше отстранялось небо. Ревнивые фонари остро резали мертвенно-белым светом по зрачкам тех, кто вспоминал холодной той весной поднять взгляд на льдисто мерцавшие звёзды.
Скудная городская земля исходила солоноватым паром, молитвенно ластясь его теплом к лицам и рукам одиноких прохожих, блестела влажно, призывно… но они брели мимо, дальше, в дремучем сне, и не чуяли этой, покинутой небом, нежности.