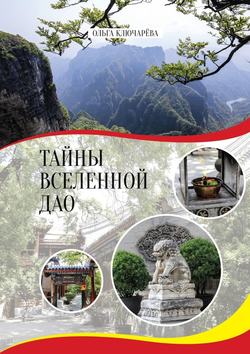Читать книгу Тайны вселенной Дао - Ольга Ключарёва - Страница 3
I. Вводная часть
О чем молчат даосы?
Вместо предисловия
Оглавление«Жил в одной провинции добропорядочный и прилежный в учении юноша. С детства слыл он достойным в поведении и услужливым, уважал старших и прилежно осваивал науки. Родители не могли на него нарадоваться – очень они надеялись, что в сыне воплотятся все их мечты, все то, чего не удалось достичь им. Отец его пробовал себя когда-то на поприще государственного служащего, много раз ездил в столицу сдавать государственные экзамены, но всегда возвращался с неудачей. Так и оставил он свои надежды и занялся, в конце концов, хозяйством. Теперь сын его Ван готовился к экзаменам в столице. Перечел он горы книг, день и ночь тренировался в написании иероглифов и сложении текстов. И вот, наконец, настал день экзамена. Однако Ван не прошел испытания. Огорчились его родители, огорчился он сам. Однако с еще большим рвением начал он заниматься и на следующий год снова поехал в столицу. И опять не выдержал экзамена. Вновь засел он за книги, не теряя надежды. Но все повторилось. Так продолжалось пятнадцать лет. Но вот, наконец, на шестнадцатый год, удалось Ванну пройти через все преграды. Он был принят на государственную службу.
Летели годы, Ван шел все дальше и дальше, все выше и выше поднимался по ступеням своей карьеры. Был он уже стар и сед, когда стал крупным чиновником и переехал в свою родную провинцию. Жил он теперь в довольстве. Родители его, конечно, давно умерли, однако на их век радости за сына хватило. Но вот сам Ван, в часы, свободные от дел, стал все чаще задумываться о чем-то и грустить. Думал он о том, что вот, кажется, достиг всего, а счастливым себя так и не почувствовал. Он смотрел вокруг, видел деревья, траву и птиц, слышал журчание ручейка в лесу. И думал Ван, что жизнь – это что-то совсем иное, нежели государственная служба.
Однажды Ван, седой старик, сидел, глубоко задумавшись, на пригорке, возле речки. Вдруг он увидел на том берегу человека. Человек тот сразу стал ему интересен, но чем – этого Ван понять никак не мог. С виду невзрачный, оборванный нищий. Маленький старичок с давно не мытой бородкой и волосами, которые также давно не расчесывались. Был он черен от солнца и пыли, которая сопровождала его на дорогах Поднебесной. Он сидел на другом берегу, опустив с крутого берега ноги в воду, голову высоко запрокинул и был неподвижен. Ван, наконец, понял, что так поразило его в этом нищем. Этот человек всецело отдавался радости от того, что он живет. Вот сейчас он сидит, а через какое-то время встанет и пойдет дальше, своим путем, и также будет радоваться тому, что идет, тому, что все ежеминутно меняется вокруг него.
Чем больше Ван смотрел на старика, тем большим уважением проникался к нему. Наконец, он решил подойти и спросить его о том, что так давно его мучило. Он перебрался на тот берег по ветхому мостику и, стараясь не нарушить покой старика, присел в сторонке. Старичок сам заметил его и пригласил, если тот не брезгует его видом, сесть поближе. Ван с радостью принял приглашение, однако заговорить не решался. Прошло некоторое время. Наконец, к Вану обратился сам старик. Голос его был глубок и приятен.
– Расскажи мне коротко о своей жизни. Я вижу – тебя что-то мучает, – сказал он.
– О почтеннейший, – проговорил Ван, – я увидел в тебе человека, который, кажется, поможет ответить на главный мой вопрос. Я задался им недавно и, боюсь, слишком поздно, так как дела не давали мне досуга. А вопрос этот прост до смешного: для чего я жил? С детства я стремился к освоению наук и высокой должности. Я прошел через трудности и испытания на этом пути, но все же своего достиг. Я обрел опыт и видел многое. Однако меня не покидает мысль, что я что-то упустил. Думаю, тебе достаточно знать это, чтобы ответить на мой вопрос.
– Разумеется, достаточно, – ответил старик, – ты всю свою жизнь не узнавал вещи, а стремился присвоить их, овладеть ими. Овладел одной вещью, овладел другой. Однако осталось огромное количество вещей, которых ты не узнал и никогда не узнаешь – ведь тебе осталось недолго жить. Твоя ошибка в том, что тебе нужно было не присваивать вещи, а узнавать их, узнавать и идти дальше, не стремясь извлечь выгоду из своего познания. Ибо не качеством и количеством определяется вещь, а содержанием. Вещи и явления нужно пропускать через себя, оставляя сердце свободным. И чем больше ты пропустишь через себя, тем богаче ты станешь. И тогда тебе откроется сокровенное, совокупность вещей, великое целое мира. Вот тогда и будешь счастлив.
Ван прозрел в один миг. Он понял, как несчастна и неглубока была его жизнь, прожив которую, он так и не познал истинной ценности явлений. Старичок-нищий посидел еще немного с ним, потом встал, вежливо поклонился Ванну и промолвил напоследок:
– Еще не поздно понять. Понять и обрести свой Путь. Никогда не поздно.
И пошел вдоль реки. Ван долго еще сидел на берегу, глядя, как движется вода, как плывут в ней мелкие рыбки и как перетекает из узора в узор песок на дне. И он уже не был прежним чиновником Ваном».
Этот рассказ написан в наши дни. Его автор – современный китайский писатель Сяо Дун Вэй, который в настоящее время живет в уединении в одной из южных провинций Китая. Однако такой рассказ вполне мог выйти из-под пера другого литератора, жившего и сто, и двести, и даже тысячу лет назад. В этом заключается удивительная, не повторяющаяся в иных культурах черта, которая свойственна культуре китайской: сколько бы ни прошло лет, сила духовной связи между поколениями нисколько не ослабевает. И к этому мы еще не раз вернемся в нашей книге. Суть, идея, выраженные здесь, с течением времени нисколько не потеряли своей остроты и ясности. Простота, с которой автор добивается наглядной иллюстрации того, что волновало наставников и провозвестников Пути сотни лет назад, нисколько не умаляет, а наоборот, подчеркивает, усиливает, делает понятным то, что искали мудрецы, к чему они стремились.
Есть вещи, с годами становящиеся лишь крепче. Их не разрушают природные условия, им не страшны социальные перемены, они не подвержены никаким внешним воздействиям. Вещи эти забываются и кажутся ненужным бременем, заглушенные и оттесненные вмешательством временных сил. Однако когда приходит момент подведения итогов, осмысления, поисков дальнейшего пути, люди ищут истины и мудрости в источниках древности, проверенных временем.
Одно из таких вечных и всепроникающих явлений – даосизм.
Немного в истории человечества, в истории духовных исканий найдется феноменов, обладающих столь мощными, притягательными и одновременно противоречивыми свойствами. Здесь соединяются совершенно, на первый взгляд, несовместимые вещи, которые, сталкиваясь, трансформируясь и преображаясь, образуют все новые ответвления, открывают все новые грани собственных же начал.
Мы постараемся высветить эти начала, попробуем вместе с читателями раскрыть некоторые секреты, которые даосы, в силу их неприятия способа выражения мысли словами, предпочли не раскрывать, не делать достоянием праздных умов. Ведь, как известно, становящееся чьим-то достоянием сокровенное, в чужих руках в лучшем случае становится объектом исследования или же какая-то одна из его граней развивается и приобретает собственную законченную форму. В большинстве же случаев оно, оболганное, использованное в личных целях, расхищенное, разворованное по частям, погибает безвозвратно. Даосы уберегли свое учение. Уберегли потому, что знали: слово – не способ, не средство, а конец всему. Потому они хранили молчание. А учение их, тем не менее, не погибло. Не удивительно ли это? Вот один из главных секретов даосов, который мы и постараемся раскрыть.
Крупнейший отечественный китаевед, автор большого количества переводов и собственных исследовательских трудов В.В.Малявин в предисловии к переводу книги «Восхождение к великому Дао» выводит в качестве одной из краеугольных тему о намеренном или же закономерном, само собой разумеющимся, сокрытии даосами своих секретов. Сознательно или несознательно это получалось и получается, – вопрос очень непростой. С одной стороны, приверженцы даосизма действительно осознанно предпочитали не раскрывать для посторонних глаз собственные сокровища, с другой – налицо проблема взаимопонимания и взаимодействия культур, а точнее их способности к взаимопониманию. Наконец, еще одна причина такой скрытности – в самой специфике предмета, в неуловимости и необъяснимости с точки зрения логики или науки одного из основных постулатов даосизма – понятии о Дао-Пути. «…скрытность даосов, – пишет Малявин, – предопределена самой природой их высшей реальности – Дао, которую „нельзя выразить в словах“, то есть сделать „предметом мысли“ и описать в виде системы „объективных истин“. Жизнь в Дао целиком протекает внутри, она невыразима и не нуждается в выражении, хотя внятна каждому. И чем более она доступна, тем менее поддается словесному оформлению. Подлинная правда человека – правда неисчерпаемой полноты бытия – всегда остается вне какого бы то ни было „поля зрения“. Даосская поговорка гласит: „Настоящий человек не показывает себя. А кто показывает себя – тот не настоящий человек“»1.
Итак, даосы хранили и хранят молчание. Однако, как мы видим, в рассказе даосский отшельник все же прибегает к помощи слов, все же объясняет чиновнику Вану его жизненные ошибки. Действительно, монах вынужден говорить на бытовом человеческом языке, потому что его задача – не наставлять Вана на путь Дао. Ведь Ван не является и, вероятно, никогда уже не станет его учеником. Мудрец просто в нескольких словах объясняет ему, что тупик, в котором он оказался – он же сам. И все же, посмотрите внимательно, ведь Ван еще до того, как монах заговорил с ним, понял о нем все. Слова монаха – лишь формальность. Значит, до того, как прозвучит слово, многое, а часто – все, становится предельно ясным. В этом великая загадка и одновременно притягательность любого истинного духовного явления: один миг – и все разом высвечивается. Мгновение – и человек словно прозревает.
Но мы на время оставим эти рассуждения. Теперь же хотелось бы сказать о том, что читатель вправе ждать от книги, которая находится перед ним. Настоящее живет долго по многим причинам. Одна и них – попытка переосмысления этого явления каждым последующим поколением. С той поры, как даосизм возник, рядом появляются его толкователи, исследователи, ученые, которые часто посвящают жизнь изучению лишь этого религиозно-философского учения (мы называем даосизм так, поскольку обязаны дать какое-то определение, но в действительности и оно не точно, ибо даосизм неопределяем). Не избежит участи толкователя и автор этой книги. Но вместе с тем задача данного издания – как можно более полно представить перед читателем атмосферу удивительного края, где даосизм развивался. Мы с вами увидим древних и современных даосов – людей, практикующих самые различные образы жизни и деятельности и при этом, однако, нисколько не нарушающих в каждом отдельном случае неписаных законов даосизма. И это еще одна его тайна: в нем сочетаются вещи несочетаемые.
О том, откуда ведет свое происхождение даосизм, где заключен его истинный исток, между учеными идут дискуссии по сей день. Все же, несмотря на различие во мнениях, с определенной долей уверенности можно говорить о том, что корни этого явления – в самой первозданной, первобытной природе мира и человека, в их взаимном сосуществовании, взаимовлиянии. Потому наш рассказ начнется с самых ранних для человечества времен, когда мышление абстрактное не сформировалось еще окончательно, когда человек не отделил еще себя в своем сознании от всего сущего на земле, но был частицей этого великого сущего. Мы постараемся услышать голос древности. Перед нами предстанут герои мифов и легенд о сотворении мира, боги и герои, Бессмертные и первые покровители народов, имеющие божественное происхождение. Древним шаманским практикам как предтече многих положений даосского учения (в настоящее время это бесспорный момент) уделено значительное место в нашем издании. Затем пойдет рассказ о некоторых магических ритуалах и способах соприкосновения с миром духов, которые также оказали значительное влияние на развитие даосизма. Далее мы окунемся в атмосферу, которую несут в себе древние трактаты даосских мыслителей. Постараемся увидеть этих людей – наивных утопистов, блаженных (немало нашлось в их адрес подобных высказываний), но на деле – мудрецов, видящих гораздо больше обыкновенных людей и гораздо яснее, чем кто-либо другой, могущих сказать, что ожидает мир. Молча удалялись они в свои одинокие жилища, подальше от повседневности, полной зла и суеты, и творили. Они оставили нам драгоценное наследие, и сегодня мы имеем счастье познакомиться с ним. Нам откроются некоторые тайны даосской алхимии – удивительного искусства-науки, не имеющего аналогов в мировой практике. И, наконец, мы познакомимся с самым загадочным и вызывающим неоднозначные толкования видом даосской практики – практикой достижения бессмертия. В этой связи мы рассмотрим, что в понимании даосов значило и значит состояние бессмертия, и нам многое станет ясно.
Как видите, несмотря на то, что даосы предпочитали слову молчание, они подарили нам многое. И если они оставили дверь приоткрытой, воспользуемся случаем и войдем в их мир.
1
1 Малявин В. В. Предисловие переводчика. //В кн. Восхождение к Дао/ Сост., пер. с кит и нем., вступ. ст. и комм. В. В. Малявина. М., Изд. «Астрель», Изд. «АСТ», 2002. Стр. 6.