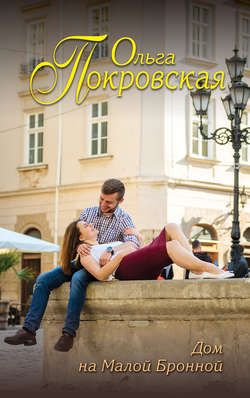Читать книгу Дом на Малой Бронной (сборник) - Ольга Юрьевна Покровская - Страница 2
Малая Бронная
ОглавлениеВ полутемной душной комнате плавает сигаретный дым, мерцают тусклым электрическим светом экраны за стеклом, приглушенно жужжат мониторы. Ни одного солнечного луча, никаких посторонних звуков, напоминающих о том, что могло бы происходить снаружи. Только глухая сосредоточенная тишина.
– Ну что, начнем? Готова? Не боишься? – спрашивает он.
Пожимаю плечами:
– Нет, я тебе доверяю. Ты же у нас мастер.
– Да… но я все равно всегда чего-то опасаюсь.
– Знаю, – киваю я. – Хотя ты еще ни разу не ошибся.
– Не сглазь! – обрывает он. – Я суеверный. Ладно, давай начнем.
Он наклоняется, нажимает нужные кнопки на широченном пульте… В кармане моего пиджака начинает звонить телефон. Говорю вполголоса:
– Алло? Да. Извини, сейчас не могу. Перезвони через пару часов.
Он вопросительно оглядывается. Я киваю и выключаю телефон. Экран вспыхивает, из динамика начинает звучать негромкая, завораживающая мелодия. Начинается…
* * *
Желтый, высохший с одного края лист, покружившись в стылом воздухе, опустился мне на голову. Осень, дурачась, за одну ночь перекрасила московские улицы в невиданные охристо-золотые цвета. Я брела по Тверскому бульвару, и озябшее октябрьское солнце проглядывало сквозь оранжевую листву над головой, как через забранный цветным стеклом высокий купол. За деревьями, нетерпеливо гудя и подгоняя друг друга, проносились машины, у фонтана на скамейках кучковалась развеселая студенческая молодежь. Дальше отдыхала более зрелая публика: двое старичков играли в шахматы на скамейке, седая пенсионерка выгуливала пузатого внука, с вдумчивым исследовательским интересом топившего в луже пластмассовый грузовичок. В воздухе пряно пахло желтеющими листьями, смогом, холодом и сигаретным дымом.
Мне всегда нравилось смотреть, как меняется, вслед за переменой времен года, мой город. Как с наступлением первых холодов исчезают матерчатые зонтики летних кафе, передвижные лотки с мороженым и газировкой, как в витринах появляются закутанные в меха и кожу манекены, на открытых верандах ресторанов начинают предлагать теплые шерстяные пледы, а в меню снова включают грог и глинтвейн. Грустно, конечно, лето уходит, унося с собой несбывшиеся ожидания и мечты, и во всем – в каждой дрожащей на ветру паутинке, в каждом сухом листке – чувствуется предвестие скорой зимы, медленное умирание, тление. И в то же время ощущаешь какое-то умиротворение – вот и еще один этап позади, все проходит, все возвращается на круги своя, вечно и неизменно. Осень в Москве всегда наводила мои размышления на какой-то эпический лад.
У Никитских Ворот, миновав свадебный салон с ухмыляющимися из витрины глянцево-пластиковыми невестами, я сворачиваю на Малую Бронную. Вот и мой дом, старинный, каменный, постройки конца девятнадцатого века. Четыре этажа – не нынешних, где даже не самый высокий хозяин так и норовит упереться темечком в потолок, а тех еще, старинных, в которых, чтобы поменять лампочку в люстре, нужно составить друг на друга чуть ли не всю мебель в квартире. Стены внизу похожи на пастилу – белые, нежно-шершавые на ощупь, а выше, ко второму этажу, начинаются бледно-голубые пролеты между высокими прямоугольными окнами, увенчанными резными карнизами. По углам топорщатся жестяные водосточные трубы. На первом этаже светится теплым уютным светом маленькая кофейня, на углу – красиво оформленная витрина канцелярского магазина. В окнах верхних этажей видны разноцветные занавески, цветочные горшки, мигают голубым экраны телевизоров. Если же пройти под высокой каменной аркой в маленький, закрытый со всех сторон двор-«колодец», увидишь прямоугольный палисадничек, две волнообразно изогнутые скамейки да вереницу припаркованных у подъездов блестящих иномарок.
Когда-то давным-давно, на заре двадцатого столетия, это был доходный дом для обеспеченных москвичей. В одной из дорогих квартир жила генеральша, в другой – начинающий, но уже очень модный композитор. По слухам, где-то здесь, у кого-то в гостях читал свои первые стихи юный и отчаянный Маяковский. А может, в соседнем доме, кто теперь может сказать наверняка?
Октябрьский переворот выгнал из дома его привычных обитателей, побил стекла в окнах первого этажа, заколотил фанерой парадный ход. Вскоре голубой респектабельный дом заполнился новыми жильцами, крикливыми, оборванными, из числа тех, кого в былые времена пускали только с черного хода, – прежние многокомнатные хоромы превратили в коммуналки. На просторных кухнях больше не выпекались пасхальные куличи, теперь здесь пахло щами и подгоревшей кашей, в облупленных кастрюлях кипятилось белье, а под закопченным потолком плавал влажный белесый пар.
Дом жил своей жизнью, хлопал дверями и форточками, гудел от сквозняков, меняя окраску стен. Замирал в страхе, когда, в тридцатые, слышал по ночам урчание автомобильного мотора, стихавшее во дворе. Кого-то выводили суровые люди в форме, кто-то давился безнадежными рыданиями в опустелых комнатах. Из раскрытых окон гремел сначала джаз, потом записанные «на костях» битлы, потом «итальянцы». В восьмидесятые все жильцы, озираясь, стекались по вечерам в восемнадцатую квартиру смотреть на привезенном из-за границы первом видаке «Греческую смоковницу». Женщины ахали и краснели. «Срамота!» – смачно плевался заводской рабочий Гришечкин. Сменялись старухи на лавочке у подъезда, сменялись дети, играющие во дворе. Но, в принципе, жизнь оставалась все той же, временами смешной, временами трагической красочной бессмыслицей.
Я обосновалась в доме совсем недавно, всего пару лет назад, когда старые щербатые рамы в окнах заменили стеклопакеты, когда половину квартир заново отремонтировали и распродали как «элитное жилье в центре Москвы», а в другой половине остались еще представители старого поколения жильцов. Мне сразу пришелся по душе этот древний, видавший виды муравейник, битком набитый жизненными историями. Самой моей профессией велено было больше всего на свете интересоваться людьми, их судьбами, старыми семейными байками, полувымышленными, полуправдивыми. Новые соседи, в основном не лощеные жильцы из вылизанных квартир, а старая гвардия – нафталиновые бабки, болтливые старики, одинокие стареющие тетки и потертые заплесневелые ловеласы – словно учуяли этот интерес к чужим судьбам и набросились на меня, как на долгожданную добычу. Не знаю уж, кто пустил по дому слух, что на второй этаж въехала знаменитая сценаристка, только предложения выслушать одну занимательную историю стали сыпаться на меня чуть ли не от каждого жильца. Людям ведь вообще свойственно думать, что именно их единственная и неповторимая жизнь достойна воплощения на бумаге или телеэкране…
Иногда, в настроении, я стоически выслушивала эти неиссякаемые потоки красноречия, иногда, не выдержав, отговаривалась занятостью или головной болью, иногда просто сбегала, делая вид, что не слышу окриков в спину. Впрочем, порой среди бесконечного соседского словесного поноса попадались забавные факты, яркие детали, а если повезет, то и целые удивительные истории. Истории, которые моя жадная до интересного натура так и мечтала утащить в свою копилку, чтобы потом, на досуге, перевернув обстоятельства и перетасовав героев, сотворить из дворовой байки закрученный сюжет. Да, люди… Самое занимательное произведение вселенной.
Я прошла под каменной аркой. Ветер, всегда караулящий здесь прохожих, взвился мне в лицо и принялся рвать в стороны полы пальто. Во дворе дворник-таджик с лицом жестокого и надменного царя Ашурбанапала сметал в кучу красно-желтые листья. Уже у самого подъезда меня догнала Валечка.
Есть такой тип женщин, которые всегда, в какую бы компанию ни попали, через десять минут оказываются Валечками, Танюшами и Любашами. Это их свойство вызывать чуть покровительственное отношение не зависит ни от возраста, ни от социального положения. Оно врожденное и висит над ними всю жизнь как родовое проклятие. Моя соседка оставалась для всех Валечкой, несмотря на то что возраст ее приближался к восьмидесяти. Неброская, тихая, никогда не участвовавшая в дворовых склоках или праздниках, неизменно приветливая Валечка издали похожа была на мальчишку-школьника – маленькая, щуплая, лицо в мелких бледных веснушках, на голове – короткий седой ежик, а под круглыми очками – очень молодые голубые глаза. Валечка и одевалась соответственно – носила обычно какую-нибудь куцую куртку, детские шнурованные ботинки (ее крошечный размер найти можно было только в «Детском мире»). Валечка появлялась во дворе редко, никогда не выходила просто так посидеть с другими престарелыми соседками на скамейке и обсудить животрепещущие проблемы последних серий мексиканского «мыла». Обычно она спешила куда-нибудь, по делу, шла с видом задумчивым и рассеянным и редко замечала знакомых. Зато, стоило ее окликнуть, немедленно останавливалась, улыбалась искренней радостной улыбкой и старалась найти минутку перекинуться парой слов. Мне, в общем, она была довольно симпатична, особенно по сравнению с другими, приставучими и въедливыми старухами с нашего двора.
– Добрый день, Марина! – Валечкины глаза лучились той самой теплой голубизной, которой так не хватало хмурому осеннему небу. – Что-то вас давно не было видно. Уезжали?
– В больнице лежала, – отвела глаза я.
– Ох, простите, – расстроилась она. – Надеюсь, ничего серьезного? Уже поправились?
– Да, ерунда, – отмахнулась я. – Все в порядке. Кстати, если вы хотели спросить про записки Сергея Ивановича, которые я предложила отредактировать…
– Марина, мне так неудобно вас беспокоить, – смутилась Валечка. – Вы же так заняты. Я уж сто раз пожалела, что мы полезли к вам со своими просьбами…
– Да бросьте, я же сама предложила, – обреченно махнула рукой я.
Все-таки положение местной знаменитой бумагомарательницы обязывало периодически уделять внимание хотя бы некоторым, наиболее приятным мне соседям.
Валечка расцвела:
– Правда? Вам в самом деле это не трудно? Вы понимаете, это ведь так, для семейного пользования. Просто, когда Сергей перестал выходить из дома, он очень мучился, скучал, потерял интерес к жизни, и дети придумали для него такое занятие, попросили написать, так сказать, что-нибудь для потомков… И он как-то сразу взбодрился, серьезно подошел к этому делу. Мужчине ведь очень важно, чтобы всегда было дело, иначе он начинает чувствовать себя бесполезным, ненужным… А тут такая большая работа! У нас она несколько месяцев заняла: он диктовал, я записывала. Теперь, если удастся привести эти записки в порядок, напечатать в нескольких экземплярах, чтобы подарить внукам, Сережа будет просто счастлив.
Она невольно подняла глаза к четырем окошкам в третьем этаже, за одним из которых находился сейчас ее муж, Сергей Иванович Сафронов, которому в последний год врачи запретили выходить из дома. И тут же смутилась, отвела глаза. Можно было подумать, что передо мной не много лет прожившая в браке пожилая женщина, а юная новобрачная, волнующаяся за своего жениха и в то же время боящаяся показаться смешной и назойливой окружающим.
– Конечно, Валечка, приносите заметки сегодня же. Мне будет совершенно не сложно, даже очень интересно, – заверила ее я.
И Валечка, обрадованная, заспешила куда-то по своим делам, пообещав принести записи вечером. Она и в самом деле не заставила себя ждать, к ночи пухлые школьные тетради, исписанные ее мелким аккуратным почерком, оказались уже у меня. Вверху страницы выведены были даты, иногда точные, иногда примерные, временами рядом с обозначением года пририсован вопросительный знак. Сергей Иванович излагал факты своей биографии предельно четко, видно, что старался упомянуть детали, приметы времени, вспомнить и воспроизвести свою реакцию на события, мысли, чувства тех лет. Конечно, его повествование было довольно сухим, лишенным образных ассоциаций и скорее напоминало дневник, чем захватывающую повесть о жизни, довольно размеренной, но сделавшей вдруг, неожиданно для самого главного героя, крутой вираж. Но и этого достаточно для меня, сказочницы и выдумщицы, чтобы разыгралась фантазия. За короткими рублеными предложениями, неловкими, непрофессиональными описаниями вставали люди, пылкие и сдержанные, любящие и ненавидящие, не всегда честные и отважные, порою проявляющие слабости и сомнения, но всегда живые, настоящие, чувствующие.
Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы, аккуратно перепечатывая воспоминания старика, машинально правя ошибки и неточности, вылепить целую историю, украсить деталями и наполнить жизнью. Таково уж мое ремесло.