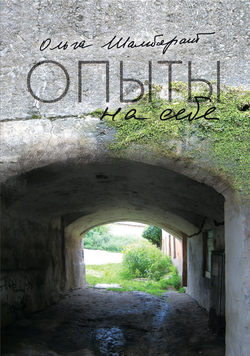Читать книгу Опыты на себе. Сборник эссе - Ольга Шамборант - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1. Признаки жизни
Моя генетика
ОглавлениеНет, я не собираюсь торговать местом на кладбище. И не потому, что это Хованское – советское холерное, в глине, гранитных плитах и детских игрушках, но без деревьев. Продать можно и эту мерзлую глину – один уже продал именно эту могилу. Не потому, что другие могилы – братские, тайные, неизвестные. Этим тоже можно торговать. Тех предков я не видела. Я знала, и долго, только одну бабушку, тезку, на которую я вполне похожа лицом, плохими волосами, любовью похохотать и – дальше больше. Нет, примазаться к ней нет даже и малейшего намерения. Это совершенно невозможно. Мне хотелось только напомнить всем то чувство, которое может быть и стыдным, и праздничным, и даже торжественным или щекотным – это зависит от сути происходящего и наличия у вас чувства юмора, – это чувство присутствия в вас вашего старшего родственника. Доводилось ли вам сказать что-нибудь как-нибудь – и вдруг почувствовать, что в вас это сказал ваш отец или кто-то другой родной старший. Да и не только в словах. Вдруг с какого-то возраста начинаешь мочь взглянуть на себя со стороны и видишь свои ужимки, манеры, способ жизни, и видишь одновременно, что прямо блоками кое-что получено от родителей. Так вот, моя любимая бабушка. Куличи она пекла до пяти утра. Я – тоже. Все делала очень медленно, захватывала все пространство. Я – тоже. Прежде чем мыть жирную посуду, вытирала ее бумагой (горячей воды не было тогда и там). Я, попав в не городские условия, «придумала» сразу такой же способ, а уж потом то ли вспомнила, то ли мне сказали. Как и у меня, у моей бабушки было полно подруг. Они назывались по имени-отчеству и были в моем детстве не людьми, даже и не образами, а какими-то непреложными понятиями или предметами меблировки мира. Она была им предана, любила их, они ее, видимо, тоже. Но тут начинается та узенькая тропиночка среди моих смущенных чувств, тропиночка, по которой я отправилась искать себе оправдание. Живу на свете давно, и вот наконец меня обвинили в предательстве. До сих пор, долгие-долгие годы, все меня понемножку или помногу предавали, и никто не заботился, что я-то там сама, не пускаюсь ли подпольно и нечувствительно для них в разные бесшабашные предательства. Язык-то остер, словцо-то… А вот нашелся и на меня охотник – загнал в угол и уличил меня во многом, а в первую очередь в предательстве. Я и отпираться не пытаюсь. Знаю, знаю давно, хоть никто и не обвинял раньше. Сама ощущала, сама себя укоряла, сама била себя в грудь. Знаю свой грех. Но какой великий! Непуганый, целина греха, всю жизнь одним про других рассказываю, и словцо красное оттачиваю, и, рассказывая, сама для себя осознаю, и формулирую, и хохочу, хоть и горькие дела. Предаю огласке, предаю, предаю. Всех, на каждом шагу. Никогда никому таким образом вреда не причинила. Не там предаю. Не так. То ли версии обкатываю, то ли, рассказывая, сама слушаю и оцениваю. Что-то такое делаю, серьезное аналитическое дело. Познаю, одним словом. Такое у меня оправдание.
А вот бабушка моя пресветлая тоже про всех хохотала. Подруги были в основном гимназические, уцелевшие девушки. Она-то тоже одна уцелела, хотя один из «смехов» начинался: «У нас в тюрьме…» И вот эти Александра Андреевна, Наталиванна, Татьяна Николаевна, Марья Иосифовна, Клавдия Михайловна (Клё), Зарины (все вместе – сестры с братом). Так вот, бедная Мария Иосифовна была чрезвычайно глупа. Теперь никто не умеет быть глупым таким способом. Она служила (все они не работали, а служили) то ли в Доме кино, то ли в ЦДРИ – во всяком случае, там, где постоянно во всезапретные времена были просмотры каких-то других фильмов. Она, наверно, в зал пускала, что-то такое, и все смотрела, а потом рассказывала приходившим ее навестить подругам. Бабушка страшно смеялась, что М.И. не может справиться с пересказом сюжета, все у нее концы с концами не сходятся. Замученная бестолковым рассказом, бабушка хотела уж по крайней мере узнать, как наконец разрешился киноконфликт. Она спрашивала у той что-нибудь вроде: «Ну, а как же вы говорите, а как же муж?» А та разводила руками и говорила только: «А вот так!» Еще изумительная о ней история. Эта М.И. была особенной подругой Татьяны Николаевны, обладательницы неправдоподобно огромного носа и приемной дочери-стервы (ту учили английскому еще тогда и всерьез внушали, что надо стремиться стать женой принца Уэльского, кончилось же дело тем, что она выучилась-таки в Инязе, стала стукачкой-переводчицей и жестоко обращалась с Т.Н., когда та умирала от рака). Так вот, муж Т.Н., когда М.И. зашла в гости, а хозяйки почему-то не было, стал «приставать». М.И. пришла в ужас и убегала от него вокруг круглого стола, увещевая и обращаясь по имени-отчеству.
Александра Андреевна была очень неприятной, у нее была какая-то бородавка, безнадежное мясистое лицо и что-то вроде френча надето. При этом она, служа где-то, помогала в войну со жратвой.
Наталиванна была большая, столь похожая на Пашенную, что и добавить к той нечего. Мне кажется, она и сама ощущала себя в роли Пашенной. Она была очень неглупа, но тяжеловесно несчастлива в семейной жизни. Муж Яков Львович – ученый-радиофизик из медиков, еврей, интеллигентный человек, обожавший науку и баб. Сын – вялотекущий шизофреник. И она – умница, уступившая свою математику, запертая в доме, изнывающая жалостью и неудовлетворенностью в связи с сыном. Потом чудовищно неприятная невестка и внук – отрада, баловень, тиран, и новый виток неблагополучия с ним. Так вот, и она и Яков Львович использовали бабушкины доверчивые уши и отзывчивую душу для жалоб и доносов друг на друга. Бабушка приходила к нам и рассказывала маме-невестке то какой мерзавец Яков Львович, то какая деспотичная, черствая, негибкая Наталиванна – каждый раз искренне. Она их внимательно слушала, сопереживала, соглашалась с каждым по очереди. И, я думаю, это ее не смущало. Никто не требовал от нее решительных действий, жаждали лишь понимания, и она понимала. А свести концы с концами? Тут и она, как Мария Иосифовна, могла только развести руками: а вот так. Я помню даже какие-то мягкие намеки моей матери, что так обсуждать с обоими не стоит, что-то робкое про предательство по крайней мере одного… что если они между собой выяснят про эти рассказы, будет обида, неловкость. Бабушка отметала такие угрозы. Она не чувствовала греха. Она сочувствовала обоим по очереди от всего сердца. Со мной тоже была такая история, совсем уж в других лицах и декорациях. Мои сокурсники, муж и жена, которые сначала жили в одном со мной кооперативном доме для бедных, «эмигрировали» из СССР в БССР, задолго до перестройки захотели, чтобы их малые дети выросли в частном, в настоящем, в их доме, а они бы разводили тюльпаны. Боже! На основе этого советского застойного детектива разыгралась шекспировская трагедия их любви, разбитой ее родителями под боком, советской действительностью, ее хамством, жлобством, болезнями детей, его замедленной, но неуклонной реакцией на происходящее. Они приезжали по очереди в Москву и приходили ко мне. И каждый рассказывал свою правду. Оба талантливые рассказчики. Ему я немного больше верила, ей, как женщине и матери, немножко больше сочувствовала. Я не объединялась с ними против, а старалась уговаривать за. Но я была их общей. Потом он прекратил ко мне ходить. Он взял на себя труд исчерпать эту двусмысленность. Но я могла бы и дальше, как бабушка. Ничто мне не мешало. Я была чиста. О! Я затронула такой Везувий Судьбы. Он извергает и поныне. Она уже с одной дочкой в Дании. Он – под Москвой. Младшая, еще девочка, – одна в Москве. Но нет. Их рано предавать даже читательскому суду. Они еще не знают, что с ними будет дальше.
Так вот, я хочу сказать и про Клё с глазами «как фиалки» (мерзкая старая коза с лицом, похожим на слово «бухгалтерия»), которая имела или воображала, что имела, любовников до восьмидесяти пяти, что ли, лет. Ах, они все просто исчезли. А Елена Николаевна, которая получала пенсию рублей восемь – двенадцать?! Она копила деньги на плащ цвета морской волны и подкуп лодочника (!), который взялся бы перевезти ее в Турцию. Это уже после войны! У нее была только сестра в Медоне. Так по безумному легкомыслию она обратилась к Хрущеву, и он выпустил ее во Францию. Тогда! Если бы моя милая хохотушка бабушка держала язык за зубами, кто бы узнал, что были эти одинокие, вычеркнутые из советской действительности люди. Хоть что-то, хоть эти анекдоты должны послужить им памятью. «Предательство, предательство!» А вдруг это форма благодарного отражения их бытия? Как умеем, извещаем мир о вас, клиенты дорогие!