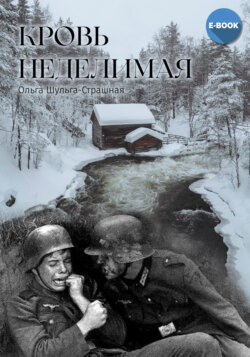Читать книгу Кровь неделимая - Ольга Шульга-Страшная - Страница 5
Кровь неделимая. Книга 1
Глава 3
Оглавление«Кажется, я влюбилась….». И сердце мое покорно покатилось в памятные смешливые глаза.
С этой мыслью я и уснула, шепотом помолившись. Давно забытое мною «Спасибо, Господи!» было главными словами. Впервые за пять лет я не просила ничего. Ни-че-го! Я только благодарила. И еще надеялась на помощь. «Чуть-чуть, чтобы не потерять…!», а что потерять, я не осмыслила, я уснула. Наверное, надежду….
Наутро Марта Адольфовна принесла мне поднос с завтраком, пожелала доброго утра и заявила, что господин Власов уехал в Москву по делам, вернется поздно, а, может, заночует в московской квартире. В общем, я получала свободу до самого вечера.
Что делает нормальный журналист, если получает свободное время? Конечно, он лезет в Интернет! Мне хотелось как можно больше узнать о Власове. Что он, кто он, ну, в общем, биография в подробностях. Но, увы, ничего нового я не узнала. Обыкновенный московский школьник, потом студент, несколько удачных операций во время перестройки, а до этого, как у всех начинающих предпринимателей тех лет – два-три кооператива. Потом – купли-продажи, совместные предприятия и т. д. и т. п. В общем, как-то слишком все гладко и правильно. Ни тюрьмы тебе, ни сумы, ни одной-единственной ошибки. И ни слова о его семье! Как будто кем-то было наложено табу на информацию о личной жизни Юрия Власова. И только в одном зарубежном издании мелькнула фотография, на которой рядом с Юрием Сергеевичем вполоборота стояла миловидная женщина с темной короткой стрижкой. Но – никаких комментариев. Как будто снимок был сделан небрежно, случайно, и женщина эта вполне могла быть случайной спутницей или переводчицей. Могла…. Но случайных спутниц у таких людей, как Власов, не бывает. А переводчицей…. Могла бы. Если бы я не знала, что Власов владеет тремя языками.
Я и сама не заметила, что уже очень долго разглядываю лицо Власова – открытое, с глазами, не спрятанными за дымкой очков. Я вспоминала, как он описывал деревню, как точно и ярко рассказывал о мыслях и чувствах мальчика Егора. Ему бы писателем быть, Власову. Хороших писателей в наше время – раз-два и обчелся. А бизнесменов вокруг пруд пруди. Да и олигархами земля русская не оскудела бы, если бы один из них стал писать романы.
Я провела по экрану монитора пальцем, как будто очертив контур подбородка Юрия Сергеевича. Я пока не понимала ни его самого, ни цель его рассказа о чужом мальчишке и его семье. Да и сама себя я не понимала. Я только знала, что Власов затеял трудное дело. Наверное, гораздо более трудное, чем развитие его бизнеса. И я должна была помочь ему. И теперь не только потому, что он щедро платил за мой труд, за его обещание быть востребованной журналисткой после окончания работы. Дело в том, что мне уже не хотелось, чтобы эта работа когда-нибудь закончилась. Да, я поняла, что я… пропала, потому что поверх изображения Власова передо мной то и дело возникало другое лицо…. И оно всегда было рядом с Власовым.
Да, с головой, со всем своим самостоятельным сердечком я – про-па-ла! Мгновенно и неожиданно. Нет – долгожданно!
Утром, едва я успела проснуться, в комнату постучала Марта. На этот раз она выждала приличное время и зашла. Что-то в ее взгляде мне не понравилось, то ли ее что-то встревожило, то ли она боялась чего-то. Но Марта Адольфовна быстро спрятала свое настроение и даже улыбнулась мне:
– Господин Власов улетел в Австрию. Его не будет несколько дней.
Марта поставила на мой столик поднос с завтраком и вышла.
– Ура! Свобода! – я сладко потянулась и нехотя выскользнула из мягкой-премягкой постели. Мой взгляд, споткнувшись о серый экран монитора, привел меня в чувство. И чувство это называлось долгом. Да, я должна продолжать работу и без Власова. Чтобы дни его отсутствия не пропали впустую, я решила узнать побольше о семье Егорки. И, может, отыскать в биографии Власова то место, которое занимал этот чужой ему мальчишка. Заглянув в Интернет, я легко нашла карту Брянской области и маленькую лесную деревеньку Зиньковку возле небольшого городка со старинным русским названием Клинцы. Оказалось, что это совсем недалеко от Москвы. Ну что ж, начало поискам было положено. Не найдя верного моего стража Георгия, я сказала о своем грядущем отсутствии только Марте. Да оно и к лучшему. Георгию лучше не знать, что я поехала на вокзал, а потом дальше – на Брянщину. Марта выслушала меня и только сказала:
– Если на несколько дней, возьми кофту и теплый шарф. Должно похолодать.
И, признаться, этим удивила меня. Сто лет обо мне никто не заботился. А тут – возьми шарф…. Я с запозданием от своей растерянности хотела сказать слова благодарности, но Марта исчезла, как будто надела шапку-невидимку. Она умела вот так вот исчезать и появляться. Мгновенно. Это с её-то ростом и весом!
Клинцы. Большой железнодорожный узел, городка не видно совсем, скрылся за высокими соснами. Говорят, на Брянщине во время войны сосны фашисты вырубали на сотни метров от станций. Партизан боялись. Вырубали и по-хозяйски вывозили домой, в Германию. С тех пор выросли новые деревья, и теперь их где-то беспощадно, украдкой вырубали свои, доморощенные гады. «Ты что, в партию зеленых записалась?», – усмехнулось мое внутренне «я». «Неа, просто красиво здесь, жалко, если это когда-нибудь исчезнет».
Кругом действительно было красиво. Сосны стояли как в пуху – иней покрыл их с макушек до нижних веток, снег хрустел под ногами, напоминая о близости Новогодних праздников. Красота….
– Девушка, вы далёка? – совершенно не по-московски спросил меня немолодой уже таксист. Он стоял возле нашей родной, а потому ржавой от капота до заднего бампера «волги».
– В Зиньковку.
– А-яй! В Зиньковку! Пешочком?
– А что, мне сказали, что это рядом.
– Дак это рядом для тех, кто в валеночках.
Я глянула на свои новенькие итальянские сапожки на высоченных шпильках. И только сейчас ощутила, что они тонкие, как и перчатки на руках. И меня сразу пробрал мороз. И красота вокруг сделалась не такой добродушной, как виделась мне из окна вагона.
– А сколько? – на всякий случай спросила я о цене.
– Без разговора – двести, с разговором – стопийсят, – одним смешным словом определил стоимость поездки таксист.
– Что ж, будем экономить, стопийсят, так стопийсят! – невольно засмеялась я.
– А вы к кому будете в Зиньковке-та?
– А не знаю еще, вот определюсь с поисками, и назад – в Клинцы. Переночую в гостинице, а утром назад в Москву.
– Дак а чё ж в гостиницу та, у мамани моей переночевать можно. Дом большой, теплый. Блинков поедите, да и кабанчика вчера закололи. Колбасы там кровяной или сальца с яичней спробуете. Поисть домашнего – эта ж праздник!
– Спасибо, я подумаю, – от одних разговоров я уже почти согрелась и даже повеселела. И посмотрела на своего шофера по-новому. Разговаривает совсем просто, намешивая смешные слова в нормальную речь, а выглядит необычно. Четкий профиль с тонким носом и красивым изгибом губ, подбородок с небольшой ямочкой, глаза карие, добродушные, но с прищуром. Если бы я встретила его в столице, то не отличила бы от коренного москвича. Кого-то он напомнил мне, но вот кого? Я долго допрашивала свою хваленую память, но так и не вспомнила. «Ладно, – пообещала я себе, – потом обязательно вспомню!». Ах, если бы я вспомнила сразу, насколько проще были бы мои поиски…. Или их бы совсем не было.
– А кого вам нужно в нашей Зиньковке-та отыскать? – поинтересовался водитель.
– Да хочу старожилов об одной семье расспросить. Может, кто и вспомнит.
– А, дак это прямиком к моей мамане. Она тут как родилась, так ни ногой отсюдава. В Клинцах то раз в год быват. А так – ни-ни! И войну здесь была, и после – ни на шаг. Правда, чуть в Германию не съездила, но убереглась, спряталась в соломе.
– Немцы? – догадалась я.
– Ага, девчонка еще была совсем, шустрая, два раза уберегалась, а один раз споймали, так она в откос, в сугроб, значится, сиганула. А то бы не было меня. Нет, не было, – уверенно заявил водитель, – она красивая, маманя-то моя, не вернули бы немцы девку, умучили.
Когда мы въехали на главную широкую улицу Зиньковки, она поразила меня давно забытой красотой русской деревни. Стройные дымки над заснеженными крышами, расчищенные тропки к каждому дому – все блестело и сверкало в лучах зимнего солнца. И яблони в снегу – везде яблони.
– Антоновки, – догадался подсказать водитель, – второй хлеб. А в войну, маманя сказывала, с голодухи спасали, яблоки-та.
Машина неповоротливо свернула в проулок и застыла у большого, но по всему видно было, старого бревенчатого дома.
Я открыла кошелек и протянула обещанные «стопийсят».
– Да ты че, девушка? Я ж домой приехал.
– А торговался зачем? – засмеялась я.
– Дак эта, для порядку….
– Василек, это где же ты таку кралю отхватил? – на крылечко с резными столбиками вышла крепенькая такая с веселыми глазами пожилая женщина.
– Да что ты, мамань, я ж для нее стар. Она ж дите еще.
– Знаю я тебя, охабник, небось всю дорогу голову девоньке морочил.
– Это маманя моя, Василиса Андревна.
– А тебя как зовут, дитятко?
О Боже, залилось чем-то горячим мое сердце, да только ради такого слова, такой интонации следовало приехать сюда. Я растаяла, как снежинка на ладони.
– Дуня….
– Ай славно-то как тебя зовут, Евдокиюшка, Дунечка, значит, по-нашему.
И впервые мое имя, произнесенное другим человеком, не раздражало меня. Оно мне даже понравилось….
Мы постучали-потопали ногами на крылечке, стряхивая нечаянный снег, и прошли в теплое нутро русской избы. А я как будто прижалась к давно забытой матери.
– Раньше-то сени здесь были. Холодные сени. Дак мой неугомонный надумал здесь этот, – старушка запнулась на мгновенье, вспоминая забытое слово, – санузил делать. Расковырял задню стенку-та, трубы подвел, теплые да холодные, да с помоями которые, значит, да потом отгородил все от людских глаз. А тепло стало-та! Да и на двор бегать не надо.
– А неугомонный-то кто, Василий? – на всякий случай спросила я.
– Да что ты, девушка. Мужняя я еще. Мужик в доме есть, Захар мой, рукодельник неугомонный. А Василек отдельно живет. У няго свой дом-то для беспокойств там разных.
Я внутренне даже присвистнула, вот это старушка. Сколько же ей лет, этой подвижной «мужней» женщине? Считай – не считай, но выглядела она лет на семьдесят с хвостиком или с хвостом, но старухой ее назвать язык не повернулся бы ни у кого.
– Чей-то ты, милая, меня так оглядываешь? Не кажусь я тебе, а?
– Ой, что вы, кажетесь, еще как кажетесь, удивляюсь молодости вашей, Василиса Андреевна.
– Ну, молодкой ты меня не называй, стара уже. Восьмой десяток дохаживаю. А то, что лицо молодое, так у нас все такие. Это все мать-антоновка. Она, целительница. Да еще коли добро творишь людям, лицо справное остается, знаю я точно….
Передняя часть избы, по-видимому, была главной. Здесь, не смотря на громадную русскую печь, было просторно. Два окна у левой стены были завешены красивыми рукодельными тюльками и шторами. Под этими окнами стоял просторный стол с набело выскобленной сосновой столешницей. Боже, я и не думала, что такая мебель еще есть на свете. Да и горка, по-старинному открытая и огороженная только кружевными деревянными подставами, была так красива, что я с трудом оторвала от нее взгляд.
– Да садись на скамью-то, Дунечка, ай неловко тебе? Так я стул принесу из горницы. Там у нас все по-городскому. Да не нравится мне, чужое все, потому что как у всех. А эти вот мебеля муж мой, Захарушка, настрогал.
– Мне тоже очень нравится, правда. Как в сказке, – я с удовольствием увидела, что на лице хозяйки мелькнула улыбка.
– Ну, жисть-то у нас всяка была, не всегда сказка-та. Может, потому все и украшаем, чтобы радостнее, значится, было. Хучь бы и глазам.
За разговором я и не заметила, как оказалась за столом, напротив довольно ухмыляющегося Василия.
– Ты чтой-то расселся, увалень, тебя дома, чай, заждалися. Батя Любаньке твоей тока что мяса понес да колбасок.
– А ниче, мамань, я только чуток блинков да колбаски кровяненькой.
– Блинки не созрели еще, а колбаски поешь, поешь, голубок.
Хозяйка бережливо постелила поверх столешницы цветастую скатерку, а потом еще белую кружевную хрустящую клеенку, а поверх всего положила на стол большую чисто выскобленную доску.
Тяжелый заслон со стуком был опущен на пол возле печи, и из ее жерла показалась огромная сковорода со скрученными кольцами домашней колбасы. Старый длиннющий ухват для неё в руках Василисы Андреевны казался игрушечным, так ловко и красиво она с ним управлялась.
– А чей-то вы расселися, как нехристи? А руки мыть кто будет – кот-воркот?
Мы с Василием посмотрели друг на друга и расхохотались, а я в который раз за эти дни подумала, что жизнь моя так изменилась, что казалась мне то ли чужой и украденной, то ли взятой напрокат. А мне так хотелось быть в этой жизни своей, вот как сейчас совершенно своей я чувствовала себя в этом доме.
Когда мы вернулись из сеней с чисто вымытыми руками, на доске посередине стола стояла сковорода с недовольно скворчащей колбасой и лежал большой каравай серого ноздрястого хлеба. Я чуть с ума не сошла от восхитительного запаха. Вот это аромат, вот это колбаса! Нет, я все-таки обжора и к годам пятидесяти стану большой и круглой, как бочка.
– Вот эта, потемней, кровянка, а это – просто домашняя, с перчиком и чесноком. Маманя чеснока всегда много кладет, чесночная она душа.
– Полезный потому что. Для сосудов. И вам, мужикам, полезный, вы вообще из одних сосудов….
Василий замер на миг, а потом захохотал:
– Ну, ты, мамань, даешь. Откуда ты знаешь?
– Это ты – даешь! Что я, неграмотная, али телевизора в доме нету? Ваши американцы прямо с ума скособочились от чесноку да еще от свово аспирину.
– Чёй-то они наши, американцы-та?
– А потому что деньги американские любите. А нужно любить рубль. Плохой он али хороший, все равно – люби. Потому что он – свой. Это как на войне. Не с плохими людьми воевали, а с врагами.
– Так деньги – не враги, че с ними воевать?
– Первый номер они враги, вот как! Застят они вам белый свет.
– Ну, мамань, я лучше домой пойду, опять ты про деньги, пропади они.
– Вот пусть и пропадут. А то нашли икону. Все вам мало, все вы за столицей тянетесь. А не сдается вам, что беда от них, да от ваших желаниев, которые меры не знают. Скромность в желаниях потеряли, и счастье потеряете, коли не осядете к земле-то поближе. А то ишь как надумал, землю пахать не хочешь, в таксисты подался. Денег ему, ишь, мало…
– Мамань, да я таксистом уже двадцать лет работаю, что ты в самом деле! Ну сколько говорено уже было! – привычно отговаривался Василий.
Он наскоро ковырнул один кусок колбасы, потом другой, с досадой отложил вилку и стал надевать свой полушубок.
Но Василиса Андреевна по старой, видимо, привычке, все говорила и говорила о том, что дети зря от земли отошли, что страна начнет умирать с городов, а зарождаться заново от земли, от села, она говорила и говорила и не заметила, что Василий давно уже вышел, тихонько прикрыв за собой тяжелую дверь. Он только на прощанье с улыбкой оглянулся на меня и подмигнул.
– Не слушают мать, – совсем не грустно сказала хозяйка и присела напротив меня. Она отломила кусочек серого хлеба, уже крупно нарезанного и выложенного на затейливую кружевную деревянную тарелку, макнула его аккуратно с краюшку в растопленный смалец и с аппетитом стала жевать. И я успела заметить, что слева зубов-то у нее осталось раз-два и обчелся. Она догадливо покивала головой и сказала:
– Зубы-то мне в сорок четвертом еще выбили. За дело. Не лезь в чужие дела, называется.
– Кто выбил?
– Дак в органах и выбили. За мальчонку, за солдатика, значит. Он поносом сильно страдал, его наши и забыли, когда отступали. Ну, я его выходила, а потом, не знала, че делать-та дальше. Наши-то уже далеко были, ему не догнать. Вот и прятала то в закутке, то в сараюшке на отшибе, то на чердаке, где подле трубы-то тепло. Совсем хворый был, застуженный сильно, да и поносом страдал, родимый. Лечил тут его один, на ноги поставил, – она немного замялась, а потом коротко закончила. – Он потом в лес подался, партизан все искал. Вернулся совсем плохой, шибко ноги тряслись. Ослаб он. Ну, тут наши подоспели. А когда органы-то пришли, били его сильно. А я возьми и заступись. Ну и мне досталось. А солдатик тот умер. Сиротой жил, сиротой и помер.
– Сильно били? – настойчиво допытывалась я. Моя вилка забыто лежала на тарелке. Познавательный аппетит у меня был всегда на первом месте.
Василиса Андреевна только вздохнула.
– Мне тогда все равно уже было. Жить не хотелось….
И все. Ни слова.
«Это она о ком, о ком это она?», – я вдруг услышала, как на весь дом заколотилось мое сердце. Вот оно! Вот она – тайна, услада журналиста! Я слегка кашлянула, но Василиса Андреевна молчала, как будто жалея об оброненных словах. И я поняла, что она не скажет больше ни-че-го.
На крыльце послышался тяжелый топот, потом шорох веника, и в дом вошел высоченный широкоплечий старик. Уже с самого порога он опалил меня таким тревожным взглядом, что я даже икнула с испуга.
– Здрасьте вам, гостюшка. Из Москвы, говоришь?
– Да, из Москвы. Здрасьте.
– Редкие гости у нас из Москвы, редкие. Правильно сказать, так и вообще небывалые. Не бывают, так сказать, не бывают.
Он с надуманной озабоченностью снимал полушубок, потом теплую душегрейку, и все время настойчиво ловил взгляд жены. Она сначала делала вид, что не понимает его, а потом глянула на него и немного так пожала плечиком. Что мол, я ничего, я молчу.
– Спасибо вам. Может, я пойду? Я ведь по делу здесь, я ведь журналист, – я бочком-бочком скромненько так сползала с высокой скамейки.
– Ну, ежели журналист, – уважительно протянул старик, – так мы, эта, девонька, поможем тебе в деле-то. Васька-то сказывал, что ищете вы кого или еще че…., – он так и путался, называя меня то на «вы», то на привычное «ты».
– Ищу. Я узнать хотела о семье одной. Они здесь жили предположительно в семидесятые-восьмидесятые годы. Ну, не то чтобы постоянно жили. Летом только. Как на даче. Но дом у них был вроде свой, родительский. Хотя родителей, насколько я знаю, в живых уже не было.
– Ну че ты с расспросами, старый. Дай Дунечке согреться, отдохнуть. И сам садись, борща щас всем налью. А то набросился, откуда да зачем.
– Это прощеньица прошу. Меня Захаром Михалычем кличут, – запоздало представился хозяин. А я только послушно кивнула головой и ответила как автомат:
– Дуня.
А на самом деле в моей голове мысли заструились с такой скоростью, что я даже глаза прикрыла на мгновенье. «Они что-то знают! Знают и во что бы то ни стало хотят скрыть!». И сразу – сто предположений.
– Ты не мудри там, девушка, в голове своей, мы привыкли запросто с людями-то. И чужие здесь редко гостюют, – догадался о моем смятении Михалыч, – а мы с баушкой здесь самые старожильцы. Окромя нас, стало быть, тут все – новожилы. Поскупали дома задаром и прижилися. И русаков-то – раз два и нема. Все больше эти, кавказцы. Хотя че напраслину зря наводить, хозяйственные люди. Видно, на своей земле добротно жили, чисто.
– Так старожилов кроме вас вообще нет? – не поверила я, вспомнив первое ощущение, когда увидела затаившуюся в снегу Зиньковку.
– Дак че, нема вроде, – смутился от собственного вранья старик. Видимо, кавказцы и правда в деревне были, но не так много, как он изобразил. Наверняка Захар Михалыч просто не хотел, чтобы я зашла со своими расспросами в другие избы. Значит, он догадался, о какой именно семье я буду спрашивать! Вот это удача! Сразу напасть на след Егоркиной семьи!
Хотя, какая там удача, по-моему, хозяева и не собираются откровенничать со мной. Такое ощущение, что они заняли круговую оборону вокруг какой-то тайны. Чудаки, нужно сказать им, у кого я работаю и… И…. И что, казать, что я по собственной инициативе решила докопаться до той истории, через которую мой рассказчик никак не мог перешагнуть? Да и говорить, что я работаю на Власова я тоже не имею права. Это было одним из условий, которое он мне поставил. Что же мне делать? Претвориться, что я потеряла интерес к цели своей поездки? Глупо….
– Дак о чем ты, девушка, узнать-то хотела? – Захар Михалыч уже о чем-то пошушукался с женой, и она выскользнула в сени, наскоро накинув громадную, похожую на одеяло, коричневую шаль с толстыми кистями. Я думала, что такие уже и не изготавливаются нигде…. Мысли мои поплыли, как будто кто-то оглушил меня по голове мешком с чем-то не очень тяжелым и даже мягким. Потому что я вдруг поняла, что догадалась! Несчастье или беда или даже преступление случилось именно в этом доме, в этой семье! И старики скрывают это от всех! Только они еще не знают, что Власов хочет выдать Егоркину тайну. Нет, не выдать, а просто записать на память. Только вот для чего? Ему что, недостаточно собственной памяти? Или… или он в чем-то хочет признаться, исповедаться? Господи, да конечно же! Именно Егоркина тайна тяготит его, он хочет освободиться от нее, и именно поэтому хочет записать. Может, он после этого все написанное порвет или сожжет? И такое может быть. Но здесь, в Зиньковке, кто-то по-прежнему охраняет эту тайну, и, наверняка, это старики…, как их фамилия, кстати? Тут только я вспомнила, что не знаю фамилии хозяев. А на прямую ведь не спросишь…. Ничего, уж это-то я узнаю.
– О чем узнать…? – с запозданием ответила я хозяину, – да вот хотела разузнать, кто из жителей, переживших оккупацию, остался еще в Зиньковке?
– Дак я ж тебе говорю, что акромя нас вроде как и никого, – уже без запала врал старик.
– «Вроде как»? – съехидничала я.
– Ну, Митька Сухоручка еще. Да баба Лёкса.
– Лёкса? – невольно улыбнулась я.
– Ну, Ляксандра, значит по-вашему.
– Ляксандра…, тогда понятно. Это точно «по-нашему». А еще есть кто?
– Дак че те надо узнать-то?
– Да ничего конкретного. Правда, я хотела узнать еще об одной семье. Только я фамилию не знаю, знаю только….
Но в эту минуту открылась дверь, и в проеме показалась Василиса Андреевна. Она с порога глянула на мужа и чуть качнула головой из стороны в сторону – дескать, «нет». А что – «нет», Бог весть….
– Ты отдохни, касатка, а мы пока по хозяйству с маткой разберемся, потом и погутарим.
Этот смешанный говор, в котором проскальзывали и белорусские интонации, и украинские, и московское аканье, да еще самобытные местные словечки и ударения, все это изрядно утомило меня. Я боялась своего магнитофонного или, проще говоря, попугайничьего таланта все запоминать и сразу повторять. Вот приеду в Москву, и начну «Лёксать, дакать, чёкать». Нет, лучше как-нибудь назову свою подругу Александру Лёксой, вот уж она лопнет от смеха! И перестанет, наконец, издеваться, над моим таким народным именем! «Народным, как самокатанные валенки», – усмехнулось мое давно дремлющее «я». «А ты вообще молчи, проспало тут все на свете! Ни одного совета от тебя не слышала! Будешь вот теперь вместе со мной расхлебывать всю эту историю!». «А чё расхлебывать-то, ты еще и не узнала ничё!». «Ах, так ты и не спало вовсе, подслушивало, а теперь попугайничаешь, «чёкаешь»! Издеваешься!». «Да ладно, напустилась! Хорошо ведь тебе на самом деле! – миролюбиво замяукало мое «я».
– Хорошо! – ответила я вслух.
– А раз хорошо, то и отдыхай, наговоримся потом, а я пока блинков напеку, тесто созрело, однакось, – успокоенно ворковала хозяйка.
– Я лучше пройдусь, воздух у вас такой вкусный, сосной пахнет и почему-то яблоками.
– Куда пройдешься? – почти с испугом спросила Василиса Андреевна.
– Да никуда, просто по улице прогуляюсь.
– Тогда вот это надень, – она взяла с приступочка русской печи мягкие серые валенки, – и еще вот это накинь, – на плечи мне легла давешняя тяжеленная шаль. Я даже как-то пригнулась от ее тяжести. Но деваться некуда, иначе, я понимала, из дома меня не выпустят. Господи, опять мною руководят. Что за жизнь наступила! Но мне опять это нравилось, ёлки-палки! – На вот еще рукавицы, а то руки-та сморозишь в одну минуточку….
Мороз разбрасывал искры по снежному покрову, ровный наст на просторных огородах тоже искрился, как будто покрытый россыпью бриллиантов. А тропка от дома к дороге была цвета той голубизны, которую почему-то принято было называть «белая, как снег». Снег похрупывал под моими ногами, укутанными в мягкие, как рукавицы, валенки. Они мне были немного велики, и нога в шелковистых колготках озорно пританцовывала и скользила внутри теплого пространства катанок. Внезапно картинка перед моими глазами расплылась и потом появилась как сквозь белое кружево. Я поняла, что это мои ресницы покрылись инеем, и все теперь смотрело на меня сквозь кружевную рамочку масеньких снежных кристаллов. И моя память принялась фотографировать эти картинки.
Итак, переулок, где стоял дом моих хозяев, одним концом поднимался на взгорок, который оканчивался обрывом в узкую, но, наверное, глубокую речушку. В этом месте через нее был переброшен крепенький такой подвесной мостик, на другом берегу настил моста постепенно переходил в ровную тропку, и зимой невозможно было рассмотреть, где кончался мост, и где начиналась тропка. Все было бело-голубым и сверкающим. Да и густые кусты заботливо и как-то загадочно укрыли от меня дальнейший бег тропинки. Второй конец проулка, как известно, выходил на главную улицу Зиньковки. Я почему-то повернулась к ней спиной и направилась к мосту. Интуиция просто криком кричала – звала пройти над замерзшей речушкой. А интуицию я старалась слушаться. Хотя бы потому, что уже давно мне больше некого было слушаться.
Едва пройдя по мостку пять-шесть шагов, я чуть было не повернула назад. Каждая досточка в отдельности представляла собой натоптанный снежный горбыль, на котором нога никак не могла найти твердую опору. Я остановилась и оглянулась назад. Пройдено было мало, но поворачиваться на этих круглых обледенелых досках было еще страшней. Что ж, придется идти дальше. А что же интуиция? Да она молчала, родимая, хвост, наверное, поджала от страха вместе со своей хозяйкой, то бишь со мной…. Понемногу-понемногу, и я добралась до середины мостка. Добралась и даже постояла немного на самой середине. Внизу, метрах в пятнадцати подо мной, дымилась узкая и длинная полынья, по очертаниям похожая на огромную кривую саблю. Видимо, на дне этой безымянной речушки били мощные ключи, не давая застыть реке даже в такой мороз, который мне казался лютым. Недалеко от моста река делала резкий поворот и пряталась за очередным крутым берегом, на вершине которого стояла раскидистая береза и темнел старый крест. Один, как будто он стоял сам по себе, но я каким-то потусторонним чувством поняла, что под крестом пряталась чья-то могила. И крест как будто охранял эту могилу. Меня вдруг передернуло от мурашек, которые родились в моем сердце, захолодив меня изнутри, и я знала, что это холод догадки. Еще чуть-чуть….
Еще чуть-чуть, и я бы сама спряталась навеки под таким же вот крестом. Потому что вряд ли кто-нибудь позаботился обо мне, вспомнил бы меня и захотел бы отвезти меня на какое-нибудь подмосковное кладбище. А и правда, чем здесь-то хуже? Я висела на вытянутых руках, уцепившись за нижний обледенелый от ледяного пара металлический трос. Отдельные проволочки торчали из общего завитка и кололи меня сквозь рукавицы. И эта маленькая колющая боль не давала расцепиться рукам. Один за другим с ног соскользнули валенки. Я хотела закричать, но вдруг подумала, что крик унесет слишком много сил. Да и до кого я могла докричаться? До того, кто ловко качнул мостки и накренил один край над другим? Кто тут же наверняка убежал, оставив меня беспомощно висеть над полыньей? И все-таки я тихонько то ли взвыла, то ли просто вякнула слабенько так:
– Спасите….
На большее у меня не хватило ни сил, ни смелости. Но снег тут же отзывчиво хрупнул у кого-то под валенками, и мостки заколебались под чьими-то быстро бегущими ногами.
– А-яй! А-яй, да как же это ты оскользнулась-то, дочка? – надо мной склонилась чья-то прокуренная до желтизны седая борода, и сильная рука одним движением вытащила меня за шкирку на проклятые обледенелые доски мостика. Я лежала поперек него, как дохлая рыбина, и не было такой силы на свете, которая сейчас могла бы заставить меня отцепиться от его зыбкой ледяной поверхности.
– Дак, чей-то ты разлеглася-та? А ну, вставай-ка, рыбонька, а то заморозишь свое женское-то нутро! Кто за тебя рожать-то детей будет, дед что ли Грыгорий?
Дед посуетился-посуетился надо мной и все-таки отцепил меня от спасительных досочек. Я насмерть прилепилась теперь к дедову боку, на всякий случай еще и схватилась за старый солдатский ремень, опоясывавший его жесткий от мороза тулуп.
– Дедунечка, не бросай меня здесь одну, Христа ради! – взмолилась я.
– Дак и не брошу, эвон моя изба, счас дошагаем и чаю попьем.
И я как наяву увидела старый эмалированный чайник, шипящий на раскаленной загнетке, и пар из его носика, и колотый сахар на щербатом блюдце. Все это как будто когда-то уже виделось мною, когда-то уже согревало меня, и даже сладость сахара как будто опалила мой язык. Я рефлекторно сглотнула и тут же забилась в кашле.
– Дак ты чей-то, простудилась? – удивился старик.
– Неа, это не в то горло попало.
– Дак че попало-та? – не понимал старик.
– Сахар….
Дед только удивленно приподнял брови и решил, что девка, наверное, со страху умом повредилась.
Когда мы добрели в жесткой сцепке до дедовой избы, потом ввалились широким комом в просторные сени, а потом и в теплое нутро, только тогда я поняла, что мне жутко страшно, и что я вся горю. Мне было жарко от страха, жарко от такого страха, что меня вдруг опахнуло дурнотным запахом смертельного пота.
– Дак ты че, испугалась та сильна-а-а? – потянул носом догадливый дед.
– Сильна-а-а…, – внешне безразлично откликнулась я. На самом деле я только сейчас вспомнила метнувшуюся в начале мостка тень, безразличную к моей смерти, ибо эта же самая «тень» не была безразлична к моей жизни. Вернее к чему-то, что я делала в своей жизни. И уж наверняка не к моей торговле фальшивыми кроссовками. За это даже наше государство не карало. Значит, я стала кому-то поперек пути. Или, как это говорят, капнула не в том месте.
«Ну да, ну да, как раз в том, вот только бы догадаться в каком именно…», – мое отрешенное сознание принялось быстро-быстро анализировать все слова и поступки прошедшего дня, но все они были окружены добрыми людьми, искренними словами и даже заботой. Я вспомнила тяжелую шаль, в которую меня укутала старая хозяйка перед выходом на мороз, и вдруг поняла, что давно не чувствую ее тяжести.
– Потеряла чевой-то, дочка? – участливо догадался старик.
– Шаль…. И валенки, – я видела, что дед, как впрочем и я, даже не заметил, что я топала до самой его избы босиком.
– А дак она в полынью-то упала, не удержалась, значится…, – сочувствовал дед, – да и валенки, выходит.
– Не моё это всё, чужое!
– Сама жива, и слава Богу! – припечатал мои переживания старик.
– Слава Богу, – как эхо откликнулась я. Потом я подняла онемевшие веки и разглядела дедову избу. Она и внутри была бревенчатой как снаружи. А печь была свежевыбеленной, она сияла, как снег. И я увидела старый эмалированный чайник, шипящий на раскаленной загнетке, и пар струился кверху из его носика, и колотый сахар лежал посередине стола на щербатом блюдце.
– Дедушка, ты кто? Как тебя зовут? – я чувствовала, что дед совсем не прост. Он иногда разговаривал, как образованный или, как минимум, грамотный человек, а иногда так, как будто он и за пенсию расписывался чернильным отпечатком своего пальца.
– Грыгорий, – улыбнулся старик неожиданно полнозубой улыбкой. И оттого, что зубы были сочного желтого цвета, я поняла, что они все – живые, его родные личные зубы.
– Дедушка, ты видел, кто меня хотел…, – я не решалась сказать слова «убить», но дед и так догадался.
– Дак ухрустел он, однако, не догнать, да и ты повисла.
– Логично, – попыталась улыбнуться я.
– А то! – спокойно констатировал дед. Так спокойно, как будто в этой ср…, в этой прок…, ну в общем в этой несчастной Зиньковке каждый день молоденькие москвички падают с мостков в полынью прямо у него под носом.
Через пару минут мы уже сидели на широченных, как лавки, табуретах, и сопели над чашками с мятным чаем и хрустели колючими осколками приторного сахара. Я такого лет сто в магазинах не видела. Кажется, он раньше продавался на вес целыми сахарными «головками».
– Дедушка, а чья могилка там над обрывом под березой?
– Над взгорком-та?
– Ну да….
– Дак знамо чья – человечья…, – как-то странно ответил мне «Грыгорий».
– Да я понимаю, что не медведь там похоронен. А кто именно?
– Дак мало ли кто. Могилка старая, имени не упомнит уж никто.
– Совсем никто?
– Я – не помню, – соврал дед.
То, что он соврал, я поняла сразу. Дед не умел врать. И правду сказать не хотел. Да что за круговая порука в этой Зиньковке? Что за тайну все они скрывают? Я вспомнила недомолвки и переглядывания Василисы Андреевны и Захара Михалыча. Что это за врунливая деревня такая, в самом деле! И кто, действительно, решил то ли напугать меня до смерти, то ли по-настоящему убить? Плечи мои опять невольно передернулись, как будто стряхивая смертельный страх.
– Как же я обратно пойду, дедушка? – я видела, что дед уже разделся до рубахи и даже в мыслях не держал, что несостоявшуюся покойницу нужно проводить обратно по скользким мосткам.
Как будто в ответ на мои страхи хлопнула дверь в сенях, потом распахнулась внутренняя дверь, и когда пар рассеялся, я увидела бледную даже сквозь морозный румянец Василису Андреевну.
– Жива? – она быстро-быстро пообкидывала меня своими яркими глазами, как будто удостоверяясь в моей целости, – жива, слава Христу….
– А вы откуда…?
– Дак тебя нет, да нет. А тут мостки покарябаны все, рукавичка на тросике висит, а в полынье – шаль! Аж сердце зашлось. Ну-ка, думаю, под лед девку утянуло! А потом вижу – следы! – суетилась вокруг меня старуха. Она быстренько так нацепила на меня все мои теплые вещи и одну-единственную на самом деле рукавичку. Я и не заметила, что она у меня одна. Дед Григорий молча наблюдал за ее хлопотами и в глаза почему-то не смотрел. Да и Василиса Андреевна как будто не видела старика вовсе, она молча приняла из его рук пару сереньких подшитых кожей валенок, шерстяные носки и скомандовала:
– Пойдем домой.
– До свидания…, – только и успела я оглянуться на деда, – спасибо вам, дедушка.
И краем глаза увидела, что дед протянул руку за своим кургузым тулупом. И я поняла, что отныне буду под его неусыпным надзором. Вот поняла – и всё! По крайней мере до тех пор, пока буду гостить в этой злосчастной Зиньковке, дед будет меня охранять. И я вспомнила, что видела деда во сне, его самого и эти чашки с синенькой каемочкой, и этот чайник с кусочком отколотой эмали на самом носу. Во сне или в детстве. Но я точно знала, что никакого деда в моем детстве не было. И мне незнакомо его такое знакомое до сладкой родственной боли лицо с глубокими и правильными до красивости морщинами. Вот бы мне такого деда…. Доброго, без заумностей и сварливого характера. Куда они в городе подевались, добрые старики и старушки?
Я ничего не понимала и ничего уже не чувствовала. Меня как будто загипнотизировали или, как раньше говорили в народе, заморочили. И эти мороки слепляли мои веки, как будто я не спала несколько дней или даже лет. И я боялась уснуть, потому что накатывавший на меня сон больше походил на смерть. Василиса Андреевна что-то бормотала себе под нос, почти волоком протащив меня через мосток, потом по проулку до своего дома. А как я поднялась на крыльцо, я уже не помнила. Я спала.
Проснулась я поздно утром следующего дня. Меня кто-то несильно тряс за плечо, и монотонный голос все просил и просил:
– Ну-у девушка, ну-у проснись. Ну что с тобой, – это «нуканье» в конце концов мне надоело, и я с трудом разлепила глаза.
Надо мной стояла здоровенная красивая тетка. Она хлопала на меня своими серыми с перламутровым отливом глазищами и продолжала трясти меня.
– Не надо, не тряси, я проснулась, – мне уже казалось, что все мои косточки от ее тряски гремят как камешки в детской погремушке.
– Люба, – прогудела тетка.
– Что – люба?
– Люба я, жена Василь Захарыча, значит.
– А-а…, ясно, а я Дуня.
Люба неожиданно хихикнула. Я даже оторопела. Дожили…. На селе смеются над исконно русским именем, а в Москве оно, кажется, становится модным.
– Да ладно, ты не обижайся. Просто у нас Дунь во всей округе мильон лет уже не было.
– Теперь вот есть. Временно, – за чудненькое слово «мильон» я сразу простила эту кустодиевскую красавицу.
Я с трудом сползла с высоченной кровати, устланной пухлой периной и закиданной многочисленными подушками и моими маленькими тезками – дунечками. Меня всегда смешило, что маленькие подушки на Руси называли дунечками. Но мне это почему-то было и приятно.
– Дунь, а ты зачем у нас?
Люба тем временем, пока я умывалась, быстренько накрыла стол к незатейливому завтраку.
– Да так, по делам. Разузнать кой-чего…, – ляпнула я.
Наверное, мои мозги к тому времени еще не проснулись и забыли все вчерашние наблюдения и приключения.
– Узна-а-ать? – протянула Люба, – а че такого не знают в Москве, че знаем мы?
Если не учитывать ее «че», то вопрос был поставлен весьма грамотно. Действительно, почему моя знаменитая (для меня, по крайней мере) интуиция буквально вопит о том, что здесь я найду ключ к разгадке жизни Егорки? Ведь в Москве на мои вопросы мог бы ответить Власов. Если, конечно, захотел бы. Вот именно – «если»!
– Люба, а где хозяева?
– А в Клинцы поехали с моим. Они всегда раз в неделю затовариваться ездят. Там магазины не чета нашему, говорят – как в Москве! Супермаркеты называются, вот! – с гордостью произнесла Люба.
Так, значит, надзор надо мной снят. Странно, что после вчерашнего происшествия меня так легко оставили наедине с моим любопытством и здешними жителями. Хотя что это я, а Люба? Ну-ка, ну-ка, проверим….
– Люба, душно у вас как. Пойдем, прогуляемся, а то у меня после вчерашних переживаний голова болит.
– Да уж свекруха рассказала. Как это тебя угораздило? Там вазгнуться – раз-два и капут!
– Да, «вазгнуться» у меня получилось. А вот с капутом придется подождать. А ты почему говоришь «капут»? – почти нечаянно спросила я.
– А тут у нас немцы после войны на лесозаводе долго работали. Вот с тех пор всякие там «капуты» и завелись. Вроде местного говора….
Моя фантазия или озарение в преддверии открытия как будто взорвались. Хотя, какие там фантазии, ответ уже проклюнулся и вот-вот должен был пустить росток. Только бы не упустить, только бы…
– Так пойдем, или как?
Люба уже стояла у порога, натягивая на свои широкие и розовые ладони пуховые варежки.
– А я свои потеряла. Вернее, одну.
– Нашла об чем печалиться, на-ка, – Люба тряхнула ситцевую котомку, висевшую на длинной тесемке прямо за печью на ужасающем крюке. Этот средневековый какой-то крюк торчал из бревенчатой стены как призыв для висельника. Если б я знала, как была близка к истине в этой случайно скользнувшей мысли. Нет, ничего случайного все-таки не бывает….
Люба на ощупь поискала-порылась в котомке и достала красные как маки варежки. Рукавичками эти шерстяные блины язык называть не поворачивался.
– А куда пойдем-то? – Люба постояла на крыльце, как полпамятника рабочему и колхознице и протянула руку вдоль улицы, – туда хочешь?
– Ага!
– Ну вот, и ты «заагакала», – рассмеялась Люба, – у нас все дачники к концу лета «агакать» начинают.
– А много у вас дачников бывает?
– Да теперь уже немного. У кого деньги есть, так те свои дачи понастроили. А у кого нет денег, так тем не по карману далеко ездить. А раньше много было. Даже из Москвы приезжали дачи снимать… Ой, – спохватилась она, – что это я разболталась.
– Ты о чем, – я сделала вид, что Люба ничего особенного мне не сказала, – ничего удивительного нет, воздух здесь – не чета московскому. А Подмосковье всегда было забито дачниками. А люди ведь как, они все уединения ищут для отдыха. Что б подальше от людей, что б одни незнакомые вокруг.
– Ну да, ну да….
Мы дружно хрустели по снегу ногами, дружно кивали то одной выглянувшей из-за калитки соседке, то другой:
– Здрасьте, здрасьте….
Со стороны наверное казалось, что идут две старые подружки или знакомые, и вокруг им все тоже знакомое и родное. Мне и вправду все вокруг казалось родным и знакомым, и, главное, хотелось, чтобы оно и было родным. В какой-то миг мне показалось, что я живу здесь давно, и здесь моя малая родина, и могилы на погосте – тоже родные. Кстати, о могилах, как бы выяснить, кто похоронен под тем бурым от старости крестом?
И, как будто в ответ на мои мысли, в конце очередного проулка показался откос с березой и с тем самым крестом.
– Пойдем, на реку посмотрим, – как ни в чем не бывало предложила я.
– А то, пойдем, – добродушно согласилась Люба.
Мы сошли с дороги и пошли гуськом по тропке, протоптанной к самой могиле, которую уже можно было рассмотреть. Она сливалась в ослепительном сверкании снега с берегом, и ствол березы над ней казался серым. И только лучи солнца местами расцвечивали ствол дерева красноватыми пятнами, как будто кто-то подержался за него окровавленными руками. И следы на берёсте так и замерзли навеки.
– Кто-то ходит сюда все время. Смотри, тропка какая утоптанная.
Но Люба вдруг замкнулась в себе, как будто осознала очередную оплошность.
– Пойдем к берегу, вон туда, – она потянула меня в сторону, шагая прямо по пушистому сугробу.
Но я отдернула руку и почти побежала по тропинке к могиле. Я знала, я чувствовала, что меня там ждет разгадка. Но когда я прочла надпись на медной табличке, прикрученной посередине крестовины, я поняла, что загадок стало на одну больше. Такое имя не должно быть здесь написано. Никогда. И особенно с такой датой смерти! И еще ниже, на дереве креста, второе, еще более невероятное имя – «Хельмут Рыжик». Собака, что ли? В одной могиле с человеком?
– Кто это?
– Дак кто знает, чужак. Имя-то вишь, не нашенское.
– А… а…, – нужно было что-то сказать, но я вдруг отупела так, что и имя собственное не могла бы вспомнить в ту минуту.
– Пойдем, – Люба сердито дернула меня за руку и я покорно побрела за ней. Мы постояли на крутом взгорке, рассматривая сверкающую реку, сосновый бор в пушистых снеговых шапочках, Люба показывала рукой то в одну сторону, то в другую, что-то говорила и говорила, а сама нет-нет и да и заглядывала мне в глаза. А в моих глазах был, наверное, только страх. Не каждый день человек мог прикоснуться к тайне сильных мира сего. Одно дело, когда ему эту тайну диктовали с обещанием неразглашения, и другое дело – самовольное вторжение в нее. И зачем я сунулась в эту Зиньковку….
– Знаешь, я поеду в Клинцы. Хочу вечерним поездом вернуться в Москву.
– Да ты чего эта! Ты разве не погостишь еще? – вполне искренне огорчилась Люба, – ты и у нас с Васей не побывала. Да и на заимку он свозить хотел. Да и банька сегодня….
Люба продолжала щедро перечислять причины, по которым я должна была остаться «погостить» в этой затерянной в брянских лесах деревеньке, но я вдруг со страхом вспомнила, как еще вчера висела над ледяной полыньей, где могла окончиться моя жизнь и даже не начаться жизнь моих еще не рожденных детей. И вот этот испуг за их маленькие жизни заставил мое чувство самосохранения перечеркнуть все соблазны. Странно, я никогда еще не думала о своих будущих детях…. И еще странно, но в эти минуты мне казалось, что они смотрят на меня и даже руководят мною.
– Нет, уеду. У вас тут автобусы ходят?
– Да через час пойдет, прямо до вокзала. А если подождешь, то Вася отвезет, Василий Захарович, – почему-то добавила она.
– Нет уж, ждать не буду. А то еще отговаривать будут твои. А у меня работа.
– Так ты узнала что хотела-та?
– Нет, – с почти чистой совестью солгала я. Да ведь и правда, я узнала совсем не то, что хотела. Вернее, не о тех временах….
– Люба, а ты что-нибудь знаешь о послевоенном времени?
– А что тут знать? Когда была война, наши все работали на лесопилке, батя Васин на фронте был. А после войны на лесопилке работали немцы. Вот и вся разница.
– А страшно было, что вообще старики рассказывают?
– Страшно? – Люба задумалась, как будто вспоминая рассказы стариков, – да говорят, страшно было, когда тут особый отдел стоял. «СМЕРШ» назывался. Людей прям вот на этом взгорке расстреливали. У Василисы Андреевны даже фотография есть. Офицер из СМЕРШа подарил, на память, говорит. Гад, – почему-то закончила она.
– Да ну? Покажешь?
– Если успею, тебе ведь на автобус.
– Да успею я.
Мы ускорили шаги и через несколько минут уже обметали валенки на крыльце моих хозяев.
– Борщика-та похлебаешь? – на всякий случай спросила Люба.
– Нет, фотографию давай.
Люба ловко скинула валенки, заботливо ткнула их в углубление в широком боку теплой русской печи и в носках прошла по домотканым дорожкам к кровати хозяев. Там, неожиданно брякнувшись на колени и попыхтев над раскрытым фанерным чемоданом, она достала старый альбом, давным-давно видавший другую, богатую и, наверное, городскую жизнь. То, что альбом раньше принадлежал другой семье, я поняла сразу. Уж больно хороши были тисненая кожа и тяжелые серебряные застежки.
– Вот она, – Люба протягивала мне фотографию с пожелтевшими краями. На ней с близкого расстояния был снят мыс над рекой и молодая еще береза на нем. Та самая береза, которая сейчас разметала свои ветки на добрые двадцать метров.
Видимо, летний день клонился к закату, потому что над далеким сосновым бором угадывалось зарево. Но черно-белый снимок не позволял увидеть краски. Глаза мои скользили по откосу, по деревьям, как будто боясь посмотреть в лица людей, стоявших на коленях перед березой. Их было трое. Двое мужчин в стареньких телогрейках, и один – в форме немецкого солдата.
Сказать, что на меня нашел столбняк, было ничего не сказать. Я узнала одного из них. Хотя не знала никогда. Ведь меня в тот день, когда расстреляли этих троих, еще и на свете не было. Но я его узнала.
– Ну ладно, давай назад положим, а то свекруха рассердится, – Люба протянула руку к фотографии, а я попросила:
– Люба, согрей чайку на дорожку, а я пока еще на нее погляжу.
Люба радостно улыбнулась:
– Ну вот и хорошо, а то как же с пустым брюхом в дорогу, не по-людски это.
Господи, как стыдно использовать гостеприимство хозяев, чтобы стащить у них фотографию. Именно стащить. Я ведь не собиралась ее красть. Я ее отсканирую, а потом незаметненько верну. Ох, каких только оправданий человек себе не напридумывает, чтобы обелиться перед собственной совестью. И вряд ли меня еще пустят в дом, если обнаружат пропажу. Ах, Дунька-Дунька, что ты делаешь!
Я ловко спрятала фотографию под свитером, аккуратно застегнула застежки на альбоме и с шумом задвинула чемодан под необъятную хозяйскую кровать.
Наспех глотнув крепкий и уже ставший привычным приторно-сладкий чай, запихнув в себя вчерашний блин, я переобулась в свои сапоги, чего мне, кстати, не очень-то хотелось делать, и выскочила на крыльцо.
– Куда ты, оглашенная, на дорогу-то возьми.
Люба сунула мне в руки тугой пакет из совсем не деревенского хорошего пергамента и махнула рукой в сторону главной улицы.
– Махни рукой, он и притормозит.
Я еще не успела сообразить, кому махать рукой, как в конце улицы показался старый маленький автобус с бульдожьей мордой, я тотчас же отчаянно замахала рукой, и водитель послушно притормозил:
– Че размахалася, я ить не слепой. Уж и поисть не дадут, все ездють и ездють.
Я плюхнулась на ледяное дерматиновое сиденье и с облегчением вслушалась в водительское добродушное исть-поисть. Нет, мне явно понравилось здесь. И Зиньковка не такая уж Тмутаракань. Вон и автобусы ходят…. Однако чувство вины не оставляло меня до самой Москвы. Странно, мне бы обидеться…. Ведь это меня чуть не убили в заснеженной и затерянной в лесах деревеньке. Но ведь убить хотел кто-то один, а остальные…. И я вспомнила теплые и мягкие валеночки, тяжелую шаль, заботливо укрывшую мою московскую зимнюю, так сказать, одежку. И сон на мягкой, как бока доброй бабушки, постели. И наивную говорливую Любоньку, оставленную караулить мое любопытство, и так обманутую мною. Я пообещала себе вернуться в Зиньковку и все исправить. На этом моя совесть успокоилась и дала мне спать до самой Москвы.