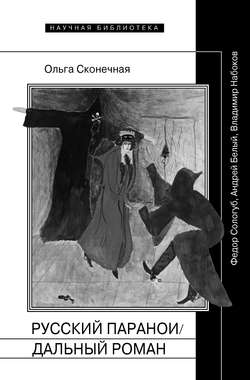Читать книгу Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков - Ольга Сконечная - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
Истоки
Часть 1
Философская азбука
Ницше
ОглавлениеНицше и русский символизм – сложнейшая, противоречивая и поистине бездонная тема. Я коснусь ее лишь в связи с ницшевским освещением, или ницшевскими прототипами тех фигур, у Сологуба и особенно Андрея Белого, которые относятся, как представляется, к поэтике параноидального романа.
Дробление и псевдоединство
У истоков бытия лежит противоречие – говорит Ницше в «Рождении трагедии», своей первой книге, еще признающей «вещь в себе» (первоединство) и мир кажимости, или посюсторонней множественности. Противоречие живет в самом сердце Первоединого, поэтому дробление как разрывание целого – это жест, воспроизводящий глубинную сущность мироздания. Поэтому Дионис, бог дробления, взрыва, нарушения границ, и дионисийский художник трагедии более всего соприкоснулись с последней тайной жизни, со страданием и радостью первосущего, вечно творящего и вечно разрушающего мир индивидуации. Последний, по Ницше, может быть оправдан в вечности только как эстетический феномен и, значит, – только благодаря дионисийскому художнику, магически вторящему этому созиданию-разрушению бытия. Дробление – это динамика, а дионисийское состояние раздробленности – это трагическое состояние собственной нарушенности, разорванности. Оно прямо противоположно успокоенности в границах индивида, в блаженном, не знающем тревог аполлоническом забвении.
Ранняя ницшевская космогония циклична: мироустроительная сила «подобна гераклитовскому ребенку, который, играя, расставляет шашки, насыпает кучки песку и снова рассыпает их»[91]. Однако она так же эсхатологична, ибо Ницше говорит о «конце индивидуации», о победе над ее чарами и пришествии третьего Диониса. Если повторяемость – это ритм игры, то необратимость как абсолютный конец, разрыв, исчезновение, приход нового – катастрофична.
Дионисийский герой катастрофичен. Он – «благая весть» о грядущем, подчеркивает Ницше, и о финале нынешнего. Для нас важно это переживание финальности в сочетании с особым знанием как ожиданием и «подозрением». Подозрение – это некое углубленное зрение, которому вот-вот откроется тайна и которое вместе с тем угадывает неподлинность наличного бытия, его скорую гибель. Подозрение – это нарушение автоматизма восприятия и попытка вырваться из защитных принципов индивидуации. Подозрение перетекает в переступание, или преступление, то есть нарушение границ и мер, и оказывается связано с ловлей и преследованием. Границы и меры буквально врезаются в тело Диониса, рвут на части. «Тот, кто своим знанием низвергает природу в бездну уничтожения, на себе испытывает это разложение природы»[92]. Трагический герой «путается в сетях индивидуальной воли», он преследуем пространством, настигаем временем, уловлен причинностью. Олимпийские боги, эти воплощенные principia individuationis, мстят ему, отнимая рассудок и жизнь.
Так происходит с преступным мудрецом Эдипом, который, женившись на матери, пытается повернуть колесо времени или причинности, так происходит и с Прометеем, посягнувшим на огражденную от человека собственность богов.
Раздробленность – это также тема бессознательного и безумного (что в контексте дионисийского мудреца и художника – одно и то же. Подо-зрительное, или про-зревающее, переходящее границы, магическое знание – это знание по ту сторону рассудка, по ту сторону «я». Так, гений «чудесным образом уподобляется жуткому образу сказки, умеющему оборачивать глаза и смотреть на самого себя; теперь он в одно и то же время – субъект и объект, в одно и то же время – поэт, актер и зритель»[93]. Вместе с тем, соединенный в акте творчества с Первосущим, он делается центром, «вокруг которого вращается мир», его «я» «не сходно с “я” бодрствующего эмпирически реального человека, а представляет собой единственное вообще, истинно сущее и вечное, покоящееся в основе вещей “я”, сквозь отображения которого взор лирического гения проникает в основу вещей»[94].
Выходу из себя, чрезмерности противостоит пребывание в рамках. Аполлон противостоит Дионису. Однако, по Ницше, оба принадлежат эстетической стихии и нуждаются друг в друге. Подлинным врагом трагического оказывается не Аполлон, но «теоретический человек» Сократ. Сократ, или разум, есть вырождение аполлонического, абсолютное застывание границ и мер в логике. Сократ – это гимн сознанию, невыносимый оптимизм науки, претендующей на постижение тайн мироздания. Именно Сократ начал «плести» эту рациональную «сеть», покоящуюся на «несокрушимой вере», «что мышление, руководимое законом причинности, может проникнуть в глубочайшие бездны бытия… не только познать бытие, но даже и исправить его»[95].
Здесь начинается важная для нас тема насильственной рационализации, рацио как ловушки, сети, которая силится захватить, рассчитать, привести к тождеству, упорядочить неисчислимую и ничему не равную стихию бытия[96].
Определяются два полюса (в дальнейшем две «силы»):
– дробление, или взрывание как динамическое, бессознательное, безумное, разрушительно-созидательное, преступно-чрезмерное, магическое (имеющее отношение к тайне бытия). Позже Ницше назовет это волей к власти;
– псевдоединство: нечто, порожденное мышлением, устойчивое, упорядоченное, равное самому себе и претендующее на первичность и истинность.
Ко второму полюсу отойдет весь вымороченный сознанием мир «ценностей»: мораль, категории разума, метафизика и христианство (этот «платонизм для народа»), наконец, религия нового времени – позитивизм, или «мифология» атома.
По Ницше, инстинкт жизни «примыслил» к ней то, чем она может быть измерена, оценена, обозначена, упорядочена. Забота о самосохранении потребовала от нас установить цены, меры, эталоны. Но это лишь «чистые понятия» нашего поверхностного сознания, спроецированные на небо и сгустившиеся в образе Всевышнего как Первотворца, или первосубъекта, причине причин, начале начал. Или, напротив, они спустились на землю и там разрослись фантасмагорией материальности, застыли пресловутой неделимостью вещества. «Это мы, только мы выдумали причины, последовательность, взаимную связь, относительность, принуждение, число, закон, свободу, основание, цель; и если мы примысливаем, примешиваем к вещам этот мир знаков, как нечто «само по себе», то мы поступаем снова так, как поступали всегда, именно мифологически»[97].
Субъект как предрассудок
Уже в первой книге дионисийское познание предстает как чистое действие: художник не создает отдельный от себя образ, но как бы переливается в него. Остается не субъект и объект, но акт творения, мысли. Впоследствии, когда уже выкинута «вещь в себе», вместе с Кантом и Шопенгауэром, единственно сущей остается у Ницше его «воля к власти», которая есть только движение или сила – сила господства и сила подчинения. Остается одна «достоверность», или «реальность» – реальность инстинктов и аффектов: благородных, здоровых, аристократических, и низких, болезненно-плебейских. Все остальное производно. Производны «я», субъект, душа, – отсюда Творец, Бог, наконец – суверенный свободный индивид. Производны – от слабости, мести, обиды на силу за то, что она сила. Ведь обижаться можно только на некую субъективную самотождественность, на сознающего, на волящего, а не на воление, не на действие, но на деятеля. Деятель виноват, деятель несет ответственность. «Требовать от силы, чтобы она не проявляла себя как сила, чтобы она не была желанием господства… жаждою врагов, сопротивлений и триумфов, – столь же бессмысленно, как требовать от слабости, чтобы она проявляла себя как сила. ‹…› Совершенно так же, как народ отделяет молнию от ее сверкания, и принимает последнее за акцию, за действие некоего субъекта, именуемого молнией, так же и народная мораль отделяет силу от проявлений силы, как если бы за сильным наличествовал некий индифферентный субстрат, который был бы волен проявлять либо не проявлять силу. Но такого субстрата нет; не существует никакого “бытия”, скрытого за поступком, действованием, становлением; “деятель” просто присочинен к действию – действие есть все»[98]. Психологический атавизм, или «моральный предрассудок», заставляет нас расчленять нерасчленимое: действие на субъекта как причину и действие как следствие. Подобное расчленение есть мифологизация, наивное одушевление. Все происходит из инстинкта и аффекта. Самосохранение и обида порождают Творца (causa sui), который ответствен за все, и его противоположность, Сатану, субъекта зла или вины. Порождает душу, с ее греховностью, мыслящего субъекта, носителя сознания. «По сути, народ удваивает действие, вынуждая молнию сверкать: это действие-действие, одно и то же свершение он полагает один раз как причину, и затем еще раз как ее действие. Естествоиспытатели поступают не лучше, когда они говорят: “сила двигает, сила причиняет”, и тому подобное, – вся наша наука, несмотря на ее расчетливость, ее свободу от аффекта, оказывается еще больше обольщенной языком, и не избавилась от подсунутых ей ублюдков, “субъектов” (таким ублюдком является, к примеру, атом, равным образом кантовская “вещь в себе”)[99]; что же удивительного в том, если вытесненные, скрыто тлеющие аффекты мести и ненависти используют для себя эту веру и не поддерживают в сущности ни одной веры с большим рвением, чем веру в то, что сильный волен быть слабым, а хищная птица – ягненком; ведь тем самым они занимают себе право вменять в вину хищной птице, что она – хищная птица…»[100]
Поиск причины как болезнь
К. Ясперс разоблачал вторичность фрейдовских открытий по отношению к гениальной интуиции Ницше. Тот, в самом деле, прежде Фрейда писал о «вытесненных» и «тлеющих» аффектах[101], которые «пользуются верой» в потустороннее. Иными словами, предугадал психологический механизм проекции вместе с его культурно-историческими последствиями – мифологией, метафизикой, религией[102]. Подобно Ницше (но здесь только до некоторой степени), Фрейд связал «смутное познание» параноиков с научным детерминизмом. Разумеется, Ницше как идеолог иррационального был куда радикальнее! У него само примысливание субъекта как причины восходит к параноидальному инстинкту поиска вины (Ницше, впрочем, еще не пользуется этим клиническим термином, выражаясь языком характерологии: зависть, месть, злопамятство, ненависть). А последний вытекает из «морального предрассудка» противоположностей. Кто сказал, что вообще есть противоположные понятия, скажем добро и зло? Есть только сила и слабость, здоровье и болезнь. Сила действенна, а слабость – рефлексивна и, значит, вторична, реактивна[103], рассудочна, злопамятна. На стороне силы, таким образом, бессубъектность как безответственность и – «невинность». Но что оказывается на стороне слабости? Можно ли сказать, по Ницше, что и она не виновата, но лишь равна своей неудачной природе? Не виновата (ибо вина – это предрассудок), но достойна осуждения, даже – проклятия.
Здесь слышна противоречивость[104], которую мы хотели бы подчеркнуть.
Вспомним, что Ницше, безусловно, был создателем оригинальной поэтики болезни. Кровообращение, обмен веществ, пищеварение становятся фигурами его стиля. Он – первый диагност человечества, симптомолог[105] его заболеваний. Физиологические ритмы вторгаются в высшие сферы и определяют дух нации, ее характер, сплетаются с ее философией и историей. По его собственному признанию, он «обонял» потроха всякой души. Здесь, в физиологии, намечается у Ницше та удивительная инстанция, которую можно назвать бессубъектной активностью[106], безличной вредоносностью и порчей. Слабое само по себе заражает, инфицирует, портит кровь (и, значит, расу). Так, злопамятство еврейских жрецов отравило здоровую кровь народов-воинов монотеизмом. Немецкая мысль, подпавшая христианскому нигилизму, страдает от дурного пищеварения. Разложение, упадок движимы дурным ростом клеток. Они распространяются раковой опухолью. «Отравление», «опухоль», «дурная кровь», «анестезия» – слова из ницшевской поэзии болезни, которые всплывают в параноидальном дискурсе Серебряного века, в особенности у А. Белого. У Ницше – это сам порочный процесс, который имеет носителей – или переносчиков – иудеев, христиан, современных немцев, но как бы не восходит к индивидам, неопознаваем в лицах, за исключением разве что легендарного нигилиста Сократа или «паука рацио» Канта. («Я никогда не нападаю на личности»[107].)
Отметим еще один момент. Единственной ницшевской ценностью остается власть: как известно, жизнь – это воля к власти в ее здоровой силе господства и агрессии и в больной силе подчинения и мести. Но как помыслить невольную волю? Неумышленную власть? Ницше, как и все, уступает предрассудку сознания, и рождается неприемлемая для него causa prima. Слабость как безликая воля на мгновение уплотняется в злокачественную фигуру причинности, заговор. И также в таинственных, «клинических» «они» и «они» под масками. «Здесь кишат черви переживших себя мстительных чувств; здесь воздух провонял скрытностями и постыдностями, здесь непрерывно плетется сеть злокачественнейшего заговора – заговора страждущих против удачливых и торжествующих. ‹…› Они бродят среди нас как воплощенные упреки, как предостережения нам – словно бы здоровье, удачливость, сила, гордость, чувство власти были сами по себе уже порочными вещами, за которые однажды пришлось бы расплачиваться. ‹…› Среди них не наберешься переодетых под судей злопамятцев. ‹…› Воля больных изображать под какой угодно формой превосходство их инстинкт окольных путей, ведущих к… тирании над здоровыми, – где только не встретишь ее, эту волю к власти, характерную как раз для наиболее слабых!»[108]
Точно из самого стиля вырастают эти агенты ресентимента, архаичного рацио: «Заговор», «они», «они под маской», «они за кулисами».
Впрочем, Ницше объяснил и это, уличив в рассаднике заблуждений сам язык и увидев в философии субъекта великую наивность или косность грамматики, которая не довольствуется предикатом и устами Декарта подтаскивает к «мыслю» пресловутое «я» и даже объявляет «я» условием и гарантом мысли. «Разве философ не смеет стать выше веры в незыблемость грамматики?»[109] Ведь «…мысль приходит, когда она “хочет”, а не когда я “хочу”…»[110]. Так возникает еще одна невинно злокозненная инстанция – язык, грамматический строй, питающий «тиранический инстинкт» сотворения мира, causa prima. Эта лингвистическая инстанция пронизывает и мир Ницше, предваряя параноидальную поэтику его последователей[111].
Безумие и вечное возвращение
Символисты бесконечно говорили о том, что тема безумия в ее вариациях восходит к Ницше, гениальная странность которого сменилась роковым «тихим часом» (Андрей Белый). Ницше, подобно его канатоходцу из «Как говорил Заратустра», олицетворял опасную высоту духа и гибельность падений.
Философ декларировал безумие как дар, коим непременно должен обладать истинный последователь Диониса, философ или поэт – взрыватель ценностей. «…Почти всюду дорогу новым мыслям прокладывает безумие, и именно оно разрывает заколдованный круг почитаемого обычая и суеверия. Понятно ли вам, почему именно безумие?»[112]
С безумием, как у самого Ницше, так и у первых его интерпретаторов, связана самая таинственная и противоречивая мысль – мысль о вечном возвращении[113]. Весть о нем, по его признанию, – величайшее потрясение, озарение и испытание. Двойственность возвращения – в том, что повторится «наслаждение» и «боль», «самое большое» и «самое малое». Двойственно и то, как воспримет человек эту весть: «Она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в порошок; вопрос, сопровождающий все и вся: “Хочешь ли ты этого еще раз, и еще бесчисленное количество раз?” – величайшей тяжестью лег бы на твои поступки!»[114]
От того, преобразится, то есть преодолеет самое себя, или, напротив, будет раздавлен испытуемый, зависит тип безумия, ибо оно может быть и «великим здоровьем», и «великой болезнью».
Как кажется, ужас повторения, его отчаяние и болезнь заключены в переживании вечного следования настоящего из прошлого, вечной ответственности и вины за прошлое, вины, которую настоящее хочет избыть. Но прошлое неотменяемо, неискупаемо и вновь, с роковой неизбежностью, ждет тебя впереди. В этом случае виноватое, сожалеющее о содеянном, мстящее себе «я» умаляется, стирается, нивелируется в бесконечных двойниках нечистой совести.
«Ах, недвижим камень “было”: вечными должны быть также все наказания. Так проповедовало безумие.
Никакое деяние не может быть уничтожено: как могло бы оно быть несделанным через наказание! В том именно вечное в наказании “существованием”, что существование вечно должно быть опять деянием и виной!»[115]
Но если принять каждое событие своей жизни как поволенное и единственно возможное – безответственное и невинное, высеченное на скрижалях вечности, принять – навсегда, тогда, превозмогая слишком человеческий тлен каузальности, скидывая бремя «было», испытуемый сам делается Роком, коим переживал себя Ницше. Он готов к узнаванию себя в грядущих «я», готов к возврату как к вечному самопреодолению[116]. «Всякое “было” есть обломок, загадка, ужасная случайность, пока созидающая воля не добавит: “но так хотела я!”»[117].
Недосказанность темы, ее неустойчивость, сокрытость в метафоре повлекли за собой то, что последующие трактовки «возвращения» зажили самостоятельной жизнью. Высветленным, мистически переиначенным в духе времени оказалось оно у Л. Шестова. Вечное возвращение, говорит Шестов, явилось Ницше как ответ богов на молитву о безумии: «Докажите мне, что я ваш, – одно безумие может мне доказать это». «Странно, – замечает Шестов, – несмотря на то, что Нитше видит в идее о вечном возвращении начало и источник своего нового мировоззрения, он нигде подробно и ясно не развивает ее. ‹…› Так что невольно приходит в голову подозрение, что “вечное возвращение” в конце концов было только неполным и недостаточным выражением испытанного Нитше внезапного душевного подъема. Это становится тем более вероятным, что самая идея – стара и не принадлежит Нитше. ‹…› Очевидно, что для него она имела другое значение, чем для древних. ‹…› И точно, какой смысл могло дать его жизни обещание вечного возвращения? Что мог он почерпнуть в убеждении, что его жизнь, такая, какой она была, со всеми ее ужасами, уже несчетное количество раз повторялась и затем столь же несчетное количество раз имеет вновь повториться без малейших изменений? ‹…› в “вечном возвращении” существенно не определяемое слово, а определяющее, т. е. не возвращение, а вечность»[118]. Вот, по Шестову, та тайна, которую шепнул Заратустра на ухо жизни: страдание смертного существования должно уступить место непреходящей радости. Но это знание иррационально, и потому оно выражено не до конца, но в «символе и намеке». Оно противостоит дневной философии Канта и Милля с их каузальностью. В демонстративной бессмысленности земного повторения – ницшевский протест против философии разума.
Иной была трактовка духовного наставника Андрея Белого Р. Штейнера. Как замечает К. Свасьян, Штейнер подчеркивал «не мистический», а естественно-научный генезис этой идеи[119]. По Штейнеру, Ницше «утратил миф духа в грезе о природе, в которой он пребывал. ‹…› Испытать эту жизнь еще бесчисленное количество раз – вот, что стояло перед его душой, заслоняя перспективу освобождающих опытов, которая должна постигать подобную трагику в дальнейшем развитии неубывающей жизни»[120].
Мне еще предстоит говорить о ницшевском вечном возвращении в связи с параноидальной поэтикой Андрея Белого. Отмечу здесь лишь близость именно этой штейнеровской трактовки к его идее возвращения как «детерминистского парадокса», ада посюсторонней вечности без посулов инобытия, которые Белый рассматривал как провал мистического испытания. Темный лик возвращения становится той моделью порочного круга, которую Белый бесконечно подставлял в любимый им мотив самопреследования. Через Ницше он вплотную соприкоснется и с фрейдовской проекцией: в «К генеалогии морали» Ницше говорит о вытесненных «во внутрь» инстинктах, настигающих человека подобно врагам: «…инстинкты… обернулись вспять, против самого человека. Вражда, жестокость, радость преследования… все это повернутое на обладателя самих инстинктов. ‹…› Человек, который за отсутствием внешних врагов… преследовал самого себя»[121].
Агония настоящего как преддверие конца. «Я» как рок
Мотив конца света, характерный для паранойяльного бреда и наводняющий символистское искусство, предваряется в ницшевском творчестве следующей важной нотой. Ницше, проповедующий Сверхчеловека, говорит об агонии, или гипертрофии настоящего, как симптоме последних времен. Все наличествующее обнаруживает свою болезненность, нестойкость, взрывоопасность. Логика, дошедшая до собственных границ, в беспомощности «кусает себя за хвост». Человек, исчисляемый атомом, здравым смыслом, ветхим Богом, демонстрирует свою мелкость вплоть до исчезновения. Все вот-вот готово распасться.
Будучи «сейсмографом» грядущих потрясений и одновременно средоточием взрывной силы («я не человек, я – динамит»), уничтожая бремя человеческой истории, отвергая бремя «было», Ницше переживает собственную единственность и неотвратимость как силу рока.
* * *
Итак, многие идеи, мотивы, образы Ницше предваряют параноидальную поэтику символистов, задают траекторию преследования. В его теме дионисийского художника берет начало самовыслеживающая, или подстерегающая, улавливающая себя в герое, позиция автора. Его критика рациональности, куда более радикальная, нежели у Шопенгауэра, демонстрирующая мнимость категорий познания, насильственно и поверхностно связывающего бытие, начиненное импульсами, инстинктами, аффектами, определит тему дефектного мышления, настигаемого бессознательным хаосом у Белого. Его разоблачение классического субъекта и подстановка на его место безличных действователей (агентов языка, болезни, слабости, вины и т. д.) также найдет отражение в поэтике Белого, его неопределенных, безличных фигурах врага. Вечное возвращение претворится в «круговое движение» непройденного испытания, в котором герой будет одержим и подстерегаем двойниками своего прошлого (детского, исторического, мифологического). Наконец, эсхатология Ницше, его картина агонии мира и оформляющих его разумных тождеств предстанет в символистских переживаниях преддверия конца истории.
91
Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Наука, 1990. Т. 1. С. 155.
92
Там же. С. 90.
93
Там же. С. 75–76.
94
Там же. С. 74.
95
Там же. С. 114.
96
О противостоянии Ницше рациональным «тождествам», «категориям мышления», метафизике и т. д.: Делез Ж. Ницше и философия. М.: Ад Маргинем, 2003. С. 95–98.
97
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 257.
98
Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 431.
99
Отметим, что Ф. Г. Юнгер интерпретирует критику рациональности Ницше таким образом, что под нее подпадает и антирационализм Белого, в том числе в его антропософской ипостаси и выпадах против недооценки воображения Кантом: «Рассудок постигается здесь как окостеневшая способность воображения. Эта способность воображения здесь оказывается как бы текучей. Мир способности воображения, которая уже не изолирована и не разделена рассудком» (Юнгер Ф. Г. Ницше. М.: Практика, 2001. С. 128).
100
Ницше Ф. К генеалогии морали. С. 431.
101
Ср. о психологизме Ницше как самой слабой стороне его гения: Юнгер Ф. Г. Указ. соч. С. 115 и др.
102
См. об этом: Элленбергер Г. Ф. Открытие бессознательного. С. 329–335.
103
См. деление ницшевских «сил» на «активные» и «реактивные» у Делеза: Делез Ж. Ницше и философия. С. 102–161; Он же. Ницше. СПб.: Machina, 2010. С. 31–52.
104
Ср. о противоречивости отрицания Ницше рационального у Е. Н. Трубецкого: «Всякое логическое отрицание есть активное проявление нашего разума и постольку – самоутверждение разума. Когда предметом нашего отрицания становится самый наш разум, самая наша логика, т. е. то самое, что отрицает, мы впадаем в явное противоречие. Наше сомнение в мысли изобличается самым движением нашей мысли, которая сомневается» (Трубецкой Е. Н. Философия Ницше. Критический очерк // Ницше: Pro et Contra. CПб., 2001. С. 726). Ср. также трактовку Ницше в пределах рационализма у Автономовой: «Поначалу, когда иррационализм только начал складываться в нечто философски самостоятельное, отличное от религиозного мистицизма… он строился преимущественно на материале тех же самых понятий, которые использовались господствующими рационалистическими системами» (Автономова Н. Рассудок. Разум. Рациональность. С. 144–145).
105
Ср. о Ницше, который «прочертил болезненные линии европейского мышления, сделав их симптомами своего безумия»: Аронсон О. Игра случайных сил // Делез Ж. Ницше и философия. М.: Ад Маргинем, 2003. С. 12.
106
Ср. у В. Подороги о Ницше: «Как же мыслить тело? Мыслить тело можно, только преодолевая классические оппозиции “субъект – объект”, “дискретное – непрерывное”, “микрокосм – макрокосм”, т. е. экспериментируя с такими аналогиями, образами, метафорами, которые не только разрушают эти оппозиции, но и формируют представление о телесной активности как о непрерывном потоке психосоматических событий, ни одно из которых не может быть «фиксировано» в рефлексивной процедуре декартовского типа» (На высоте Энгандина. Фридрих Ницше // Подорога В. Выражение и смысл. М.: Ad Мarginem, 1995. С. 174).
107
Ницше Ф. Ecce Homo // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 705.
108
Ницше Ф. К генеалогии морали С. 493–494.
109
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. С. 269.
110
Там же. С. 353.
111
См. о злокозненности языка у А. Белого в разделе, посвященном «Запискам чудака».
112
Ницше Ф. Утренняя заря. Мысли о моральных предрассудках. М.: Академический проект, 2008. С. 43.
113
См. об этом: Рачинский Г. Предисловие к первому русскому изданию // Ницше Ф. Воля к власти. М.: Эксмо; Харьков: Фолио, 2003. С. 377.
114
Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 660.
115
Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. С. 102.
116
Ср. о связи вечного возвращения и безумия с самоопреодолением у Подороги: «Путешествие Ницше развертывается как непрерывное отрицание близости внутреннего и утверждение близости Внешнего. Для овладения истинной свободой движения нужно неустанно преодолевать внутреннее, магию ближайшего… Отрицая близость самого близкого, Ницше полагает, что впервые завоевывает время, ибо ни одно из мгновений, этих бесчисленных “здесь” и “сейчас”, более не принадлежит линейному ходу времени и не может ускользать в ничто прошедшего, а имеет свое законное место в динамике сил вечного становления» (Подорога В. Выражение и смысл. C. 149).
117
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 102.
118
Шестов Л. Достоевский и Ницше. Философия трагедии. М., 2001. С. 285–286, 287.
119
Свасьян К. Примечания // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 813.
120
Steiner R. Mein Lebensgang. Stuttgart, 1975. S. 178–186. Цит. по: Свасьян К. Указ. соч. С. 813–814.
121
Ницше Ф. К генеалогии морали. С. 461.