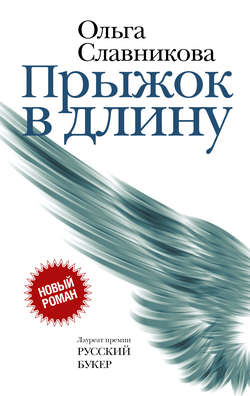Читать книгу Прыжок в длину - Ольга Славникова - Страница 4
iii
ОглавлениеИмея опыт и дарование в бизнесе, мать прекрасно понимала: половина успеха – нанять правильных людей. Три-четыре раза в месяц Ведерникова навещала ее прислуга: интеллигентная, с лицом как прелая роза Екатерина Петровна, наводившая в квартире такую стерильность, что после нее хотелось ничего не трогать руками. А потом в жизни Ведерникова появилась Лида – домработница, нянька, медсестра и до странности хороший человек.
Мать прислала ее, когда собралась на отдых во Флориду – известила о своем отъезде и о найме Лиды кратким звонком, причем фоном для ее деловитого голоса служил протяжный небесный гул и приторное эхо аэропортовских объявлений. «А как ее по отчеству?» – выкрикнул в эту какофонию растерянный Ведерников, как раз пытавшийся устранить последствия крушения подноса с завтраком. «Не надо отчества, она молодая женщина, увидишь», – ответила мать с каким-то двусмысленным смешком и отключилась. Тут же, словно дождавшись очереди, раздался другой звонок, и задыхающийся, спадающий в шепот говорок попросил разрешения прийти.
Ведерников не смог бы определить возраст Лиды, если бы она при первой встрече, сильно стесняясь, не предъявила ему паспорт. По паспорту ей недавно сравнялось двадцать четыре, но она была по своей природе сорокалетняя женщина, крупная, костистая, с тяжелой нижней челюстью, безо всякой пощады придававшей ее большому лицу сходство с лошадиным седлом. У Лиды были густые и длинные, но совсем тонкие волосы цвета старого дерева и паутин, и когда она забирала их наверх для домашней работы, из блеклой волны, спадавшей по плотной спине, получался нитяной кукишок. Она убиралась почти бесшумно, даже свирепый пылесос, имевший обыкновение выть, колотиться хоботом в углах и со скорым стрекотом засасывать через трубу всякие нужные мелочи, стал у Лиды дрессированный и смирный, только урчал, как кот, выглаживая ковер. После Лидиной уборки квартира становилась как-то больше, просторней, из нее словно исчезали гнетущие обломки прежней жизни, и можно было начинать жизнь новую, в новом, освеженном воздухе, с ясными окнами и сияющей сантехникой, приобретавшей сходство с футлярами для каких-то чудесных музыкальных инструментов. А тем временем на кухне отдыхали под чистыми полотенцами сочные, в золотой шелухе слоеные пироги, теплела и нежилась сметана в тарелке густого борща, а в духовке шкворчала и пухла целая мясная бомба – индейка с яблоками.
Ведерников поначалу опасался, что станет тяготиться Лидиным присутствием. Но Лида была легкий человек, во время работы глубоко думала о чем-то своем и не касалась ни мыслью, ни чувством уткнувшегося в компьютер калеки. Однако были у Лиды и такие обязанности, при выполнении которых не получалось избегать тесного общения. Она действительно была медсестра и дважды в день делала Ведерникову, с легким шлепком по ягодице, внутримышечный укол, который ощущался почти безболезненно, как холодный удар рыхлого снежка. И, что еще важней, она помогала калеке ухаживать за культями. Обыкновенно культи были спрятаны под одеялом, под пледом; оголенные, они становились страшны, будто реквизит ночного кошмара. Ведерников сам едва выдерживал зрелище обтянутых глянцевой кожей костей, что выпирали из усыхающей плоти, будто новорожденные слепые чудовища из дряблых коконов. А Лида с профессиональным бесстрашием обмывала культи радужной мыльной водицей, осторожно обсушивала полотенцем, а потом принималась за ежевечерний массаж, выходивший у нее глубоким, приятным и немного щекотным. Трудно было разгонять кровь по разорванным кругам, по руинам мускулатуры, и на белом, как большое яйцо, Лидином лбу проступал горячий бисер, а ее солено-сладкий женский запах, с примесью какой-то химии или аптеки, становился сильней.
Эти последние процедуры имели для Ведерникова крайне смутительные последствия. Он не мог скрыть своих естественных реакций – проще говоря, бугра в трусах. Он замечал, что Лида, быстро перемигивая, косится на заостренный холм, и щеки ее наливаются краской, будто рафинад, опущенный в сироп. А Ведерников, в свою очередь, старался не смотреть на ее тяжелую грудь, приходившую в круговое движение вместе с руками, на глубокую ложбину в вырезе рабочей футболки, где плоть плескалась, будто молоко. В уме у Ведерникова время от времени возникал постыдный вопрос: не платит ли мать этой своей покладистой сотруднице еще и за особого рода обслуживание, за удовлетворение тех потребностей калеки, которыми не станут заниматься обычные девчонки, его ровесницы? Для матери, с ее ледяным прагматизмом и простотой в связях, это был бы логичный бизнес-план.
* * *
У Лиды между тем имелся, как она его называла, друг. Звали его Аслан, был он выходец с Кавказа – из тех бедных кавказских парней, что приезжают в Москву работать в бизнесе у состоятельных родственников и временно берут себе больших и теплых русских женщин, не понимая ни одиночества их, ни бедного сердца, ни наивной мечты о любви. Сам Аслан был примерно полтора метра ростом, его рыжеватая борода начиналась от самых сощуренных глаз, но густела только на челюсти, образуя под нею темную ржавчину. Из-за шелковистой мохнатости щек, из-за большого бесформенного носа и детской челки до бровей лицо это создавало впечатление мягкости, даже некоторой расплывчатости характера. И Аслан действительно был безволен, неукоснительно слушался своих старших и следовал правилам, раз навсегда для него установленным. Потому Лида часто приходила на работу в замазанных, серых под пудрой синяках. Часто, если Лиде приходилось задержаться по хозяйству, Аслан заезжал за ней на старых, некогда белых «жигулях», относившихся к тому же типу полуживого советского транспорта, что и дяди-Санин мятый «москвич». Аслан парковался у самого подъезда и, не обращая никакого внимания на сигналящие местные машины, которым он перекрывал возможности маневра, покуривал, опершись о капот, скрестив толстенькие ноги в маленьких лаковых ботинках, похожих сверху на что-то маникюрное. Он никогда не помогал усталой Лиде, забиравшей после работы мусор, дотащить до баков неудобный, каплющий мешок. Зато, когда мать разрешила домработнице забрать старую плазму (новая, размером в полстены, уже была подключена и показывала гремящий боевик), Аслан поднялся в квартиру сам, все аккуратно запаковал, смотал провода, церемонно пожелал Ведерникову долголетия, немножко скосив малоподвижные глаза на то, что осталось от ног.
Однако, несмотря на принадлежность Лиды этому правильному Аслану, случилось то, что случилось. Однажды, в особенно печальный вечер, когда постель, где делался вечерний массаж, была ухабиста и разбита, будто проселочная дорога, Ведерников приобнял Лиду, чтобы она посадила его повыше в подушки. Вдруг он почувствовал, что Лида поддается, следует его руке, как вот бывает, когда ведешь в танце. Первый лихорадочный поцелуй пришелся в ухо, душное и горькое, царапнувшее губы рыболовным крючком сережки. Кровать накренилась, как лодка, принимая благую тяжесть женского тела. Дальше Ведерников плохо помнил. Лида что-то шептала, уговаривала не торопиться, а он захлебывался ее парной белизной, словно плыл по молочной реке, и был сперва растерян, жаден, жалок, но в какой-то момент вдруг сделался автономен и неуязвим, точно, как тогда, когда брал по асфальтовой дорожке роковой чемпионский разбег.
Так у них и повелось по вечерам. Начало было всегда как приглашение на танец: мужская строгая ладонь на сведенных женских лопатках, взгляд в глаза. Потом зардевшаяся Лида стягивала через голову рабочую футболку, и лицо ее, пройдя через тесноты жалкой ткани, делалось незнакомым, ярким, тонкие волосы налипали на его сияющую влагу, пушились и вились в любовном жару. Лида была тяжела, каждое бедро – как большая античная амфора, груди в синих жилках, под ними – два розовых оттиска от грубых скоб бюстгальтера. Но Ведерников не ощущал неудобства от разницы в весе, как и от отсутствия ног: он и Лида были в любви будто два пловца, одинаково державшие головы над уровнем вод, и Лида опекала его, помогала ему оставаться вровень с нею, добираться, лишь немного барахтаясь, до финала, до твердого берега, на котором Ведерников отдыхал, будто мокрый, обсыхающий тюлень. Лида хлопотала над ним, но вдруг, сморенная, опускала растрепанную голову на неудобный угол тугой подушки – «на одну половинку минуточки!» – и начинала что-нибудь тихо говорить, глядя, точно в небо, в радужный от люстры потолок. Рассказывала про своих родителей, что спивались, в любви и согласии, в лесопромышленном северном поселке, где трава всегда колючая от опилок и горы щепы даже летом переложены в глубине черным пористым льдом. Рассказывала про старшую сестру, которой врачи назначили смерть от рака в несколько недель, а сестра все живет, уже четыре года носит в себе метастазы, как вот Чужого в фильме, повязывает лысую голову красным платком и до сих пор работает на почте. Грудной женский голос баюкал Ведерникова, держал его в полудреме, на весу, и получалось так, что Лида утешала калеку другими людьми: мол, со всеми все бывает, и все до самой смерти как-то живут.
Половинка минуточки превращалась в блаженную бездну неисчисляемого времени, все часы в доме стучали и тикали вразнобой, постель полнилась тем роскошным животным теплом, которое вырабатывают только два тела, никогда одно, сколько ни сжимайся под одеялом, сколько ни дрожи, как работающий вхолостую чахлый мотор. Так продолжалось, пока снизу, из глубины двора, не доносился могучий, почти фабричный гудок «жигулей» и уменьшенный расстоянием гортанный мат. Это Аслан, приехавший за Лидой и оскорбленный ожиданием, сигналил о своих правах и метался внизу, жестикулируя на пафосный кавказский манер, разыгрывая воздетыми руками трагический спектакль.
* * *
На самом деле присутствие Аслана было для Ведерникова спасительно. Он не мог себе представить, что бы он стал делать с Лидой, будь она одна и свободна. Первая женщина в его разрушенной жизни, совсем не такая, какую он воображал, – вернее, не из тех длинноногих, одетых в обтяжку девчонок, что вместе составляли довольно однообразный, но обязательный для полноценного мужчины люксовый ассортимент.
Соседская Лариска, о которой Ведерников на время забыл, вдруг замелькала опять – и опять в красном: скульптурный рельеф белья под тонкой трикотажной тканью, не в тон намазанный рот, цыганский, пестрыми побрякушками увешанный браслет. Обыкновенно она на своем шестом этаже втискивалась в лифт, целиком занятый Ведерниковым, его широкой коляской, Лидой, прижатой к стене. Никогда Лариска не оставалась ждать, всегда со свойским смешком пролезала, поправляя бретельки, балансируя на высоченных, подпиравших ее, как жерди, каблуках – и однажды все-таки не устояла, плюхнулась всей своей надушенной тяжестью Ведерникову на культи. Ведерников, едва не задохнувшийся в приторном дыму отбеленных кудрей, успел увидеть в холодном лифтовом зеркале Ларискино лицо: оно было искажено отвращением и паникой, точно Лариска угодила с размаху в яму со скорпионами. Тут оказалось, что Ведерников все время надеялся – не то чтобы на самом деле, а будто существовала параллельная реальность, где Ведерников остался цел и они с Лариской, взятой просто как пример люксовой девчонки, гуляли в обнимку по раскаленно-белому тропическому пляжу, а ночью занимались любовью под пушечный гром прибоя и сладкое нытье какого-то оркестра. Теперь параллельная реальность исчезла, море утекло в голливудский фильм, откуда и было взято. Осталась только Лида, устроенная внутри точно так же, как все, в том числе люксовые, женщины.
Вопрос, платят ли ей дополнительно, был постыден и подловат. Несколько раз Ведерников порывался спросить, но его останавливала простодушная Лидина улыбка, в которой она открывала неровные зубы, подлеченные железом. Тогда Ведерников решил, что правильно будет платить самому. В один из приездов матери – загорелой, неоново-светлоглазой, с голыми руками грубой коричневой замши, уже усталой после очередного морского круиза – он пробубнил, что хочет иметь побольше карманных денег. Мать хмыкнула, дернула плечом – но, казалось, была скорей довольна таким проявлением жизни, хоть каких-то потребностей на фоне злостной апатии. С тех пор Ведерников каждый месяц стал получать от нее, плюс к деньгам на хозяйство, тысячу евро в белом плотном конверте с коронованным логотипом ее амбициозной фирмы.
Поначалу он собирался передавать конверты Лиде сразу, по мере их поступления – но все как-то не умел выбрать момента, все мешал то воющий пылесос, то трубящий под окнами Аслан. Белые конверты, эти аппетитные пироги с деньгами, стали скапливаться у Ведерникова в комоде. Не то чтобы он их жалел, деньги были ему, по сути, ни к чему. Но по мере их собирания росла их сила, тот иррациональный магнетизм, которому подвластно любое человеческое существо. Ведерников денег не пересчитывал – но именно эта неопределенность массы, подобная неопределенности небесного тела в густых атмосферных слоях, делала сумму загадочно значительной – и загадка, безусловно, относилась к будущему. Такие деньги уже не получалось тратить помаленьку, притяжение целого не отпускало ни одной частицы, но стремилось втянуть все больше. У Ведерникова крепло ощущение, что значительность денег формирует где-то впереди такое же значительное событие, для которого они, все целиком, и предназначены. У него еще мелькала мысль о Лиде – глядя на ее почерневшие перстеньки, на нитку дешевого облупленного жемчуга, он воображал, как однажды преподнесет ей на Восьмое марта великолепное огнистое ожерелье в бархатной коробке. На деле он дарил букетик мелких, как земляника, по интернету заказанных роз, к которым мать, по настроению, прибавляла то платочек, то флакончик. Типичный подарок прислуге: дорогие, Лиде не по карману, барские мелочи, никак не меняющие жизнь.
* * *
Примерно в это время у Ведерникова сложились те отношения с Женечкой Караваевым, которые впоследствии превратились в его частный, не до конца исследованный ад. Первые года четыре после катастрофы мамаша Караваева регулярно вламывалась к нему в квартиру с вареной курицей в кастрюле и со спасенным ангелком, приносившим для предъявления расхристанный, весь в красных, неумело подчищенных преподавательских записях, словно расчесанный до крови школьный дневник. Четыре года – это было много, другой на месте мамаши Караваевой давно бы плюнул да занялся своими делами. Но глыбистая Наталья Федоровна оказалась удивительно упорна в преследовании того, что считала своим по праву: ее должны были простить, как положено, тем более что она заслуженный человек и ветеран труда.
Это тяжкое упорство было, похоже, частью ее довольно необычного умения оставаться в статике: на протяжении лет один и тот же набор коротких, мясного цвета морщин, одна и та же кривая посадка мутных очков, одна и та же прическа на восемнадцать кудрей, так что казалось, будто за все время с ее головы и правда не упал ни один волосок. Наталья Федоровна была как недвижный валун в потоке времени, которое сносило всех, не обладавших такой, как у нее, густотой воли, плотностью всего существа. Между прочим, и у мальчишки уже тогда стало проявляться свойство, которое после Ведерников определил как необычайно высокий удельный вес. Он, например, почти не мог прыгать: если надо было, скажем, перескочить небольшую лужу, он долго примеривался тем и этим боком, чтобы затем с резким толчком воткнуться в самую грязь. Из-за своей аномальной плотности Женечка и рос как-то неправильно, неровно, по частям: то вылезут на тонких руках почти мужские, голые кулаки, то обозначатся, распирая школьные форменные брючки, мускулистые ягодицы. Ноги у него росли труднее всего остального и были оттого непропорционально короткие, с кривыми коленными узлами и большими ступнями, в которых угадывалось что-то землеройное: в десять лет сороковой размер.
Довольно долго Ведерников полагал, что мечтает избавиться от мамаши Караваевой и от ее докучливого чада. Так было, пока поток времени и перемен все-таки не одолел Наталью Федоровну. В один тяжелый, душный августовский день, когда набрякшая туча, погромыхивая и посвечивая, налезала вдали на ярко-оранжевый шпиль, добрая женщина у себя на кухне, закатывая банки, нагнулась за упавшим, странно блеснувшим ножом и вдруг ощутила в голове красный удар. Это красное, горячее, вместе с болботанием банок, грузно танцевавших в тазу с кипящей, мутной от их этикеток водой, да кишечное урчание грозы Наталья Федоровна ощущала много дней, пока лежала на железной больничной койке с перекошенным лицом и восемнадцатью кудрями, сбитыми в колтун.
Постепенно к ней вернулась способность кое-как шевелиться, кое-как таскать свое опухшее тело на широко расставленных ногах, из которых левая, ставшая легче и увертливее правой, могла внезапно подогнуться. Теперь мамаша Караваева часами сидела перед подъездом, в жестяном холодном блеске облетающей листвы, закутанная в буро-зеленый клетчатый платок. Левый глаз ее был наполовину прикрыт мертвым пупырчатым веком, похожим на шкурку лягушки, левый угол рта свисал в рыхлые подбородки. Внешне безучастная, она сердилась больше, чем всегда, и не только на людей, но на весь окружающий мир – прежде бывший абстрактным и потому незамечаемым, а теперь вдруг ставший слишком реальным, слишком скорым и шумным. Мир кипел, как борщ. Мир изменил основные цвета: теперь во все примешивался красный. Сверкающий листопад отливал розовым маникюрным лаком, чугунные шары на воротах из двора напоминали свеклы, буквы в газете и на вывеске были будто капилляры, наполнены кровью, – а ночью мамаша Караваева иногда просыпалась в тихой красно-черной комнате, в какой печатают фотографии. Так и не прощенная, не способная больше ходить и добиваться, она переполнялась гневом, которому не было выхода. Когда жгучий красный «мерседес» непокладистой соседки парковался, в сиянии и шелесте, среди неказистых дворовых авто, Наталье Федоровне казалось, будто этот адский цвет, смесь реальности и ее больного кровотока, рычит и вибрирует, и вот-вот вызовет в ее бедной больной голове новый удар.
Ненадолго из-за ее спины показался, до того совершенно незаметный, папаша Караваев. Этот небольшой округлый мужичок напоминал пожилого купидона: припухшие синие глазки, легкие завитки вокруг лакированной лысинки, яркий румянец на щечках, состоявший, если приглядеться, из узора лиловых и розовых сосудиков. Вдруг почуяв ветер свободы, Караваев-старший ушел в неумелый запой, пару раз был замечен во дворе бегающим, будто шарик в наклоняемой туда-сюда игрушке, от синей лавки к рыжей песочнице, оттуда к железной кривой карусельке, своим вращением окончательно сбивавшей его систему координат. Очевидно, он пытался с какого-нибудь раза угодить в подъезд и слабо покрикивал, прижимая к груди нечто сияющее, бывшее, по всей вероятности, бутылкой водки. Однако Наталья Федоровна, даже подшибленная инсультом и говорившая вбок, словно складывая себе за щеку жеваные слова, быстро привела своего купидона в надлежащий вид. Теперь папаша Караваев стал сосредоточен и ревностен, научился делать уборку, упираясь шваброй в захламленные тупики двух узких параллельных комнат, научился даже варить незамысловатый супчик и кормил супругу с ложечки, держа наготове, чтобы подхватывать потеки, кухонное полотенце. Он сделался снова как бы невидим, только бледная тень его, навьюченная более плотной тенью купленных продуктов, иногда проходила по крашеной стене подъезда, да ощущался от него порой очень слабый, почти воображаемый алкогольный запах, похожий скорее на аромат скошенной травы, чем на испарения вина.
Женечка Караваев временно исчез из поля зрения Ведерникова. Уверяя себя, что очень этому рад, Ведерников вдруг ощутил, что у него отняли чемпионский кубок. Женечка принадлежал ему, Ведерникову, и он осознал, что желает контролировать пацанчика, держать его возле себя на коротком поводке. Ведерников догадывался, что большинство людей живут всего лишь потому, что родились и не умерли, – но Женечка Караваев просто обязан был иметь смысл жизни. И не только иметь, а постоянно доказывать Ведерникову, что это именно смысл, а не херня. Если, конечно, Женечка Караваев хотел жить дальше. Эта последняя фраза выкатилась как-то автоматически в общем потоке внутреннего монолога. Если Женечка, этот невинный цветок, просто хочет жить, то ему придется работать, выкладываться, как Ведерников выкладывался на тренировках, до седьмого пота, до мыла, до лиловой радуги в глазах. Или… Что стояло за этим «или», Ведерников представлял смутно, но ему было утешительно лелеять зародыш власти, подобие жизненного плана, подобие возмездия за все, что он потерял.
Для дипломатических переговоров у него имелась только Лида. Ей он представил дело так, будто они вдвоем берут шефство над ребенком, у которого отец алкоголик, а мать инвалид. Надо было видеть, как просияли ее небольшие глаза – оказавшиеся сине-зелеными, будто павлинье перо. В тот вечер Лида была особенно нежна, купала и обтирала культи, точно это были младенцы, а после любви вдруг заговорила, что мечтает когда-нибудь родить ребеночка – нет, не сейчас, Аслан не хочет никаких детей, и нет условий, главное, нет своего жилья, но впереди еще несколько лет молодости, а если ничего не изменится, то она все равно родит, будь что будет, ведь каждой женщине нужно материнское счастье.
Ведерников, ублаготворенный, уже почти задремавший, внезапно ощутил резкий приступ раздражения и еле удержался, чтобы не спихнуть Лиду с постели. До него дошло, что Лида теперь считает Женечку Караваева как бы их с Ведерниковым общим сынком – и тем покушается на обладание самим Ведерниковым в гораздо большей степени, чем он изначально был склонен допустить. Ведерников был рад услышать какофонию, производимую Асланом в глубине дождливой ночи, где симпатичный кавказец бурлил и квакал, будто тропическая лягушка в брачный период. Ведерников тогда подумал, что, в общем-то, Аслан хороший парень и надо бы что-нибудь ему подарить при случае: новый мобильник, например, или обложенный витиеватой чеканкой сувенирный кинжал.
* * *
Лида, между тем, стала регулярно звонить Караваевым, кланяясь всей их семье с телефонной трубкой у рдеющего уха, – и в один прекрасный зимний денек привела сопливое сокровище прямо с прогулки: в залубеневшем куртеце, с ледяной коростой на коленках лыжных штанов. Женечка глядел исподлобья, шмыгая набухшим розовым носиком, вид у него был подшибленный и нахальный. Ведерников не знал, о чем с ним говорить. На вопрос «Как в школе?» Женечка ответил глумливой усмешкой, украшением которой служила длинная сопелька с кровью. Выручила Лида, захлопотала возле монстрика, стянула с него мокрую одежду, натрясшую талой шелухи на чистый паркет, причем пацанчик специально кобенился, чтобы труднее было выпростать его из рукавов. Под куртецом на нем оказалась женская шерстяная кофта, сопревшая до пролысин и валяных клочьев. Нежно воркуя, Лида увела пацанчика на кухню, к чаю с вареньем и полному блюду пухлых ватрушек: их пацанчик принялся убирать за обе щеки, дергая правой ногой в мохнатом, мокром как губка носке. Ведерников смотрел на них с тяжелым сердцем, понимая, что эти два существа, только и способные дать ему утешение, ничего не дадут.
И действительно: жизнь Женечки Караваева не только не имела смысла, но была на редкость, до абсурда бессмысленна. Учился он плохо, с тройки на двойку, на математике развлекался тем, что к выражению «икс, умноженное на игрек» старательно пририсовывал «и краткое» и, лыбясь, совал тетрадь соседке по парте, щекастой и лобастой отличнице Журавлевой, за что получал деловитый удар стопкой учебников по гулкой голове. Женечка ненавидел математику с ее муравьиными тропами латиницы и цифири, заводившими его в темные чащобы, ненавидел, естественно, физкультуру, где кулем валился с брусьев и больно плюхался животом на дерматинового «козла», вместо того чтобы через него перескочить.
Однако у Женечки имелись, как он любил говорить, «научные интересы». Он подбирал на улице все кривые и ржавые железки, какие только попадались под ноги, чем уродливей, тем лучше; в комнате у него пылился громадный ящик этого добра, заботливо прикрытый слипшимися листками с рекламой китайской еды. Женечка мог часами возиться, прилаживая друг к другу останки разных механизмов, изъеденные коррозией и оттого похожие на ископаемые кости. Особую слабость он питал к потрохам будильников и заводных игрушек; иногда у него даже получалось привести в действие нагромождение шестеренок и пружин, туго щелкавшее и сыпавшее сором на застеленный газетой письменный стол – а то вдруг принимавшееся хромать к обрыву, к бездне, где и терпело крушение, рассыпаясь по полу на дребезжащие слои зубчатых колес.
Еще Женечку весьма интересовали птицы и насекомые. В карманах у него всегда болтался спичечный коробок, где сухо шебуршала и царапалась очередная поимка. Женечка собирал «коллекцию», представлявшую собой заляпанные листы картона, куда экспериментатор прикалывал заскорузлыми булавками, безо всякой системы и смысла, обтрепанных простеньких бабочек, отливавших окалиной крупных стрекоз и даже обыкновенных мух. Свежие жертвы долго шевелились, будто устраивались поудобнее, выделяли на булавки зеленые и бурые капли. От давних же экспонатов часто оставались гнилые фрагменты, ошметки, хитиновая скорлупка без головы, потертый горб с одним пересохшим крылом. Впрочем, Женечка о сохранности коллекции вовсе не заботился и ловил экспонаты наново, чтобы любоваться, точно на цветочек, на булавку, где сжималось, и разжималось, и подергивало брюшком очередное приобретение, обреченное впоследствии так же сгнить и развалиться на части.
Что касается птиц, то здесь неуклюжему Женечке доставались только перья, которые он поднимал с земли и таскал в портфеле, чтобы ими щекотать сливочную шею отличницы Журавлевой. Ради этих сборов и ради «научных наблюдений» Женечка прогуливался в недалекий, какими-то угрюмыми складами стиснутый парк, где ночевала половина городских ворон. Стаи черной сетью тянулись под низким небом, и на каждом дереве их набиралось столько, что округлые кроны кленов и лип напоминали муравейники. По непонятным причинам Женечке здесь нравилось, он с удовольствием слушал тысячеголосый грай с хриплыми зачатками человеческих слов, улыбался, когда горячие капли гуано, выбелившие землю под ветвями, липко прожигали рубашку. Иногда он так удачно кидал хлесткую палку, что дерево буквально выстреливало черным салютом; тогда урожай жирных отборных перьев бывал особенно обилен. А однажды Женечка приволок домой вороненка: был он морщинистый, голый, будто старушечий кулачок с артритными костяшками, иногда разевал мокрый кожистый клюв, открывая алое нутро до самого голодного желудка. Огорченная Лида свернула ему гнездо из старого шарфа, попыталась накормить распаренным овсом, но вороненок все равно к вечеру ослаб, дернулся и, словно в неизъяснимом удовольствии, затянул перламутровой пленкой сощуренный глаз. Наутро деловитый Женечка завернул холодненький трупик в газету и положил в карман, точно бутерброд, объявив, что сделает из него скелет.
* * *
Женечка, конечно, не понимал, но чуял, для чего он нужен дяде Олегу и почему он, через дуру тетю Лиду, то и дело зовет его в гости. Дома Женечка не имел над собой никакого контроля, вольным жильцом маневрировал между матерью, волокшейся по стенке и по висящим пальто в туалет, и отцом, мреющим, как призрак, в кухонном чаду. Неожиданно контроль образовался там, где прежде надо было понарошку показывать дневник и улыбаться десять минут. Женечке это совершенно не понравилось, и вообще он не любил «терять время»: чтобы избежать потерь, носил на руке рубчатые электронные часы и еще одни, мутные, как медуза, с жеваным обрывком ремешка, в кармане штанов; кропотливо подкручивая головки и тыкая в кнопочки, добивался полной их синхронности, чтобы ни единая секунда зря не ускользнула. Зачем ему было время – неизвестно; а все-таки Женечка им дорожил, точно хотел за первую жизнь накопить на другую.
Те несколько часов, что он проводил у дяди Олега, он, по-видимому, считал пожертвованными, несмотря на ватрушки, да к тому же эти двое взрослых не ленились лезть в его дела и требовали показать дневник уже по-настоящему. После первых принудительных визитов он, собственно, собирался свинтить по-тихому и больше не показываться. Однако был момент, когда независимый Женечка, всеми мыслями уже пребывавший в своем ящике сокровищ, где его ждали очень интересные, похожие на кучу кривых опят, старинные гвозди, вдруг встретился взглядом с нехорошими глазами своего благодетеля. Инстинкты у Женечки были правильные и работали превосходно. В этих припухших сонных глазах плавали тусклые, но такие опасные огоньки, что Женечка счел за благо не нарываться и допустить опеку, по возможности извлекая из нее все приятности и выгоды, какие сулила глупость этих двух взрослых, совершенно Женечку не понимавших.
Однако, помимо неясной опасности, безногий содержал в себе еще нечто, вызывавшее у Женечки беспокойство, тот род жажды, которую он испытывал при виде богатой кучи металлолома или неуловимого, будто карточный фокус, перелета бабочки в сорняках. Это были не культи, тоже по-своему любопытные, но всегда скрытые одеялом либо подвернутыми штанами. Это было что-то внутри безногого – какая-то сложная начинка, игравшая и мерцавшая, даже когда безногий сидел неподвижно, свесив нижнюю губу наподобие гриба. Ведерников, в свою очередь, тоже ощущал, вместе с Женечкиным сопротивлением, этот осторожный живодерский интерес. Он-то догадывался, что именно возбуждает пацанчика: сам плотный, точно набитый землей, Женечка очаровывался всем, что могло двигаться по воздуху, начиная от крылатых козявок и заканчивая, стало быть, Ведерниковым. Каким-то образом пацанчик чуял силовую паутину, которая, вместо того чтобы угаснуть в калеке, только крепла и бесилась, создавая до жути реальное ощущение живых, неотрезанных ног и подзуживая на них вскочить.
Ведерников точно знал, когда произошло оживление злополучной сетки: в тот самый момент, когда он впервые погрузился в пряную белизну женского тела и ощутил себя чемпионом. У него, значит, не получалось простого человеческого траха, трах имел опасные последствия: не зря после Лиды Ведерников болезненно натыкался взглядом на стены и мебель – ему физически, как стакан воды, требовались свободные пятьдесят метров, на двадцать шесть ликующих в мышечной памяти беговых шагов. Лида, конечно, об этом знать не могла, она была слепа, и слепа до такой степени, что ее глаза павлиньей зелени и синевы казались украшениями, какой-то дешевкой из стразов, назойливо блестевшей. В Женечке она видела бедного сиротку, причем не конкретного, а сиротку вообще, конечно же, неспособного, в силу своей отвлеченности, спереть из ванной электробритву или изрезать кухонный стол, пока распаренная Лида, управляясь сразу с двумя чадящими сковородками, наливала блины. Ведерников был для Лиды вообще бедняга, вообще хороший человек и немножко муж – тоже обобщенный, скорее тело, чем личность. И тем не менее Лида оказалась необходимым звеном, чтобы у всех троих сложились отношения. Получилась псевдосемья, так же похожая на семью настоящую, как театральная декорация на лес или жилье; однако для сторонних зрителей троица выглядела весьма драматично, и можно было ждать продолжения спектакля.
* * *
Мать Ведерникова, разумеется, в спектакле не участвовала. Она категорически не одобряла присутствия Женечки в квартире: не говорила ни одного дурного слова, но так раздувала ноздри, что пацанчик выпускал из кулака недоеденный ожевок и, ерзнув, вильнув, исчезал за десять секунд. «Проветрите здесь», – ледяным тоном распоряжалась мать, когда за Женечкой хлопала входная дверь. «Мой дорогой, я не против того, чтобы ты развлекался, – говорила она Ведерникову, отослав бледную Лиду драить после гостя прихожую и унитаз. – Я всего лишь не хочу ничего нездорового. Этот ребенок отвратителен, он не может радовать сам по себе. И что тебе взбрело? Ты бы лучше побольше гулял, и не в коляске, а на своих двоих. Ты же спортсмен! А превращаешься в сидячую квашню. Кстати, Роман Петрович ждет нас послезавтра».
Роман Петрович был известный и очень недешевый мастер-протезист. Огромный, заросший дремучим, каким-то мамонтовым волосом, он говорил тонким сдавленным голоском, несообразным его обширным телесам. Казалось, не только речевой аппарат, но и все другие органы были в нем стиснуты жировыми и мясными глыбами, в том числе и сердце; оттого Роман Петрович был всегда раздражен, драл, запуская в нее пятерню, свою доисторическую бородищу, над которой щечки глянцевито багровели, будто пасхальные яйца. Этот неприятный, несуразный на вид человек был единственным, кто мог безнаказанно кричать, а верней, пищать на мать, не терпевшую повышенных тонов ни от кого, кому она платила деньги. Но тут мать была сама кротость. Всегда любившая помариновать персонал в ожидании своего появления, здесь она предпочитала провести полчаса в длинной, как вагон метро, ровно ничем не украшенной приемной, нежели опоздать на пять минут.
Ездить к Роману Петровичу приходилось часто. В душе у матери, по-видимому, жила тайная надежда, что большое количество искусственных ног, суммируясь, вместе дадут пару настоящих. У Ведерникова имелось уже двенадцать скорбных комплектов, частично заполнявших пустоту материнского гардероба. Были протезы простые, в виде палок с приделанными к ним желто-розовыми, отвратительно условными ступнями: в них Ведерников выглядел будто оббитая до арматуры парковая статуя. Были протезы «косметичные», обтянутые полимерной, всегда немного липкой искусственной кожей: эти безволосые ноги напоминали женские, оттого Ведерников их страшно стеснялся и почти не носил. Регулярно появлялись, в новых и новейших модификациях, компьютерные ноги с гидравлическими коленными суставами, точно отнятые от роботов и приделанные к живому человеку. Было странно управлять самим собой при помощи пульта; так и хотелось направить сигнал не вниз, на электронику и гидравлику, а непосредственно в висок, чтобы стереть ненужные мысли, от которых закипают мозги. На простых протезах-палках Ведерников передвигался на манер циркуля, словно измеряя нечто твердое, реальное и несомненно существующее, тогда как на компьютерных, особенно если задать неправильный режим, земля юлила, ускользала, и по лестницам Ведерников поднимался с неприятным чувством, будто всякий раз ставит карбоновую ступню на тугой, увертливый мяч.
Ведерников и правда не любил передвигаться на протезах: немного завидуя ампутантам, что надергивают протезы легко, точно сапоги, сам он не мог отделаться от нежелания быть частично искусственным. Лиде всегда стоило огромного труда вытащить его на «ходячую» прогулку. При роковом отсутствии спасительного и такого удобного кресла Ведерников в родных дворах чувствовал себя заброшенным за тридевять земель. Опираясь правой рукой на мягкую Лиду, а левой на упрямую твердую трость, Ведерников занимал всю ширину дворовой асфальтовой дорожки, и всякий раз, когда кто-нибудь его обгонял, сердце на мгновение сжималось, точно обогнавший мог столкнуть его в пропасть. Собственный рост, стараниями Романа Петровича соответствующий тому, из которого Ведерников ушел в полубытие, теперь казался чрезмерно велик. Здесь, наверху, было слишком ветрено, в лицо летели то острые снежинки, то сырые тряпичные листья, и само пространство казалось дырявым, рваным, опасным своей открытостью на все четыре стороны. А то вдруг обострялось ощущение живых, неотрезанных ног, обутых в мучительно тесную обувь и тонких, как спички. Между тем еще предстояло вернуться к далекому подъезду, влезть по трем горбатым ступеням на крыльцо, а затем еще по восьми взобраться на площадку, где можно наконец вызвать комфортабельный лифт.
У Романа Петровича, занимавшего целый этаж граненого, отливавшего ядовитой синькой бизнес-центра, имелся оборудованный зал, где платежеспособных ампутантов гоняли, будто дрессированных крыс по лабиринту. Здесь были выстроены разного рода изуверские лестницы. У одной ступени были круты и узки, точно книжные полки; другая, напротив, состояла из широких, на полтора человеческих шага, полированных плит, какие бывают на некрасивых и пустых, советской постройки площадях и ведут к какому-нибудь большеногому гранитному солдату или трепещущему в увядших цветочных стогах Вечному огню. Изверг-протезист воспроизвел у себя в тренировочном зале все неприятности, какие подстерегают ампутанта в нелюбезной городской среде, – а кое-что было буквально перенесено с улиц, например, еще одна интересная лестница истертого почти до дыр мягкого мрамора, чьи ступени были кривы, будто морщины на старческом лбу. Имелся даже винтовой фрагмент, решетчатый и гулкий, завивавшийся вокруг чугунного, точно смолой облитого столба. Здесь всегда дежурил помощник Романа Петровича, меланхоличный полный мужчина, чьи прилизанные желтые волосы выглядели как масло, намазанное на булку; должно быть, его задача была спасать ампутантов, застрявших в железных тенетах, но мужчина был отрешен, глаза его, казалось, внимательнейшим образом считывали информацию с внутренней стороны квадратных очков и не реагировали ни на какие внешние раздражители.
Лестницы соединялись в неровный овал, в единый мучительный путь, по которому можно было двигаться по часовой и против часовой, но не получалось сойти с дистанции, пока не достигнешь, обливаясь холодным потом, самого дна витиеватого ада. Ампутанты ковыляли по кругу, все разные, точно хромые и кривые римские цифры, пустившиеся по сюрреалистическому циферблату, лишенному стрелок. А в запасе у коварного Романа Петровича были еще плоскости растресканного асфальта с мочалами настоящей травы, плюс наклонные пандусы, плюс длинные поддоны с гравием, чей скрежет отдавался в зубах, точно приходилось, по мере продвижения, пережевывать всю эту пыльную гранитную массу. «Водички, водички полейте, чтоб скользко было! – покрикивал довольный Роман Петрович пронзительным от счастья голоском. – Пусть полюбят дождичек, черти!» Тотчас кто-нибудь из обслуги волок, семеня и поплескивая, полное ведро и широко окатывал ад; Роман Петрович с живейшим интересом наблюдал, как подопытные, делая судорожные мелкие движения, преодолевают просиявшие препятствия.
Если бы изверг мог, он бы воспроизвел у себя в аду и пупырчатые наледи, что возникают на асфальте после мокрого снега, и промерзшие до белой щепы хрупкие лужи, и тот самый зловредный сорт городского ветра, что бросается из-за угла, как пес, и норовит завалить навзничь. Протезист явно чуял в себе нечто от языческого бога, от Зевса-громовержца. Интересно, что и другие признавали в нем скрытую стихийную мощь, иначе с чего бы мать стала так перед ним заискивать? А она заискивала и даже смущалась, стоя перед извергом и его массивным, словно из шоколада отлитым столом, тогда как рядом было кресло, в которое она могла, в своей псевдоподростковой голенастой манере, развинченно плюхнуться.
Ведерников только удивлялся. Вероятно, женщин, подобных матери, раньше просто не существовало ни в одном поколении бабок и прабабок. Это был совершенно новый тип, выпавший из естественного хода вещей. Матери недавно сравнялось сорок пять (полуюбилей, чинный ресторан, именинный торт с роем желтых огоньков, из которых один, цепкий, как оса, никак не хотел гаснуть) – но никто не смог бы на взгляд определить ее биологический возраст. При помощи косметических салонов мать превращалась в биоробота, одетого подростком; это не было возвращение молодости – лицо ее, до странности твердое и лишенное теней, совсем не напоминало студенческие снимки, так что человек, не видевший ее с тех самых нежных лет, которые она теперь имитировала, узнал бы ее с меньшей вероятностью, чем если бы она дала годам брать свое. Джинсы, короткие курточки, кеды – все это смотрелось круто, но на самом деле в ее двадцать с небольшим были круглые воротнички и платья в цветочек, а еще Ведерников помнил тяжелое пальто на вате, с большой растрепанной лисой, похожей на жухлую траву, и чопорные ботики на кожаных пуговках, всегда сырые, стоявшие отдельно на серой газетке.
Существо, в которое превращалась мать, изначально не предусматривалось природой – кто же мог теперь догадаться, что у существа на уме? Искусственного в ней было теперь едва ли не больше, чем в самом Ведерникове на протезах. Может, потому она так трепетала перед наладчиком высокотехнологичных конечностей? В том ресторане протезист тоже присутствовал – сидел, развалясь, по левую руку от холодно сиявшей именинницы, свитер корзиной, борода метлой. А однажды под обширным белым халатом Ведерников углядел на изверге полосатый костюм вроде отцовского, с каким-то красненьким значком на лацкане, похожим на леденец. Мелькнувшая догадка заставила его похолодеть и криво усмехнуться. С одной стороны, он не мог представить, что у матери, превратившей себя в неестественное существо, могут оставаться какие-то естественные чувства. С другой стороны, тугие плечистые бойфренды разом куда-то делись. У Ведерникова было мало возможностей для наблюдений: мать он видел редко и так и не побывал в ее личной квартире, остававшейся для него крошечным белым пятнышком на где-то северо-западе Москвы. Раз он подсмотрел, как злокозненный творец искусственных стихий с галантной ужимкой подает зарозовевшей матери ее китайчатый, в золотых драконах, пуховик, а она блаженно вплывает в атласные рукава и нежится в объятиях шелка, стеганого пуха, корявых лап живодера, не сразу разомкнувшихся.