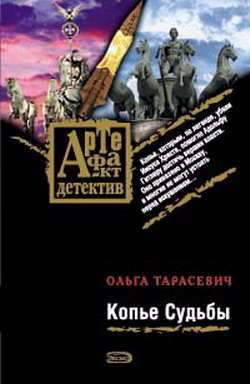Читать книгу Копье Судьбы - Ольга Тарасевич - Страница 4
Глава 3
ОглавлениеВена, 1908 год, Берлин, 1932 год; Адольф Гитлер
Пепельно тяжелое мрачное небо давит на темные вершины гор и склоны, заросшие черными деревьями. А вот сейчас в альбоме появляется серое перильце моста над угольной пастью ущелья. Теперь зажурчал мутный грязный поток реки на дне его.
Опасный трагический пейзаж окружает, засасывает. Повсюду серость, холод, сыроватый сумрак. И выхода нет, не вырваться…
Взгляд Адольфа Гитлера случайно упал на малиновую краску в большой коробочке акварели, и фюрер с досадой закусил губу.
Он любил эту краску, ею хорошо рисовать морозное небо над заснеженными елями. А еще блики заката, отражающегося в легкой речной ряби. Но теперь насыщенность акварели раздражает хуже зубной боли.
Какие яркие цвета, когда все так плохо? Когда все просто отвратительно! Мечты, надежды, бессонные ночи, колоссальный труд – а ничего в итоге не получилось.
Не вышло достичь того, чего хотелось.
Планка была высока. Но меньшее – это ничто.
Великие люди не должны довольствоваться малым…
«Меньше тридцати восьми процентов на выборах, двести тридцать мандатов из шестисот восьми. – Гитлер скрипел зубами, яростно добавляя графитовой краски на и без того черные деревья. – Наша фракция – крупнейшая. И что? Единственное, что мне предложил президент Гинденбург, – войти в правительство Папена. Конечно, я отказался! Мы сами должны формировать правительство. Но партийцы, рядовые члены НСДАП, недовольны. Им кажется – мы теряем время, упускаем власть, а следует брать, что дают. Но нам никто не предлагает реальной власти. Погнавшись же за призраком, мы лишимся настоящей поддержки людей…»
Закончив рисовать мрачный, под стать настроению, горный пейзаж, Гитлер отложил альбом. Поправил темно-серый, перетянутый кожаным ремнем китель. Сцепив руки за спиной, заходил по комнате, набрал в легкие побольше воздуха.
– Мы глубоко убеждены, что только наше движение способно задержать дальнейшее падение немецкого народа, а затем пойти дальше и создать гранитный фундамент, на котором в свое время вырастет новое государство, – раскатисто произнес он, чувствуя, как энергия собственного голоса привычно начинает покалывать все тело мелкими иголками возбуждения. – Это будет не такое государство, которое чуждо народу и которое занято только голыми хозяйственными интересами. Нет, это будет подлинно народный организм, это будет – германское государство, действительно представляющее немецкую нацию[12].
Он бросил мимолетный взгляд в зеркало.
Очень хорошо!
В глазах – огонь, лицо решительное и сосредоточенное. И надо вот такой жест добавить – взмахнуть ладонью, как отрезать ненужное, прогнившее прошлое.
«Уже не тесные пивные, – фюрер усмехнулся своему отражению. – Стадионы собираются, от криков „Sieg Heil“[13] закладывает уши. А все равно не смогли одержать полную победу. Но надо работать, надо, стиснув зубы, идти вперед. И, конечно, репетировать выступления. Хотя и не хочется, и сил нет, и отчаяние заполонило душу. Оратор – тот же спортсмен, приходится постоянно тренироваться. Как хорошо, что еще с юных лет я бросил курить, избавился от пагубной привычки. С сигаретами ни за что не выдержать мне такой напряженной работы, и это было бы настоящей трагедией немецкого народа…»
Да, пачку папирос поглотили воды стремительного Дуная.
Сколько ему тогда было? Восемнадцать, девятнадцать? А ведь все помнится так живо, как будто бы случилось вчера.
…Он проводил глазами исчезающую в зеленоватой воде красную коробку дешевых папирос и подумал: «Вот и деньги теперь будут. Я выкуривал от 25 до 40 сигарет в день и тратил на это 13 крейцеров. А теперь смогу наесться бутербродов с маслом, и у меня еще останутся деньги. Стану копить – и куплю новых книг или схожу в оперу, или…»
Адольф грустно вздохнул. Вена – вечное прекрасное искушение. Конечно, первое, что испытывает, должно быть, любой человек, оказавшийся в чудесной австрийской столице, – это восхищение. Восхищение красотой изысканной архитектуры, роскошью и богатством здешних жителей. По Рингштрассе можно бродить, позабыв о времени. Рассматривать дворец Хофбург, здание парламента и оперный театр. Потом пройти к Штефлю[14], а когда закружится голова от величественных строгих готических линий, войти внутрь, преклонить колени пред алтарем дивной красоты. Или подняться по узкой винтовой лестнице на смотровую площадку, – какой оттуда вид! Вся Вена предстает перед глазами, Венский лес, горы! Прекрасны и жители Вены. Дамы в невиданных воздушных платьях, мужчины в дорогих костюмах.
На такую красоту хочется смотреть с утра до ночи. И рисовать все-все, чего только коснется взгляд. Лица, кварталы, парки, скульптуры, фонтаны…
А потом, когда пар первого восторга был выпущен, пришло глубокое отчаяние. Жить здесь куда дороже, чем в родном Линце. Сиротской пенсии едва хватает на то, чтобы нанять вскладчину с приятелем скромную квартиру. А есть, покупать одежду, ходить в оперу катастрофически не на что. И улучшений не предвидится.
Впрочем, теперь одной статьей расходов все-таки будет меньше. Адольф еще раз посмотрел на рябую водную поверхность. И, засунув руки в карманы серых брюк, изрядно уже потертых на коленях, зашагал к себе домой.
«Адольф, приказываю тебе заниматься! – нахмурившись, подумал он. – Рисовать, рисовать и снова рисовать. В прошлом году поступить в Академию изящных искусств не удалось. Как гром среди ясного неба! Я-то был уверен, что являюсь отличным рисовальщиком. А тут говорят: в плане живописи слабо, зато видны способности к архитектуре. Но, чтобы поступать на архитектора, нужен аттестат об окончании средней школы, а у меня его нет, заболел, недоучился. На художника можно выучиться без аттестата. Придется снова пробиваться в академию, другого пути нет…»
Еще на узкой лестнице, ведущей к квартире, услышал Адольф неуверенные, неприятно фальшивые гаммы.
Густль[15] уже тут, в маленькой комнате, из окна которой виден ряд красных черепичных крыш. Здесь едва можно развернуться между пианино, столом и двумя узкими койками. Густль – это так славно. Дружба Кубичека помогает не пасть духом. Приятель понимает все без слов, он бодр, весел. Щедро делится своей радостью и вообще всем, что у него есть.
Итак, Густль дома, но к нему пришла ученица. Друг учится в консерватории, гаммы и этюды в его исполнении прекрасны. Сейчас же пианино терзает ученица. И это плохо. Потому что комната и так тесная, потому что девушки эти глупые и некрасивые, а Густль сидит к ним мучительно близко, и…
«Так, прекрати, – оборвал себя Адольф, открывая дверь. Звуки смолкли, но через секунду снова затерзали привыкший в основном к божественной музыке Вагнера слух. – Даже думать об этом грех, и не надо ставить друга в неудобное положение!»
– О, Ади! – Густль сверкнул белоснежной улыбкой, отчего его лицо стало особенно красивым, светящимся. – Привет! А мы уже заканчиваем с фрейлейн, она сейчас уходит. Поедем купаться? Погода какая, самое время!
– Я не люблю купаться. – Адольф покосился на девушку в голубом ситцевом платье, почтительно его разглядывающую. – И мне надо работать.
Захлопнув ноты, Кубичек вскочил с невысокого стула и опять улыбнулся.
– Альбом и краски можно захватить с собой! Пойдем, я знаю чудный пляж на берегу Вены. Венский лес, вода, свежий воздух! Чудесная натура! Что скажешь, Ади?
Адольф сдался. От прямых солнечных лучей, льющихся в распахнутое полукруглое окно, комната и правда накалилась, как жаровня. Воздух, отталкиваясь от ближайших крыш, поднимался к небу дрожащим маревом. Густль прав: на берегу работать будет намного лучше.
Когда они расположились на пляже и в альбоме Адольфа появились первые изгибы русла неглубокой Вены, а Густль, с блестящими каплями в мокрых черных прядях, растянулся на одеяле, Гитлер стал остро жалеть об этом пикнике.
Набрать краски – сделать мазок на бумаге – сполоснуть кисть – опять макнуть в краску – глянуть на реку.
Все.
Все! Это единственный разрешенный глазам маршрут.
Единственный разрешенный.
Но боковое зрение все равно отчаянно ласкает друга.
Его пухлые, словно раскрашенные нежной пастельной акварелью губы, готовые сверкнуть белоснежной улыбкой. Тонкую, чуть тронутую розовым загаром спину с торчащими, как крылышки у цыпленка, лопатками. И впалый живот с ниткой золотистых волос. И худенькие бедра. Да даже ссадина на его голени, царапина с темно-коричневой корочкой, вызывает непонятную нежность, и…
Альбом, краски, не думать, не смотреть, черт побери!
Густль вскочил на ноги и осторожно, чтобы не поранить ступни о мелкие камешки, снова направился к реке.
Водопад солнечного света вычернил контур его высокой худощавой фигуры. Но не скрыл ни малейшего движения мышц, напрягавшихся при ходьбе. Особенно красиво атлетические линии тела выглядели при подготовке к прыжку – подтянутые, тугие, как тетива. Напрягшиеся бицепсы, сжатые маленькие ягодицы, очерченные икры.
Ну, наконец-то.
Прекрасное тело исчезает в фонтане сверкающих на солнце брызг.
С глаз долой.
Еще бы из сердца вон.
Адольф вытер платком вспотевшее лицо и попытался сосредоточиться на рисунке. Рисовать хотелось совершенное тело друга, а не пейзаж. Но если бы такой натурщик надолго оказался перед глазами, то…
Дальше думать было страшно. Адольф облизнул пересохшие губы, вымыл кисточку. И вздрогнул, как от удара хлыстом.
Густль, мокрый, холодный, подкрался неслышно, прижался к спине, обнял.
«Бежать, пока еще могу сопротивляться».
«Не двигаться. Как хорошо».
Противоречивые мысли. Полярные ощущения. Телу одновременно холодно от страха и жарко от страсти.
Теплое дыхание щекочет шею.
– А я знаю, почему Ади не купается, – прошептал Густль, вытаскивая рубашку Адольфа из брюк. – Ади не купается, потому что у него спина и попа в шрамах. Глубокие шрамы. Но их не надо стесняться. Подумаешь! Ты такой красивый. Удивлен, что я все знаю? А я подглядывал, когда ты мылся. Я хочу тебя видеть всего. Ты прекрасен… Расскажешь мне, как появились эти отметины?
– Розги. – Адольф почти задыхался. Сердце пробивало грудь. – Отец, розги, в детстве.
От неожиданного поцелуя перед глазами все закружилось: сосны, берег Вены, заросшая изумрудной травой лужайка.
Губы друга были нежными и одновременно требовательными. И – Адольф это сразу понял – очень умелыми.
Значит, Густль тоже… Думает о том же, хочет того же, не может совладать с собой и остановиться. И он, кажется, уже все знает, все умеет. Значит, неловкости не будет, а будет, наверное, хорошо, и темный туман в глазах рассеется, придет облегчение, но…
– Нельзя, Густль. – Адольф с сожалением освободился из его объятий. – Грех, нельзя.
– А мы, – по шее запорхали дразнящие быстрые поцелуи, – мы потом покаемся, Ади. Согрешим. И покаемся, да? Ты ведь тоже хочешь меня…
Адольф хотел сказать, что такой грех не простится, даже если покаешься. И что гомосексуализм по сути своей – явление отвратительное и ненужное для общества, так как он, конечно же, не позволяет обзавестись потомством, а лишь потворствует пустым порочным желаниям. А немцы раздроблены, и коммунисты со своим вредоносным учением разъедают души рабочих, и надо сплотиться. А вокруг чего можно объединиться? Идея и семья. Как ни крути, нормальная семья – основа основ, и это значит, что гомосексуализм вреден, и…
Рука приятеля опустилась между ног Адольфа, и слова запылали вместе с мыслями. Последняя мысленная вспышка – худое жилистое жаркое тело друга очень приятно обнимать, и его хочется сжимать всегда. А потом догорела и эта вспышка…
Вечером, когда счастливый Кубичек нехотя отправился давать урок очередной ученице, Гитлер собрал свои вещи и ушел.
Это было очень сложно. Из глаз текли слезы. Ныло сердце, уже начинающее прирастать к любимым губам, умелым рукам, замирающему перед прыжком в наслаждение совершенному телу.
Сердце быстро прирастало к приятелю, но пока любовь, пусть и через боль, все же можно было оторвать. И Адольф это сделал. Так как понимал: еще немного промедления, и он не сможет уйти. Останется рядом. Но счастье любви разве перевесит позор, осуждение, косые взгляды людей? Хотя… Чужие злость и досаду, возможно, даже и перевесит. Однако собственное, существующее в глубине души омерзение – никогда…
* * *
Они выглядели такими расстроенными – пацаны, с которыми всегда приходил Егор.
– В каком зале вы хотите покушать? – спросил Митя Гуляев, с любопытством разглядывая напряженные лица.
Невысокий паренек с широкими плечами прищурился:
– Я вижу, в «морском» зале люди. Может, «ледяной» посвободнее?
– Там вообще никого нет. – Официант невольно поежился. – При такой-то погоде! Не весна, ноябрь. Холодно, дождь. «Ледяной» посетители только в жару любят.
Они даже не смотрели в меню. Заказали какой-то ерунды для отвода глаз – авокадо сяке маки, мисо-широ с креветками. Забыв, что в баре не подают спиртного, в том числе и традиционно японского, попросили водки. Узнали, что не получат, – помрачнели еще больше.
«Пора, – решил Митя, замечая в глазах ребят одно общее очень сильное желание: чтобы он убрался восвояси. – Кажется, именно теперь я могу попытаться кое-что про них выяснить. Уроды! Какие же они скоты и уроды! Ущербные придурки! С ними рядом даже стоять противно. От них воняет хроническими лузерами».
Он передал на кухню заказ, невольно скривился при виде большого куска филе лосося, от которого повар отрезал тонкую полоску для начинки.
– Сырая рыба – все-таки жуткая гадость, – подмигнул повар. – Я вот готовлю и сам удивляюсь – как можно ее есть!
– Долго ты своих паразитов лечил? – из вежливости поинтересовался Митя, отворачиваясь от стола с лососем и тунцом.
– В общей сложности полгода. Пока врачи поняли, что со мной, чуть не помер.
– Еще бы тебя после такого не колбасило. Ладно, я побежал.
– Только недалеко, здесь готовить нечего! Сейчас будут твои авокадо сяке!
Митя планировал рассчитать клиентов, принести заказ пацанам, а потом подслушать, о чем они говорят. Благо столик, за которым они расположились, находился как раз возле выступа, где скрывались многочисленные кнопки, регулирующие работу плазменных панелей. Конечно, выручка и, соответственно, его процент от вынужденного простоя уменьшатся – но ради благого дела ничего не жалко.
Однако все пошло наперекосяк. В «океаническом» зале расположился какой-то невзрачный мужичок в сером костюме. И менеджер Аллочка как с цепи сорвалась. Распорядилась, чтобы его столик обслуживало несколько официантов, и погнала Митю уменьшать интенсивность освещения, потом включать систему ароматизации.
Невзрачный мужичок – явно важный клиент. Весь бар на ушах стоит, его ублажая.
Подслушать разговор не получается – это очевидно. Но очень надо!
Что же делать? Что делать?
Митя принес ребятам заказанные суши и суп, с тоской посмотрел на место, откуда планировал подслушать хотя бы часть их беседы.
И вдруг его осенило!
Улыбнувшись, он пожелал приятного аппетита, добрался до укромного уголка, достал сотовый телефон.
Диктофон.
Ну конечно.
Никогда не знаешь, когда понадобятся все эти технические навороты, которые теперь есть даже в недорогих моделях мобильников.
Он обслуживал важного клиента со спокойным сердцем: чувствительность у диктофона была потрясающая. Даже если мобильник положить в карман, запись, сделанная на расстоянии двух метров от источника звука, получается очень чистой. А столик стоит очень близко к включенному на режим записи телефону…
Нападение на «кавказцев»? Или план проведения тренировок? Что они будут обсуждать, эти фашистские недоумки?
Рассчитав пацанов, Митя забрал телефон, убедился, что запись составляет более сорока минут.
Очень хотелось срочно ее прослушать. Но, во-первых, в баре было особо негде уединиться, даже туалет для персонала казался не очень надежным в плане звукоизоляции. Во-вторых, дождь нагнал в заведение такую толпу людей, что все официанты сбились с ног, разнося заказы.
Только после одиннадцати у Мити получилось улизнуть на несколько минут на улицу.
Спрятавшись от нудного мелкого дождя под козырек цветочной палатки, он выбрал в меню «воспроизвести запись».
– Витек, ты понимаешь, что мы делали? Мужик ругался по-немецки! Мы били арийца.
– Значит, мне не показалось, что он на немецком орал. И ничего мы его не били – пощупали чуток, и все дела.
– А второй этот мужик – вдруг он башкой ударился и помер? Я понимаю – проучить хачей. Проучить – но не мочить. Даже хачей! Мне их, в натуре, не жалко, но сидеть тоже не улыбается. А эти мужики вообще не «черные» – они при чем? Что-то я не врубаюсь, что там Егор мутит…
«Скоты, – Митя скрипнул зубами, – надеюсь, вы свое скоро получите».
* * *
– Как Даринка? Все хорошо? – поинтересовалась Лика, на ходу снимая пиджак. – Ужасно ноет грудь! Горит, покалывает, караул! Надо было сцедить хоть чуть-чуть молока. Но я находилась в таком месте – приткнуться совершенно негде.
– Стесняться не надо, – проворчала Светлана, доставая из кроватки девочку. – Не приведи господь, еще случится чего с грудью или молоко пропадет. А вообще-то я малышку кормила недавно.
Дарина зачмокала с таким аппетитом, что Лика едва удержалась от стона.
Да, она сцеживает молоко. Замораживает его в холодильнике, когда уходит больше чем на три часа, чтобы Света могла покормить дочь. И врачи вроде бы говорят, что так можно делать. Но откуда тогда у крошки такой аппетит?
Все не так! Все просто отвратительно…
Пытаясь унять разбушевавшуюся совесть, Лика осмотрела свою комнату.
С появлением Светланы она просто сияла. Дотошная домработница не ленится протирать зеркало большого шкафа-купе, надраивает каждую подвеску хрустальной люстры, складывает разбросанные книги.
Книги. Стопки книг на полу. Раньше были кучи, теперь аккуратные стопки.
«Ну конечно, все правильно, – взгляд Лики забегал с книжных полок на пол, – когда я работаю над своим романом, то просто вытаскиваю на пол все, что мне может понадобиться: справочники по криминалистике, учебники по судебной медицине, кодексы с комментариями. Потому что все это добро мне требуется миллион раз на протяжении работы. И бегать все время к полкам неудобно. Вот так и образуются стопки. Костенко, который сегодня умер, – тоже писатель. Может, поэтому у него в гостиной аналогичный завал? Точно: и стол с компьютером находится именно в той комнате. Значит, я немного ошиблась – он не интересуется фашизмом, он, скорее всего, просто писал книгу, в которой затрагивалась эта тема. И, кажется, я даже могу попытаться выяснить, в каком ключе. Все помощь Седову. Бедняга опасается, что после проверки обстоятельств смерти Костенко придется возбуждать уголовное дело – а доказывать вину в таких случаях очень сложно. К тому же с подозреваемыми у него пока негусто».
Положив насытившуюся, довольно посапывающую доченьку в кроватку, Лика застегнула блузку и подошла к компьютеру.
Просчитать, над какой именно книгой работал Костенко, не так уж и просто. Но и не слишком сложно. Ввести в поисковик его фамилию, узнать, какие книги им уже написаны. Вспомнить, что за литература находилась в гостиной. Стопроцентной точности здесь ждать не приходится, но тем не менее…
«Писатель Костенко Юрий Иванович», – набрала Вронская в окошке поискового сайта. И через секунду обрадованно воскликнула:
– Ну надо же! У нас одно издательство! Все выяснится и проще, и точнее. Костенко писал много, значит, скорее всего, с ним заключен договор на написание нескольких книг. А при такой форме сотрудничества автор должен предложить синопсисы. То есть редактор прекрасно осведомлен обо всех его творческих планах. Если бы Костенко сотрудничал с любым другим издательством – мне бы вряд ли что-то сказали, конкуренция на этом рынке жесткая. Со своими договариваться проще.
Она пододвинула к себе телефон, набрала номер издательства, попросила соединить со своим редактором.
– Я по поводу одного из авторов, Юрия Костенко. Он умер, – сообщила Лика, нервно покусывая карандаш. Неприятно приносить плохие вести, но что делать. В издательстве должны знать, что запланированный роман представлен не будет. – Так получилось, что проверку обстоятельств смерти проводит мой знакомый следователь. Хотелось бы знать, над какой темой работал Костенко. Возможно, эта информация очень важна. Да, подожду на проводе.
Через несколько минут она поблагодарила собеседницу и повесила трубку.
Костенко намеревался сдать сразу две книги – биографию Евы Браун и справочник по особенностям содержания и дрессировки скотчтерьеров.
– Снапи, – тихонько, чтобы не разбудить дочь, позвала Вронская. – Снап, иди ко мне.
Рыжий, с сонной мордой, он нехотя вышел из-за спадающей до пола шторы, ну просто принц, появляющийся из опочивальни. И, не дойдя до хозяйки, с гулким стуком рухнул на пол, уложил морду между вытянутыми лапами.
«Как я устал. Как тяжела жизнь», – читалось в укоризненном взгляде.
Лика опустилась перед собакой на корточки, потрепала Снапа по холке.
Ей было очень жаль скотчтерьера погибшего Костенко. Криминалист нашел на двери спальни свежие следы когтей. Видимо, бедный песик прыгал на дверную ручку до тех пор, пока не получилось ее открыть. Спешил на помощь хозяину. Охранял его даже мертвого…
– Вроде бы у Костенко есть родственники, – пробормотала Лика, поглаживая зажмурившегося Снапа. – Надеюсь, они заберут скотча и позаботятся о нем.
* * *
«Чмок!»
«Бусь!»
«Я тебя лю!»
Следователь Седов читал очередь эсэмэсок любовницы, и на душе становилось тепло-тепло. Инга[16] в своем репертуаре: нежная, неожиданная, шаловливая. Казалось бы, всего пара слов. Но сколько сил они придают!
«Еще недавно я бы грыз себя за то, что порчу двадцатилетней девочке жизнь. – Володя чувствовал, что расплывается в дурацкой улыбке. И что подозрительный взгляд Сатыкова уже тут как тут, колется. Надо бы прекратить улыбаться, но придать лицу серьезное выражение все равно не получается. – Я злился бы на карьериста Сатыкова. Вот ведь человек – как молитву, каждый день панегирики власти бормочет. Далеко пойдет, чую, он еще мной покомандует, хотя я и старше его больше чем на десять лет… А еще я бы ругался по поводу ремонта в нашем здании; так неудачно умершего или очень хитро убитого Костенко, да мало ли еще по какому поводу! Но Инга – как это ни странно, с учетом того, что она намного младше, – научила меня совсем другому отношению к жизни. Теперь не хочется даже вспоминать, сколько времени пронеслось мимо меня… Потом, когда подрастет сын Санька, или после того, как продвинусь по службе, потом, я все откладывал на потом… А когда судьба – я до сих пор не понимаю, почему мне, старому толстому козлу, так повезло, почему именно меня выбрала молодая, очень красивая девушка, – вдруг сдуру дала мне счастливый билет, я не радовался. А упрекал. Старый козел, морочу Инге голову, изменяю жене. Наверное, это смешно, когда юная девочка учит жизни и любви взрослого дядьку. Конечно, я никогда не смогу жить так, как Инга, – только сегодняшним днем. Сегодня у нее есть роли в кино, в институте все хорошо, она любит меня – и больше ее головке ничего не надо, там нет ни „завтра“, ни „через год“… У меня подрастает сын, а это обязанности. Но Инга меня научила позволять себе быть счастливым. Просто так. Отключать хотя бы на время сидящего во мне следователя. Радоваться тому, что есть».
Звонок телефона оторвал Седова от приятных размышлений. Снимая трубку, следователь не сомневался: звонит сын покойного, психолог Игорь Костенко. Связаться с ним долгое время не получалось, и вот, видимо, ему передали информацию о трагедии и о том, что необходимо перезвонить в следственный отдел.
Однако на другом конце провода был оперативник.
Володя слушал о том, что предположительно скрывшийся из квартиры Костенко человек находится в гостинице «Багдад»; является гражданином Германии; забронировал номер на имя Ганса Вассермана, а потом, при заселении, предъявил и паспорт. Слушал – и испытывал огромное желание материться. Если бы не Сатыков – выдал бы уже трехэтажную конструкцию. Но хмыревидный сосед каждый почти невинный матюг сопровождает нудной лекцией о вежливости процессуального лица. И проще наступить на горло собственной нецензурной песне, чем выслушивать его нравоучения.
– Что с ним делать? – в завершение доклада поинтересовался оперативник.
Седов задумался.
Гражданин Германии – значит, русским языком, скорее всего, не владеет в той степени, чтобы отказаться от услуг переводчика. Придется обеспечить и переводчика, и адвоката. И беседовать – а время уже даже сейчас давно не рабочее. К тому же план допроса тоже четко составить нельзя – результаты экспертиз еще не готовы, даже по телефону у экспертов выяснить ничего не получится, рано.
Но…
Но, но, но.
С места происшествия человек – этот самый Ганс Вассерман – скрылся.
А если причастен? Вдруг у него есть сообщники? А ну как удерет?
– Вези, – со вздохом распорядился Седов, – в жизни всегда есть место подвигу.
– Чик-чик-чик, – возмутилась Амнистия из своей клетки, стоящей на подоконнике. – Амнистия – хорошая девочка.
– Слушай, чего она орет? – Сатыков оторвался от монитора. – Днем звонко чирикает, по вечерам шипит, как змеюка?
Седов повернулся к тумбочке, исследовал запасы кофе в синей жестяной банке. Выходило, что сегодняшней ночью еще можно все: пить горький напиток, не спать, чувствовать прилив бодрости…
– Баиньки Амнистия хочет. При свете ей сложно. Вот и шипит.
– Так, может, – сосед по кабинету оживился, – ты ее домой заберешь? Мы же работаем допоздна, а птичке покой нужен!
– А может, ты портрет свой домой заберешь? – Володя притворно нахмурился. Сурово и решительно, почти как ВВП. – Повесил тут на всю стену – что ж ты, милая, смотришь искоса. У меня все мысли в голове от этого взора парализуются.
12
А. Гитлер. Майн кампф.
13
Мы победим; победа будет за нами (нем.)
14
Так венцы называют собор Святого Стефана.
15
Август Кубичек, друг юности Адольфа Гитлера, по утверждению некоторых биографов и современников – интимный партнер фюрера.
16
Об истории знакомства следователя Седова с Ингой см. роман О. Тарасевич «Крест Евфросинии Полоцкой».