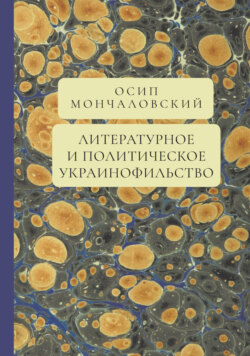Читать книгу Литературное и политическое украинофильство - Осип Андреевич Мончаловский - Страница 6
Осип Мончаловский
Литературное и политическое украинофильство
III
ОглавлениеГовори до него, коли онъ маковей.
Галицко-русская поговорка
Прежде всего разберем письмо г. Маковея о столько, о сколько оно касается национально-исторической партии в Галичине, которой членов г. Маковей называет иронически «великороссами», а также «ренегатами». Национально- историческая партия в Галичине никогда не называла себя «великороссами», так как это была бы такая же безсмыслица, как то, что галицкие и буковинские украинофилы называют себя «русинами-украинцами», или даже «австрийскими украинцами», а малорусское наречие» русько- (и руско-) украинским языкомъ». Нас, сторонников единства русского народа и его развития на национально-исторической почве, даже наши противники называют «старороссами», «москвофилами» и «москалефилами», мы сами называем себя русскими галичанами или галицкими русинами3, партию же нашу называем русско-народною, хотя для нас не обидны и названия «москвофилы», «москали» и даже «кацапы», так как они выражают наше культурно-национальное стремление. Для нас, конечно, не обидно и название «великороссы», которым нас г. Маковей почитал в «С.-Петербугских Ведомостях», но так как мы никогда не корчили из себя «галицких великороссов», то г. Маковей, вежливо сказавши, ошибся. А «ошибся» он сознательно, имея на цели представить нас «самозванцами» и осмешить нас перед русским обществом, которое ведь знает или по крайней мере должно знать, что в Галичине великороссов нет, и что за пределами России живет всего несколько тысяч великороссов в одной Буковине, имеено «старообрядцы». Это впрочем одна из самых невинных «ошибок» г. Маковея.
Г. Маковей говорит, что в нынешнем году «австрийские малороссы празднуют столетний юбилей появления «Энеиды» Котляревского, первой книжки на чистом малорусском языке» и утверждает, что «этот год малороссы считают началом своего национального возрождения, «Что в нынешнем году действительно припадает столетний юбилей появления «Энеиды» и что австрийские малороссы будут праздновать его, это верно. Но от чьего имени говорит г. Маковей, что «этот год малороссы считают началом своего национального возрождения»? Г. Маковей позабыл, кажется, добавить, которые малороссы, российские ли или австрийские, так как мы, австрийские малороссы, считаем 1848 год годом нашего национального возрождения и этот юбилей мы отпраздновали величаво в днях от 3 (15) до 7 (19) мая с. г. в каждом городе, в каждом местечке и в каждом селе Галичины. Мы, австрийские и буковинские малороссы, можем и будем праздновать годовщину появления «Энеиды» Котляревского, но мы не вправе считать 1798 год началом нашего национального возрождения, так как у нас до конца 50-х годов никто не знал о существовании «Энеиды», значит, на наше национальное возрождение она не произвела никакого влияния. В таком же положении находится и г. Маковей со всеми своими галицкими и буковинскими единомышленниками. Могут ли, однако, малороссы вообще считать год появления «Энеиды» Котляревского началом своего национального возрождения? Где были малороссы, разумеется, партии г. Маковея, до Котляревского и где их след в истории культурного развития русского народа, если год 1798 они считают началом своего национального возрождения? Возродиться может лишь то, что раньше существовало и по каким-либо причинамъ в течение известного времени не оказывало признаков жизни. Но существовали ли малороссы, да еще в роде нынешних украинофилов, до Котляревского? Правда, нынешние украинофилы, чтоб вывести свое историческое происхождение, причисляют с ужаснейшими натяжками и «Слово о полку Игореве» и «Слово Даниила Заточника» и другие того рода исторические памятники к малорусским произведениям. Но теже исторические памятники русского творчества принадлежат и великороссам и потому не могут служить доказательствами для украинофильской исключительности. В виду всего того, «Энеида» Котляревского не может составлять начала малорусского национального возрождения, так как отдельной малорусской национальности раньше совсем не было. Гг. Маковеи могут считать появление «Энеиды» только началом существования украинофильства, и то не благодаря Котляревскому, который наверно и не помышлял стать родоначальником отдельной малорусской литературы, так как он писал и по-великорусски, а благодаря национальных сепаратистов, появившихся после польских восстаний, которые, за недостатком чего-либо лучшего шуточное стихотворение Котляревского положили в основу новой «русько-украинской» литературы. Неужели гг. Маковеи серьёзно думают, что в 19 веке из старого культурного народа, каким есть ныне русский народ, может отделиться одна его, положим, южная часть и, основываясь на травестии латинской «Энеиды», создать отдельный народъ и отдельную литературу? Мы еще вернемся к этому вопросу, тут лишь мы считали необходимым указать на исходную точку г. Маковея, смотря с которой он доходит до чистейших абсурдов в роде того, что сторонников национального и литературного единства русского народа, для которых «Энеида» Котляревского только милое шуточное стихотворение, а не эпохальное событие называет – «ренегатами».
Если г. Маковей, ставя в основание «национального возрождения» малороссов «Энеиду» Котляревского, или не знает истории русской литературы и развития русского языка или не понимает её, а по нашему мнению, в своем украинофильском фанатизме не хочет её знать и понимать, то в последующих строках он прямо извращает факты, чтобъ обосновать свои нападки на русско народную партию. И так он пишет, что «в 1837 году Маркиан Шашкевич поставил вопрос малорусскаго языка в Галичине так же ясно, как Котляревский в России в 1798 году». Уже одного сравнения М. Шашкевича с Котляревским было бы достаточно для того, чтобы доказать, что М. Шашкевич совсем не ясно поставил вопрос малорусского языка в Галичине, ибо Котляревский его в России вовсе не ставил. Если бы г. Маковей больше добросовестно относился к деятельности M. Шашкевича и его сподвижников, Я.Ф. Головацкого и И. Вагилевича, написавших и издавших в 1837 году малорусскую «Русалку Днѣстрову», то он не мог бы сделать М. Шашкевича родоначальником украинофильства. Украинофилы вообще, а галицкие в особенности, любят ссылаться на неживущих уже выдающихся деятелей и делать их своими единомышленниками, благо «мертвые срама не имут» и протестовать не станут. В России они сделали своим родоначальником И.П. Котляревского, а в Галичине Маркиана С. Шашкевича. Что касается галицких сепаратистов, то они считают М. Шашкевича родоначальником своей литературной «самостоятельности» на том основании, что «Русалка Днѣстрова» составлена на галицко-русском наречии и напечатана наполовину фонетикою, именно с опущением (и то не во всех статьях и словах) буквы «ъ», хотя другие буквы, ныне украинофилами выброшенные, «ѣ» и «ы» в «Pyсалке» задержаны. Между тем разве одному г. Маковею неизвестно, что в 1837 году в Галичине вся местная русская интеллигенция, состоявшая почти исключительно из священников, говорила и писала по-польски и за малыми исключениями о русском языке и письме меньше имела понятие, чем псаломщики, обучавшие тут и там детей грамоте на «Часословах» и «Псалтирях». Сочинители и издатели «Русалки Днѣстровой», составляя ее на галицко-русском наречии, решительно не имели намерения выразить этим самостоятельность малорусского языка и народа, а что касается опущения буквы «ъ» в «Русалке», то оно произошло по причине незнания правильного правописания и под влиянием чеха Добровского, который выбросил «ъ» из славянской азбуки и серба Вука Караджича, употребившего в издании сербских песен фонетическое правонисание. По свидетельству Якова Головацкого, товарища и сподвижника Маркиана Шашкевича и главного автора «Русалки», М. Шашкевич после выхода «Русалки» сожалел о своем увлечении и в появившихся позже своих сочинениях всегда употреблял этимологическое правописание. Замечательно также и то обстоятельство, что галицкие украинофилы только в 1893 году додумались произвести M.C. Шашкевича в родоначальники галицкого украинофильства. До того времени их авторитетом был Т.Гр. Шевченко, которого поэтические произведения составляли альфу и омегу их литературных, культурных, политических и социальных знаний и стремлений. Но с поры провозглашения в львовском сойме г. Романчуком пресловутой «программы» в 1890 году, в которой католицизм был объявлен основой «русько-украинской» народности, Т.Гр. Шевченко, как православный, должен был уступить, особенно, что язык произведений Шевченка слишком пахнет «московщиной» для нынешних украинофилов. Котляревский и Квитка-Основьяненко тоже не могли занять места корифеев галицкого украинофильства, так как и они были православными. Оставалось выбрать кого-либо из галицких униатов в сепаратистские авторитеты и выбор пал на М.Шашкевича. Сепаратисты не имеют, однако, ни малейшего права анектовать для своих целей М. Шашкевича. «Русалка Днѣстрова» была созданием не одного М. Шашкевича, но также Я. Головацкого и И. Вагилевича.
Впрочем, если бы М. Шашкевич один составил «Русалку», то сепаратисты не в праве злоупотреблять его имя для своих целей, так как в рассуждении: Azbuka i abecadło, odpowiedź na zdanie o wprowadzeniu abecadła polskiego do piśmiennictwa ruskiego, написанном M. Шашкевичем в 1836 году против попытки ввести латинскую азбуку в русское письмо и в составленном ним учебнике «Читанка для малыхъ дѣтей до школьного и домашного употребленiя», изданном в 1850 году, нет и следа украинофильского сепаратизма4. По этому галицие сепаратисты напрасно облекаютъ М. Шашкевича въ свой халатъ и незаслуженно оскверняютъ память человЪка, котораго высоко чтитъ галицкая Русь.
По словам г. Маковея, уже в 1848 году, когда в Австрии установлена была конституция и уничтожено крепостное право, галицкие малороссы выступили на арену политической деятельности, как «самостоятельный малорусский народ.» Не могли же они называть себя великороссами, как и ныне никто из русских галичан не станет утверждать, что он великоросс, но эту самостоятельность деятели 1848 года, подобно тому, как и мы ныне, понимали не в смысле национальной отдельности. До 1848 года русско- народное движение в Галичине было исключительно последствием пробуждавшегося сознания у немногих просвещенных галичан об их принадлежности к русской народности без розличия на ветви, малорусскую, белорусскую и великорусскую, составляющие русскую народность. Указания о принадлежности русских галичан к русскому народу вообще наши предки находили в среде простонародия, где под соломенными крышами прятался русский дух и приютилось живое народное предание, находила в истории, а также в церковных книгах, где часто упоминается, особенно в службах св. Владимиру, св. Ольге, свв. Борису и Глебу, о «русскомъ роде». Год 1848 застал у нас «мерзость запустения». Отделенная в продолжение целых столетий от общей жизни с остальною Русью, Червонная Русь влачила жалкое существование в качестве производительницы рабочей силы для панов-помещиков и предмета прозелитских опытов и покушений со стороны польских патриотов и римских иезуитов. Русское дворянство, сманенное «Польши шумными пирами», уже давно и всецело находилось на польской стороне, увеличив таким образом не только число польских пановъ, но и вскрепив материальные силы Польши русским добром и русскою землею. Ныне говорят, что Червонную Русь составляют одни «хлопы и попы», а в 1848 году и этого нельзя было сказать. Русское духовенство было почти поголовно ополячено. Редко в доме русского священника был разговорный галицко-русский язык. Проповеди в церквах, если вообще говорились, то по-польски. Тут и там вспыхивало иногда пламя русского национального самосознания и патриотизма; в 1816 г.
возникло в Перемышле за старанием каноника перемышльского капитула, Ивана Могильницкого, «Общество священников», которое поставило ceбе целью – распространять просвещение среди народа, но для осуществления этой цели не было средств, так как кроме «Букваря,» изданного в 1807 году Ставропигийским Институтом, в Червонной Руси не было никаких других учебников; в 1829 году учредил епископ Иоанн Снегурский в Перемышле типографию и всячески поощрял молодых людей к национальному труду; там же, в Перемышле, каноник Иван Лавровский основал капитульную библиотеку; из древнего Перемышля искра русского самосознания перескочила в младший Львов и тут зажгла в первой половине 30-ти годов в сердцах молодых семинаристов яркий пламень патриотизма. Маркиян Шашкевич, Яков Головацкий и Иван Вагилевич образовали кружок, который начал усердно действовать в пользу национального движения; результатом его деятельности явилась изданная в Будапеште в 1837 году первая галицко-русская книжка, напечатанная гражданскими письменами, вышеупомянутая «Русалка Днѣстровая». Но это движение показалось опасным австрийскому правительству и оно, подавленное в самом зародыше, «отцвело, не успевши разцвесть». Нужно знать, что тогдашнее австрийское правительство косо смотрело на русское население Галичины. В 1816 году львовская губерния представила «придворной канцелярии» в Вене, что «политические соображения не велят вместо польского языка распространять русский, так как последний составляет только разновидность российского.» Еще в конце 50-ти годов правительство предложило русской консистории во Львове составить образцы такой русской скорописи, которая бы отличалась от скорописи, употребляемой в России. Печатное гражданское письмо было в Галичине строго запрещено, а русские слова, которых цензор по незнанию русской речи не понимал, считались «московскими» и безпардонно вычеркивались. Официальными языками считались языки латинский и немецкий; народных школ почти не было, а средние и высшие учебные заведения не были рассадниками просвещения в таком значении, как это мы ныне понимаем, но воспитывали только благонадежных для правительства чиновников. С заграничною Русью наша Русь не имела почти никакого общения. Из русских ученых знали о существовани Червонной Руси только М.П. Погодин, Шевырев и Киреевский, «открывшие» ее случайно, возвращаясь с заграницы, в 1835 году, по русским надписям на башне василианского монастыря во Львове. С одной стороны не было кому писать, с другой те, которые могли писать о нас в заграничные издания, боялись, так как существовал закон, налагавший пеню в суме 25 дукатов на того, кто печатал заграницею сочинения, не перешедшия через горнило местной цензуры. Только коротко перед 1848 г. русские галичане, Денис Зубрицкий, Яков Головацкий и Иван Вагилевич, начали переписываться с славянскими и русскими деятелями в Пpaге, Варшаве, Киеве и Москве и печатать заграницею свои статьи. Умственное и национальное состояние Червонной Руси до 1848 года представляетъ всего лучше число появившихся в ней галицко-русскими авторами написанных сочинений.
В 1847 году появилось всего 30 сочинений, написанных русскими галичанами; из этого числа 22 сочинения написаны на русском языке, 4 на польском, и 4 на латинском. Об уровне тогдашнего образования галицко-русского общества и о его потребностях свидетельствует то, что на число 22 русских «сочинений» сложились: «Руско-словеньскій букварь», «Возвещение» (т.е. проспект) об издании книжки «Размышления благоговейные», «Науки парохиальные на недели всего лета», «Гласнопеснец малый» (должно быть «Гласопеснец»), «Каталог книг руско-славенских Ставропигийского Института», «Библийная история ветхого завета», три «Слезы», один «Плач», одна «Надгробная поэма» и один «Стих печальный» по поводу смерти епископа Иоанна Снегурского; дальше «Лестница к блаженному животу», «Наука о управе тютюну для Галицианов», «Радостная песнь Русина Галичанина» по поводу именин митрополита Михаила, «Благоговейные размышения, русским чадам к чтению определенные сочинительницею памятки по доброй матери, из подлинника англического на язык польский, из тогоже на язык руско-словенский переведенная», пастырское послание епископа И. Снегурского, «Чин утрени и вечерни» и, наконец, стихотворение «Ѵмнъ Благодѣтельнымъ».
Самые ценные сочинения, появившиеся в 1847 году, были бы «Букварь» и «Библийная история», если не считать книжки «Вѣнокъ Русинамъ на обжинки», изданной в Вене Иваном.Ф.Головацким на средства сербского патриарха Иосифа Раячича. Но не все эти «сочинения» появились в Галичине. Два из них напечатаны в Вене, именно «Венок» и «Наука о управе тютюну», одно в Будапеште, одно в Черновцах. Из польских и латинских изданий 1847 года три – архипастырские послания митрополита Левицкого, два – «Шематизма» клира епархий перемышльской и львовской, одно – стихотворение по поводу смерти епископа И. Снегурского и Wykład teologii pastoralnej. Только два сочинения, а собственно говоря две статьи, написанные Д. Зубрицким в 1847 г., имеют научное и литературное значение, именно: «Начало унии» и «Приглашение к суду по уголовному делу около половины XVII в. во Владимирской Руси», но они появились в Москве, в «Чтениях Московского Общества Истории и Древностей Российских». Судя по перечисленным «сочинениям», в умственной, национальной и политической жизни существовал у нас полнейший застой. Но и эти немногие издания представляют непреложное доказательство, что их авторы склонялись в сторону литературного единства.
Как видим, русское население Галичины до 1848 года состояло из крестьян, коснеющих в мраке невежества и стонущих под игом крепостничества и из духовенства, в общем мало образованного и зависимого от польских патронов; конечно, и среди тогдашнего русского духовенства были люди образованные, но это образование было латинское, немецкое и польское, а не русское. Университеты и духовные семинарии во Львове, Перемышле и Bене могли дать духовенству общее и богословское образование, но по-русски оно знало лишь столько, сколько могло научиться по церковным книгам. Многие, особенно «луцаки», т.е. получившие богословскую подготовку и рукоположение в Луцке, нынешней Волынской губернии, не умели даже читать по-русски и пользовались при богослужении церковными книгами лишь таким способом, что велели себе русский текст надписывать латинскими буквами. Эпоха общерусской литературы от Ломоносова до Карамзина, сочинения Ломоносова, Сумарокова, Фонвизина, Державина, Хераскова, Богдановича, общерусская литература начала XIX ст., начиная с Карамзина и кончая писателями Пушкинской эпохи, не имели ни малейшего доступа и влияния на Червонную Русь. Известный славист, Фр. Миклошич, писал в 1850 году М.П. Погодину: «Пражане (die Prager) так счастливы, что могут кое-что из России получит, между тем как мы, в Вене, скорее получим появившуюся в Кантоне книжку, чем русскую. Все мои старания получить самонужнейшее из русской литературы были безуспешны.» Это вполне, если не в большей еще степени, относилось и к Галичине. Тем и объясняется, что ода Г.Р. Державина «Богъ», изданная во Львове в 1830 году Д. Зубрицким с польским и немецким переводами, была единственным произведением русской литературы, которое проскользнуло в Червонную Русь, да и то благодаря газете Dziennik Wileński, где в 1822 г. был напечатан польский перевод этой оды. Одним словом, в литературном и умственном отношении Червонная Русь находилась до 1848 года в таком положении, в каком находилась Великая Русь до Ломоносова, с тою, однако, разницею что Великая Русь не страдала от иностранных влияний. Червонная же Русь в лице своей интеллигенции таяла под влиянием польским и немецким. Лучше всего представят это цифры публикаций. С 1800 до 1848 года появилось в Галичине всего 159 русских публикаций, написанных или изданных галицко-русскими уроженцами. В числе тех 159 публикаций 47 припадает на церковные книги, молитвословы и проповеди, 15 на «буквари», а остальные состоят из панегириков, каталогов книг Ставропигийского Института, австрийских гимнов и т.д. Очень небольшое число публикаций имело образовательное или литературное значение. К таким принадлежат: «Грамматика языка руского в Галиции» (1834 г,), составленная одним из самых просвещенных, сознательных и образованных в то время галичан, свящ. Iосифом Левицким по немецко-российской грамматике Таппе и «Мотыль на малорускомъ языцѣ» Рудольфа Моха (1841), брошюрка, содержащая 11 стихотворений, и некоторые переводы сочинений Шиллера, сделанные названным I. Левицким.
Откуда, однако, взялись, так сказать, через ночь, в 1848 году, русские деятели сразу, как по мановению волшебного жезла, оживившие и побудившие тогдашнее русское жительство Галичины к национальной и политической жизни и вызвавшие кипучую и успешную деятельность в области литературы и народной организации? Откуда у галицко-русских деятелей 1848 года взялось вдруг такое сильное национальное сознание, что они могли выступить в защите отдельности галицко-русского народа от польского и предъявить правительству свои национальные требования? Крепостью, которая сохранила национальные идеалы и особенности русского населения Галичины в течение долгих веков польского политического ига, силой, которая, как могучий рычаг, выдвинула в 1848 году Червонную Русь на поприще национальной и политической деятельности и сделала из неё отдельный национальный организм, была – русская церковь. Как известно, национальная идея и национальные вопросы появились только после того, как Наполеон I перевернул вверх ногами почти всю Европу и разрушил средневековый её строй. До того времени господствовал религиозный принцип. Польша, управляемая иезуитами и пропитанная иезуитским духом, не знала силы национальной идеи и все свое внимание обращала преимущественно на распространение римского католичества среди русского населения своих областей. Хмельницкий ободрял ряды козаков перед битвою словами: «за веру и свободу!» – о народности же и не упоминал. Ставропигийское братство во Львове тоже было основано для защиты веры.
Введение церковной унии в Червонной Руси в XVII и XVIII веках усыпило отчасти бдительность Польши. Она довольствовалась переходом червонно-русского дворянства в латинство, а имея над униатскою церковью таких надежных стражей, как иезуиты, рассчитывала, что с временем и крестьянское «быдло» будет заманено в их сети и с переходом в латинство ополячится. Впрочем, шляхетская Польша мало занималась своим польским крестьянством, а тем менее русским. Между тем именно в русской церкви, хотя и униатской и среди её верных, под соломенными крышами, тлела искра национальной мысли; церковь отделяла русский народ не только от костела, но и от польской национальности, церковь сохраняла русский язык и русское письмо и оберегала национальные предания.
В церковных службах св. Владимиру, св. Ольге, свв, Борису и Глебу и другим наши национальным святым и священники и народ читали и слышали о «русском роде», а это с живыми преданиями и рассказами, ходившими в народе о Киеве о Почаеве и других русских городах и местах благочестивого паломничества, о казацких войнах с Польшею и т. п. создавало в умах галичан образ Руси и утверждало их о племенной к ней принадлежности. Это смутное, стихийное понимание ждало только толчка, чтобы выразиться сознательно. Толчек дали немногие образованные и сознательно русские галичане тогдашнего времени. Мы видели, что тогдашняя галицко-русская литература не давала образовательных средств в направлении знания русской истории. Тут опять явилась косвенно спасительницею и учительницею русская церковь. Галичане – священники, изучая историю церквей, силою вещей были принуждены изучать и историю русской церкви, а так как она тесно связана с политическими и национальными судьбами русского народа, то вместе с церковною историею они познакомлялись и с историею Руси. К познакомлению с судьбами галицко-русского народа приводило также изучение истории таких церковных учреждений, как Ставропигийское братство во Львове, монастыри чина св. Василия Великого и церковная иерархия. Так уже в 1830 году Д. Зубрицкий издал брошюру: Die griechisch-katholische Stauropigialkirche in Lemberg und das mit ihr vereinigte Institut; в 1836 году он напечатал сочинение п. з. Historyczne badania o drukarniach rusko-slowianskich w Galicyi, в году 1837 Rys do historyi narodu ruskiego w Galicyi i hierarchii cerkiewnej w temze krolestwie (съ 988 до 1340), а в 1844 году монументальное сочинение Кronіka miasta Lwowa. В университетских библиотеках Львова и Вены находились некоторые русские сочинения по истории и литературе. Из воспоминаний Я.Ф. Головацкого (Литературный Сборник г. 1885) известно, что он в 1831 году переписал целый «Сборник малороссийских песен» Максимовича (изд. 1827) и познакомился с произведениями Пушкина и «Историею России» Кайданова в польском переводе, так как нельзя было получить подлинников. В львовской-же университетской библиотеке находилась «История Руси» Бантыш-Каменского, которую особенно изучала известная «русская троица»: М. Шашкевич, И. Вагилевич и Я. Головацкий. После посещения Львова Погодиным, упомянутая троица получала лучшие книги из России, а именно от Погодина, Киреевского и О. Бодянского. То же самое случилось и в Вене. Из автобиографии свящ. Антония Добрянского, автора «Истории епископов», знаем, что он в венской университетской библиотеке случайно наткнулся на историю Бантыш-Каменского и таким образом изучил историю Руси. Конечно, сознательно русских галичан можно было перед 1848 годом посчитать на пальцах, тем не менее уже тогда они мужественно защищали даже русскую азбуку. Когда в 1834 году Иосиф Лозинский, впоследствии один из лучших русских деятелей, по наущению польского писателя Вацлава Залеского в журнал Rozmaitości напечатал статью: О wprowadzeniu abecadta polskiego do pismiennictwa ruskiego и в следующем году издал книжку Ruskoje wesile, против его проекта резко выступили Иосиф Левицкий и Маркиан Шашкевич. И не с одним недостатком образовательных средств боролись наши доблестные предки. Чтение славянских книг и славянская литературная работа считались тогда в глазах правительства преступлением. Известно, что предвестница народного возрождения, «Русалка Днестровая» была запрещена, а её сочинители подвержены гонению. Директор львовской полиции, Пайман, сказал прямо по поводу издания «Русалки»: Wir haben mit den Polen vollauf zu schaffen und diese Tollköpfe wollen noch die todtbegrabene ruthenische Nationalität aufwecken! Это нерасположение правительства подсыщали еще польские революционеры, клеветавшие на русских сколько душе было угодно. Так, по запискам Я.Ф. Головацкого, в 1841 году, когда львовские тюрьмы были переполнены поляками, практикант уголовного суда чех Марек сказал литератору В. Зану: «Не помни Бог полякам то, что они наклеветали на бедных русинов». Можно принять за общее правило, что за исключением перемышльского епископа Иоанна Снегурского, остальные галико-русские владыки до 1848 года смотрели на начинающееся русское движение глазами правительства и полиции. Так митрополит Михаил Левицкий возбудил processum canonicum против авторов «Русалки», а епископ Григорий Яхимович говорил проповеди у иезуитов, относился безучастно к патриотическим начинаниям молодых людей, а просивших у него совета по литературным делам отсылал к адвокату н говорил, что он не может помочь, так как все зависит от правительства и полиции. Национальное и политическое положение Червонной Руси с замечательным на тогдашнее время мужеством представил в 1846 году Яков Ф. Головацкий в первой в Червонной Руси политической брошюре: Zustände der Russinen in Galizien, вышедшей в Липске как отпечатка из журнала Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft. Эта брошюра произвела такое впечатление на немцев и поляков, что они ее нарочно покупали, чтоб уничтожить, вследствие чего тогдашние русские семинаристы по ночам списывали с уцелевших экземпляров сотни копий и рассылали списки на провинцию.
Вот в каком положении находилась Галицкая Русь в 1848 году, когда национальное движение, охватившее почти половину Европы, дало и ей толчек к жизни. Не следует, однако, забывать и того, что австрийское правительство, прижатое к стене мартовскою революциею в Bене, итальянскою войною, мадьярским восстанием и польскою «рухавкою» во Львове, искало и нашло опору на юге у хорватов, на севере у русских галичан. Желая иметь в русском населении Галичины противовес польским стремлениям, австрийское правительство начало усердно поддерживать русское национальное движение. Помня, однако доклад львовской губернии с 1816 года, оно старалось препятствовать тому, чтоб народное сознание русских галичан выходило за пределы Галичины. Австрийское правительство прекрасно знало, к какому народу принадлежит галицко-русское население, так как в государственных актах времен Марии Тересии, Iосифа II и его преемников называется оно по-немецки: russisch, подобно тому, как Червонная Русь называется Rothrussland. Этого не мог не знать и тогдашний губернатор Гали-чины, гр. Франц Стадион, но государственный интерес подсказал ему мысль, воспользоваться плачевным положением русского населения и неясностью национального самосознания его передовых людей, в деле определения принадлежности русского населения Галичины. К плану гр. Стадиона как нельзя лучше подходили беспрестанные обвинения галицко-русских деятелей со стороны поляков в том, что русско-народное движение вызвано по наущению «москалей». Тем и воспользовался гр. Стадион и, пригласив к себе тогдашних представителей русского населения Галичины, поставил им вопрос: «Кто вы такие? Если бы вы считали себя россиянами, то я не мог бы вас поддерживать». Представители, поняв тайный смысл вопроса, ответили: Wir sind Ruthenen! Если примем во внимание тогдашнее положение русского дела в Галичине, если знаем, что от ответа представителей зависело благоволение или неприязнь правительства и, наконец, что в то время национальные понятия даже у больше образованных народов, чем Галицкая Русь, были неясны, то нельзя удивляться ответу представителей русского населения Галичины. Весьма вероятно также и то, что представители русских галичан, понявши заднюю мысль в вопросе Стадиона, дали ему дипломатический, но во всяком случае утилитарный ответ. Тем не меньше все объявления и отзывы «Головной Русской Рады», первого политического общества в Галицкой Руси, издавались « Отъ Головной Рады рускаго народа Галицкаго». В этом титуле скоpеe можно увидеть объединительное стремление галицко-русских деятелей 1848 года, чем сепаратистское, как это мерещится г. Маковею. Впрочем они могли говорить о самостоятельности русского населения Галичины, но в виду польского народа, особенно, что польские политики, испугавшись русского движения, стали отрицать существование малорусского народа, которого язык, по их мнению, был только разновидностью польского языка, и утверждали: Niema Rusi, jest tylko Polska i Moskwa, т. е. Россия. Наконец ныне еще живут передовые русские деятели 1848 года, А. С. Петрушевич, В. А. Дедицкий, И.Гушалевич и другие, а они всею своею жизнью и всею своею деятельностью свидетельствуют, что в 1848 году никто и не помышлял о такой самостоятельности малорусского народа, какую исповедуют нынешние украинофилы. Но разве самостоятельность малорусского народа исключает и может исключать его принадлежность к белорусской и великорусской ветвям русского народа?
Г. Маковею, как видно, далеко до понимания того, что галицко-русские деятели, став на историческую почву развития русского языка, должны были стремиться к сближению галицко-русского книжного языка с общерусскими и что это сближение раньше или позже должно было последовать и для того виновников этого естественного явления он видит в «славянофилах», которые будто бы «подыскивали общеславянский язык», которым, по их мнению, должен был бы быть русский и что вследствие этого «часть немногочисленной русской интеллигенции, еще не пришедшая к ясному национальному самосознанию, слишком ленивая для того, чтобы позаботиться о самостоятельном национальном существовании, – да притом поддавшись разным внешним влияниям, ухватилась за идею готового русского языка, как за спасательный якорь. Привыкши к рабству, враги всякого прогресса и живой мысли, эти представители галицкой интеллигенции не пожелали быть хозяевами в собственном доме, предпочитая стать лакеями другого народа»5.
Мы уже выше доказали, что постороннего влияния, да к тому еще со стороны русских славянофилов, в 1848 году не было. Но еще раньше, именно в 1816 году, когда не было не только славянофильского влияния, но и самих славянофилов, в немногих тогдашних церковно-приходских школах в Галичине был в употреблении «Букварь славeно-русскаго языка», напечатанный по повелению львовского архиепископа, Михаила Левицкого, в Будапеште. Такой же «Букварь» был напечатан в 1817 году во Львове. Не доказует ли уже одно заглавие тех «букварей», что в Галичине и перед 1848 годом существовала, хотя и слабо, идея единства литературного языка и не ясно ли, что после 1848 года, по мере развития национального самосознания и по мере приобретения русскими галичанами исторических и филологических знаний эта идея должна была окрепнуть и определенно выразиться?
На обвинение галицко-русской интеллигенции в лености позволим ceбе спросить г. Маковея: кто организовал в 1848 году «Русские Рады» во всех городах восточной Галичины и положил основание политической организации Галицкой Руси?
Кто составлял учебники, писал сочинения по всем отраслям знаний? Кто учреждал церковно-приходские школы, перешедшие потом готовыми под управление польского школьного совета? Кто трудился в области народного просвещения? Кто основал народные институции «Народный Дом», «Галицко- русскую Матицу» и др.? Кто с самого 1848 года издавал газеты? Кто отстоял русскую азбуку во время покушения на нее гр. Голуховского? Кто мужественно защищал церковь и её верных от латинщенья? Кто в законодательных собраниях и перед правительством выступал в защите прав русского населения Галичины и кто его защищал перед поляченьем? Если г. Маковей ныне насчитал в Галичине и Буковине только 5000 человек малорусской интелигенции, то сколько могло её быть 20–30 лет тому назад, не говоря уже в 1848 году? Всего несколько десятков человек, которые из сил выбивались, трудясь над собственным образованием и над просвещением народа. И можно ли ту интеллигенцию упрекать в лености? А украинофилов в роде г. Маковея в Галичине не было даже до 1863 года. Наши деятели не вследствие лености «ухватились за идею готового русского языка», только вследствие убеждения, приобретенного научным трудом, что это язык, выработанный культурою и историею для всего русского народа. Они были слишком умны, слишком образованны и слишком горячо любили Русь, чтобы вместо принять существующий уже и к тому родной образованный язык, делать бесплодные попытки к образованию отдельного языка. Конечно, г. Маковею, считающему русский литературный язык чужим, это не нравится, но ведь тогда еще г. Маковея не было на свете и нашим труженикам пришлось обойтись без его «прогрессивного» совета. Причины, почему галицко-русские деятели, как говорит г. Маковей, «не пожелали быть хозяевами в собственном доме, предпочитая стать лакеями другого народа», поясняет один из участников и сотрудников возрождения Галицкой Руси, Н. Устианович, следующим образом6: «Не имея ни случайности, ни средств изучить язык общелитературный русский, я был сторонником дуализма и защищал наречие галицкое, надеясь, что оно сольется с говором украинским и очистится вместе с тем от пестроты, нанесенной соседним польским языком. Но познакомившись с временем с великорусскою литературою и изучивши основнеe галицкое наречие, я убедился, что грамотный язык великороссов есть создание сугубое, построенное, однако, на южнорусских основаниях, что к тому письменность великоросса, а его произношение не есть одно и тоже, ибо он пишет по-нашему, а произносит на свой лад, как это делают немцы, итальянцы, французы, у которых еще большее различие в наречиях и что, наконец, по мере развития галицкого простонародного говора по строгим правилам языкословия последует безусловно то, что предвозвестил А.С. Петрушевич на «соборе интеллигенции галицко-русской» 1848 года: «Пускай россияне начали от головы, а мы начнем от ног, то мы раньше или позже встретим друг друга и сойдемся в сердце». В другом месте того-же «Сборника» Н. Устианович говорит: «В редакции «Вестника»7 при помощи Ивана Головацкого, Б. Дедицкого и М. Коссака я пытался по возможности очищать галицко-русское наречие от полонизмов и сближать его к литературному языку, как это было решено на «собор» 1848 года.»
Если бы, какъ утверждает г. Маковей, в 1848 году «галицкие малороссы выступили на арену политической деятельности, как самостоятельный русский народ», то на упомянутом «соборе», на котором присутствовала вся тогдашняя галицко-русская интеллигенция, был бы наверно вопрос о самостоятельности поставлен и решен, между тем мы видим из записок участников «собора», что «собор» решил галицко-русское наречие очищать от полонизмов и сближать к литературному языку, значит, «собор» признал литературное и национальное единство русского народа. А нам кажется, сам г. Маковей согласится, что больше компетентного органа, чем «собор», для решения национального и языкового вопроса тогда в Галичине не было. Удивительно ли после того, что по мере исследования галицко-русского наречия и изучения литературного русского языка, галицко-русские деятели чем раз больше убеждались в национальном единстве и что, наконец, в 1866 году объявили это единство всенародно? Это другое дело, что наша интеллигенция и до сих пор не знает русского языка, но где ей изучить его, если в школах раньше учили по-немецки, ныне же учат по-польски и на искуственном «русько-украинском» языке, которого, какъ мы после докажем, народ не понимает. Тем не менее галицко-русская интеллигентенция понимает русский литературный язык и гораздо больше читает, произнося по-галицки, русские сочинения, чем украинофильские. Не смотря, однако, на столь неблагоприятные условия, у нас уже многие галичане говорятъ и пишутъ на литературном русском языке не хуже тех жителей юга России, которые кончили русские гимназии и русские университеты. Дело, однако, не в одном языке, так как не менее, если не более важна русская мысль, которую русская партия поддерживает в Галичине, а которую украинофилы так ненавидят. Украинофилы, особенно социалистического оттенка, сами читают сочинения на русском литературном языке, а голова «русько-радикальної» партии, т.е. социалистов, М. Драгоманов, даже советовал им изучать русский язык, хотя бы для того, чтобы читать на немъ социалистические сочинения и подпольную литературу. Редакция социалистического «Народа», выходившего во Львове на малорусском наречии, давала приложения на русском языке, конечно, не в целях его распространения, а в целях пропаганды в России. Даже реформованные иезуитами василиане печатают в своей типографии в Жолкве какие-то брошюры на русском языке. Дело, повторяем, не в одном языке, а в национальной идее. Но и дело сближения галицко-русского книжного языка к общерусскому и изучение и распространение последнего было бы пошло совершенно иначе, если бы русская партия не встречала в сем отношении препятствий и противодействия сначала со стороны таких факторов, как правительство и поляки, а ныне и со стороны покровительствуемых одними и другими украинофилов. Впрочем русская партия не могла даже развить в этом отношении серьезной деятельности, так как находясь до 1879 года в связи с правительством, она боялась потерять его приклонность, а вместе с тем и возможность выторговать то или другое для народа. Серьезное изучение русского языка и русской литературы началось в Галичине только с 80-ти годов, т.е. тогда, когда правительство отдало гегемонию в Галичине в руки поляков.
3
Слово «русинъ» употребляется в Галичин и Буковине. Уже в ближайшей к нам Волыни и на Подолье оно неизвестно и там русский народ называет себя просто православным в отличие от поляков, католиков.
Однако слово «русинъ» не составляет галицко-буковинской особенности; напротив, есть доказательства, что оно употребляется в таком же значении и на далеком севере, далеко за Петербургом, именно в окрестностях Ладожского озера. В фельетоне № 161 «Московсих Ведомостей» за 1894 год, п.з. «Письма с севера», автору г. Югорский, посетивший уездный городок Сермакс, расположенный при впадении Свири в Ладожское озеро, записал следующее: «На пристани стоит, конечно, становой урядник, мужики. Мужики смотрят на нас, а мы на них, и взаимно любуемся. У одного из них круглое, с большими скулами и доброе лицо Н***, который только-что интервсовался населением в этнографическом отношении, обращается к мужику с вопросом: – Скажи пожалуста, ты Корел? – Помилуйте, – отвечает тот, осклабляясь умиленно во всю бороду – какой я Корел, я здешнего уезда. Но Н*** не унимается в своей этнографической любознательности. – Ты верно не знаешь, что ты Корел, у тебя совсем корельская физиономия – Какой, батюшка, я Корел, возмущается мужик – Корелы, народ отчайный. – Кто же ты такой? – Я здешний… Русин».
4
С Маркианом Семеновичем Шашкевичем сыграли ґалицкие сепаратисты еще иного рода комедию.
Возведши его в родоначальники галицкого украииофильства, сепаратисты постановили отпраздновать торжественно в 1893 году 50-летнюю годовщину его смерти, перенести из деревни Новоселок, где он умер, его тленные останки во Львов и напечатать его портрет. За портретом искали долго и, наконец, нашли и напечатали. Но когда потрет появился, то крылошане Михаил Малиновский и А.С. Петрушевич, знавшие лично М. Шашкевича, решительно заявили, что портрет – подложный. – Прим.авт.
5
На пошлую выходку г. Маковея в деле поездок галичан в Россию, «с целью выклянчить денежную помощь ради народных, будто бы, интересов» и в деле миллиона рублей, пожертвованного русскими капиталистами на спасение галицко-русских институций и крестьян, которым угрожало полное разорение вследствие банкротства «Общего рольничо-кредитного 3аведения», возражать не станем, так как тенденция этой выходки слишком ясна, чтобы на нее отвечать добрым словом. Прим. авт.
6
См. «Литер. сборник Гал. рус. Матицы» за 1885 г.
7
«Галичо-рускiй Вѣстникъ» выходивший в 1849 году.