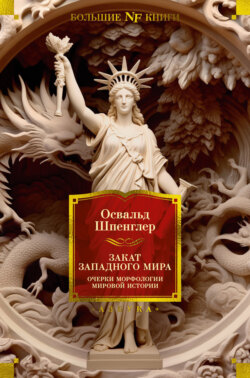Читать книгу Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории - Освальд Шпенглер - Страница 6
Том 1
Образ и действительность
Глава вторая
Проблема всемирной истории
I. Физиономика и систематика
Оглавление1
Лишь теперь можно наконец сделать решительный шаг и набросать такую картину истории, которая больше не будет зависеть от случайного местоположения наблюдателя в каком бы то ни было – именно его – «настоящем», как и от его свойств как заинтересованного члена одной-единственной культуры, чьи религиозные, духовные, политические, социальные тенденции сбивают его с толку, организуют исторический материал, исходя из обусловленной временем и пространством перспективы, и тем самым навязывают событиям произвольную и скользящую по поверхности форму, которая внутренне им чужда.
Чего нам до сих пор недоставало, так это дистанцированности от предмета. В случае природы ее достигли уже давно. Впрочем, там ее и легче было достичь. Физик, как что-то само собой разумеющееся, строит каузально-механическую картину своего мира так, словно сам в нем не присутствует.
Однако то же самое возможно и в мире форм истории. Пока что мы об этом не догадывались. Современные историки гордятся своей объективностью, однако тем самым они выдают то, в какой малой степени отдают себе отчет в собственных предубеждениях. Поэтому следует, быть может, сказать (и когда-нибудь позднее это еще будет сделано), что подлинного рассмотрения истории в фаустовском стиле у нас так до сих пор и нет. Я имею в виду такое рассмотрение, в котором довольно дистанцированности для того, чтобы рассматривать также и настоящее (которое ведь является таковым лишь по отношению к одному-единственному из бесчисленных человеческих поколений) как нечто бесконечно удаленное и чуждое в общей картине всемирной истории, как временной промежуток, обладающий нисколько не большим весом в сравнении со всеми прочими – без фальсифицирующей мерки каких бы то ни было идеалов, без соотнесения с самим собой, без пожеланий, озабоченности и личного внутреннего участия, на что склонна претендовать реальная жизнь. Итак, это должна быть такая дистанцированность, которой позволено (говоря словами Ницше, который сам-то далеко не располагал ею в достаточной мере) рассматривать весь факт человека с колоссального удаления{23}: взгляд на культуры, в том числе и на собственную, как на ряд вершин горного хребта на горизонте.
Здесь необходимо еще раз осуществить деяние, подобное Коперникову, а именно освобождение от видимости во имя бесконечного пространства, как это давно уже проделал западный дух по отношению к природе, когда он перешел от Птолемеевой системы мира к той, которая одна только и сохраняет ныне значимость для нас, тем самым выключив в качестве формоопределяющего случайное местоположение наблюдателя на одной-единственной планете.
Всемирная история нуждается в таком же точно освобождении от случайно избранной точки наблюдения (соответствующего «Нового времени») – и способна на это. Наш XIX в. представляется нам куда более богатым и значительным, чем, например, XIX в. до Р. X., но ведь и Луна кажется нам больше Юпитера и Сатурна. Физик давно уже освободился от предрассудка относительного удаления, историк – все еще нет. Мы позволяем себе именовать греческую культуру древностью по отношению к нашему Новому времени. Но была ли она таковой также и для утонченных, стоявших на вершине своего исторического развития египтян при дворе великого Тутмоса, т. е. за тысячу лет до Гомера? События, разыгрывавшиеся в 1500–1800 гг. на западноевропейской почве, наполняют для нас важнейшую треть всемирной истории в целом. Для китайского историка, оглядывающегося на 4000 лет китайской истории и выносящего суждение исходя из нее, она представляет собой краткий и малозначительный эпизод, далеко уступающий по весомости столетиям династии Хань (206 до Р. X. – 220 по Р. X.), составившим эпоху в его «всемирной истории».
Итак, освободить историю от личного предубеждения наблюдателя, которое в нашем случае делает ее историей по сути лишь одного фрагмента прошлого, причем целью здесь оказывается то, что случайным образом установлено в настоящий момент в Западной Европе, а мерой всего достигнутого и того, что еще следует достигнуть, служат значимые именно теперь идеалы и интересы, – вот что является целью всего нижеследующего.
2
Природа и история[63] – вот в каком виде, противостоя друг другу, предстают перед каждым человеком две крайних возможности упорядочить окружающую его действительность до картины мира. Действительность является природой, поскольку она подводит все становление под ставшее, и она же – история, поскольку подводит все ставшее под становление. Действительность обозревается в ее «припоминаемом» образе – и вот возникает мир Платона, Рембрандта, Гёте, Бетховена, или же критически постигается в ее доступном чувствам нынешнем состоянии – это будут миры Парменида и Декарта, Канта и Ньютона. Познание в строгом значении этого слова – это тот самый акт переживания, осуществленный результат которого называется «природой». Познанное и природа тождественны друг другу. Все познанное, как доказал это символ математического числа, равнозначно механически ограниченному, раз навсегда истинному, узаконенному. Природа – это воплощение всего необходимого согласно закону. Существуют одни только законы природы. Ни один физик, отчетливо сознающий свое предназначение, никогда не пожелает выйти из этих границ. Его задача заключается в том, чтобы установить совокупность, хорошо упорядоченную систему всех законов, которые можно отыскать в картине его природы и, более того, которые исчерпывающе и без остатка представляют картину его природы.
С другой стороны, созерцание (на память приходят слова Гёте: «Созерцание надо четко отличать от всматривания»{24}) – это тот акт переживания, который сам, пока совершается, является историей. Пережитое – это сбывшееся, это история.
Все сбывшееся однократно и никогда больше не повторяется. Оно несет на себе характеристику направления («времени»), необратимости. Сбывшееся с неизбежностью принадлежит прошлому, противостоя становлению как ставшее, как живому – закосневшее. Соответствующее этому ощущение – мировой страх. Все же познанное не имеет времени; не принадлежа ни прошлому, ни будущему, оно просто «дано» и, таким образом, сохраняет свою значимость. Таковы внутренние свойства сообразного законам природы. Закон, все узаконенное аисторичны. Они исключают случай. Законы природы – это формы не знающей исключений, а значит, неорганической необходимости. Отсюда понятно, почему математика как упорядочивание ставшего числом неизменно относится лишь к законам и причинности, и только к ним одним.
Становление «не имеет числа». Лишь неживое (а живое – лишь постольку, поскольку мы отвлекаемся от его живости) может быть посчитано, измерено, разложено. Чистое становление, жизнь не имеет в этот смысле никаких границ. Оно находится по ту сторону сферы причины и действия, закона и меры. Никакое глубокое и подлинное историческое исследование не отыскивает причинной закономерности; иначе оно не постигло своего подлинного существа.
Обозреваемая история между тем вовсе не является чистым становлением; она есть образ, излучаемая из бодрствования наблюдателя мировая форма, в которой становление господствует над ставшим. На содержании ставшего, т. е. на изъяне, основана возможность что-то извлечь из нее в научном смысле. И чем выше это содержание, тем механистичнее, тем рассудочнее, тем каузальней является история взгляду. Так и «живая природа» Гёте, эта всецело нематематическая картина мира, все же располагала достаточным содержанием мертвого и косного, чтобы он мог научно трактовать по крайней мере ее передний план. Если это содержание очень сократится, она окажется почти одним чистым становлением, а созерцание сделается переживанием, допускающим лишь те или иные виды художественного изложения. Тому, что в качестве судеб мира представлялось духовному взору Данте, он не смог бы придать научную форму, как не смог бы это сделать и Гёте с тем, что открывалось ему в великие минуты его набросков «Фауста», и также Плотин и Джордано Бруно – со своими видениями, которые не были результатом исследований. В этом и состоит главная причина полемики о внутренней форме истории. Один и тот же предмет, один и тот же набор фактов создает у всякого наблюдателя в силу его задатков всякий раз иное целостное впечатление, непостижимое и невыразимое, которое лежит в основе его суждений и придает им личностную окраску. Взгляду двух разных людей степень ставшести будет открываться всякий раз по-разному, и это достаточное основание для того, чтобы они никогда не могли сойтись в отношении задачи и метода. Всякий винит в этом недостаточную отчетливость мышления у другого, и все-таки обозначаемое этим выражением нечто, над структурой чего нет власти ни у кого, вовсе не представляет собой что-то худшее, но всего лишь по необходимости иное. То же справедливо и в отношении всего естествознания.
Однако следует запомнить раз и навсегда: в желании трактовать историю научно всегда в конечном счете есть что-то противоречивое. Подлинная наука простирается настолько, насколько сохраняют значимость понятия истинного и ложного. Это верно в отношении математики, и это также верно применительно к исторической преднауке собирания, упорядочивания и пересмотра материала. Однако исторический взгляд в подлинном смысле этого слова, который с этого только и начинается, относится к области значений, где определяющими словами являются не «истинное» и «ложное», но «поверхностное» и «глубокое». Настоящий физик никогда не бывает глубок, но может быть «остроумен» (scharfsinnig). Он может быть глубоким лишь тогда, когда покидает область рабочих гипотез и касается последних оснований, однако тогда уже и он сделался метафизиком. Природу следует трактовать научно, историю надо воспевать. Кажется, старина Леопольд фон Ранке сказал как-то, что «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта все же по сути представляет собой подлинное историческое сочинение. И верно: преимущество хорошего исторического труда в том, что читатель в состоянии стать Вальтером Скоттом для самого себя.
Но, с другой стороны, там, где следовало бы господствовать царству чисел и точного знания, Гёте называл «живой природой» именно то, что было непосредственным созерцанием чистого становления и самоформирования, а значит – историей в установленном здесь значении. Его мир был прежде всего организмом, существом, и становится понятно, что его исследования, даже когда они по наружности несут на себе физикалистские черты, не ставили своей целью ни числа, ни законы, ни запрятанную в формулы каузальность и вообще никакого разложения, что они скорее являются морфологией в высшем смысле, а потому избегают специфически западного (и в высшей степени неантичного) средства всякого каузального рассмотрения, а именно измеряющего эксперимента, однако никогда не позволяют об этом пожалеть. Наблюдение Гёте поверхности Земли – это всегда геология, никогда не минералогия (которую он называл наукой о мертвом).
Скажем еще раз: никакой четкой границы между тем и другим видом постижения мира не существует. Насколько велика противоположность того и другого, настолько же несомненно в каждом из этих видов понимания присутствуют они оба. Историю переживает тот, кто взирает на то и другое как на становящееся, как на самосовершенствующееся; природу познает тот, кто расчленяет то и другое как ставшее, как усовершенствованное.
Во всяком человеке, всякой культуре, всякой культурной эпохе имеется изначальная предрасположенность и предназначенность предпочитать в качестве идеала миропонимания ту или другую из этих форм. Западный человек имеет в высшей степени исторические задатки[64], у человека античности их было несравненно меньше. Мы прослеживаем все данное с учетом прошлого и будущего, античность же признавала в качестве сущего лишь точечное настоящее. Все прочее становилось мифом. В каждом такте нашей музыки от Палестрины и до Вагнера мы имеем перед собой еще и символ становления, греки же в каждой своей статуе располагали образом чистого настоящего. Телесный ритм заключен в одновременном соотношении частей, ритм фуги – во временно́м протекании.
3
Так принципы образа и закона выступают перед нами в качестве двух основополагающих элементов всякого мирообразования. Чем решительнее несет картина мира черты природы, тем безраздельнее властвуют в ней закон и число. Чем с большей чистотой созерцается мир как вечно становящийся, тем более отстраненной от числа оказывается непостижимая полнота его формирования. «Образ – подвижное, становящееся, преходящее. Учение об образе – это учение о превращении. Учение о метаморфозе – вот ключ ко всем знакам природы», – говорится в одной записи из гётевского наследия{25}. Так различаются уже своими методами склоняемая на каждом шагу «точная чувственная фантазия»{26} Гёте, предоставляющая живому воздействовать на себя, его не касаясь[65], и точные, умерщвляющие процедуры современной физики. Прочие моменты, которые мы здесь неизменно находим, являются в точном естествознании в обличье непременных теорий и гипотез, наглядное содержание которых наполнено всем косно-числовым и формульным и получает от него поддержку. В исторических же исследованиях это хронология, т. е. та внутренне совершенно чуждая становлению и тем не менее никогда не воспринимаемая здесь в качестве чужеродной числовая сеть, которая в качестве каркаса дат или статистики обволакивает и пронизывает исторический образный мир – притом что здесь и речи нет о математике. Хронологическое число обозначает то, что действительно лишь однажды, математическое же – постоянно возможное. Первое описывает образы и разрабатывает для понимающего взгляда очертания эпох и фактов; оно служит истории. Второе же само является законом, который должно установить, завершением и целью исследования. Хронологическое число как средство преднауки заимствовано из науки в собственном смысле слова, из математики. Однако при его использовании на это его свойство закрывают глаза. Необходимо вчувствоваться в отличие следующих символов: 12 × 8 = 96 и 18 октября 1813{27}. Употребление чисел отличается здесь точно так же, как отличается словоупотребление в прозе и поэзии.
Вот еще что необходимо здесь отметить. Поскольку становление неизменно лежит в основе ставшего и история представляет собой упорядочение картины мира в смысле становления, то история – это первоначальная, а природа в смысле детально сконструированного мирового механизма – поздняя, по сути доступная лишь людям зрелых культур форма мира. И правда, погруженный во мрак, прадушевный окружающий мир[66] древнейшего человечества, о чем ныне свидетельствуют лишь его религиозные обычаи и мифы, тот насквозь органический мир, полный произвола, враждебных демонов и привередливых сил, представляет собой от начала и до конца живое, непостижимое, загадочно вздымающееся и непредсказуемое целое. Пускай его зовут природой: все равно это не наша природа, не косное отражение всезнающего духа. Этот прамир, как отзвук давно исчезнувшего человечества, порой еще дает о себе знать лишь в душе ребенка и у великих художников – посреди строгой «природы», которую городской дух зрелых культур с тиранической настойчивостью возводит вокруг каждого. В этом причина обострившейся напряженности между научным («современным») и художественным («непрактичным») мировоззрением, с чем сталкивается всякое позднее время. Практику и поэту никогда друг друга не понять. Здесь следует усматривать также и основание того, почему любые стремящиеся к научности исторические изыскания, которым следовало бы нести в себе что-то детское и сновидческое, нечто гётеанское, оказываются подвержены опасности сделаться всего-навсего физикой общественной жизни, «материалистическими», как безотчетно называют они самих себя.
«Природа» в точном смысле – это более редкостный, ограниченный исключительно обитателями крупных городов, зрелый, а возможно, начинающий уже и дряхлеть способ обладания действительностью; история же – способ наивный и юношеский, а кроме того, и более бессознательный, присущий всему человечеству в целом. По крайней мере, такой предстает размеренная числом, лишенная тайны, расчлененная и подлежащая членению природа Аристотеля и Канта, софистов и дарвинистов, современной физики и химии – рядом с той пережитой, безграничной, прочувствованной природой Гомера и «Эдды», дорического и готического человека. Упускать это из вида – значит погрешать против самой сути рассмотрения истории. Ведь история-то и есть в полном смысле естественный аспект души по отношению к ее собственному миру, точная же, механически упорядоченная природа – аспект искусственный. Несмотря на это или же именно по этой причине естествознание дается современному человеку легко, рассмотрение же истории – весьма и весьма непросто.
Позывы в направлении механистического мышления о мире, которое базировалось бы всецело на математическом ограничении, логическом различении, на законе и причинности, дают о себе знать очень рано. С ними приходится сталкиваться в первые столетия всех культур – пока что со слабыми, разрозненными, тонущими в гуще религиозного мировоззрения. Здесь можно было бы назвать Роджера Бэкона. Уже вскоре эти попытки принимают более строгий характер; как и все духовные завоевания, которым постоянно грозит опасность со стороны человеческой природы, они не испытывают недостатка в претензиях на господство и исключительность. И вот уже незаметно царство пространственно-понятийного (ибо понятия по самой своей сути являются числами, имеющими чисто количественные свойства) пронизывает внешний мир каждого человека, порождает в простых впечатлениях чувственной жизни (а заодно с ними и в их основах) механическую взаимосвязь каузального и количественно узаконенного характера и в конце концов подчиняет бодрствующее сознание культурного человека больших городов (будь то в египетских Фивах или Вавилоне, в Бенаресе, Александрии или западноевропейских мировых столицах) столь неотступному принуждению со стороны мышления, оперирующего законами природы, что предубеждение всей философии и науки (а это несомненно предубеждение) почти не встречает возражений, так что продолжает считаться, что это состояние и есть сам человеческий дух, а его отражение, механическая картина окружающего мира – это и есть сам мир. Логики вроде Аристотеля и Канта сделали это воззрение господствующим, однако Платон и Гёте его опровергают.
4
Великая задача познания мира, становящаяся у людей высших культур потребностью, своего рода проникновение в собственное существование, обязанность к чему ощущается ими как перед самими собой, так и в отношении культуры, вне зависимости от того, будем ли мы называть соответствующие процедуры наукой или философией, будем ли с внутренней несомненностью воспринимать их родство с художественным творчеством и религиозной интуицией или его оспаривать, – задача эта в любом случае, несомненно, остается одной и той же: представить во всей чистоте предопределенный бодрствованию отдельного человека язык форм картины мира, который он, пока не сравнивает, неизбежно должен считать за сам мир.
Ввиду различия природы и истории эта задача должна быть двойственной. Та и другая говорят на своем собственном, отличающемся во всех отношениях языке форм; в картине мира неопределенного характера – как оно чаще всего и бывает в повседневной жизни – тот и другой вполне могут накладываться друг на друга и искажаться, однако никогда они не сливаются во внутреннее единство.
Направление и распространение – вот господствующие характеристики, которыми различаются историческое и природное впечатление. Человек вообще не в состоянии одновременно дать ход формирующему воздействию того и другого. У слова «даль» – красноречивый двойной смысл. В одном случае оно означает будущее, в другом – пространственное расстояние. Отметим, что исторический материалист почти неизбежно воспринимает время как математическое измерение. Для прирожденного художника (что доказывается лирикой всех народов), напротив, даль пейзажа, облака, горизонт, садящееся солнце – все это оказывается впечатлениями, связывающимися сами собой с ощущением чего-то будущего. Греческий поэт отрицает будущее, а следовательно, он ничего этого не видит и не воспевает. Поскольку он всецело принадлежит настоящему, он всецело принадлежит также и близи. Естествоиспытатель, творческий рассудочный человек в собственном смысле этого слова, будь то экспериментатор, как Фарадей, теоретик, как Галилей, или математик, как Ньютон, сталкивается в своем мире лишь с лишенными направления количествами, которые он меряет, поверяет и упорядочивает. Исключительно количественное подлежит ухватыванию числами, определено каузально, может быть сделано доступно в понятийном смысле и сформулировано в виде закона. Тем самым возможности всякого чистого познания природы оказываются исчерпанными. Все законы представляют собой количественные зависимости, или, как сказал бы физик, все физические процессы протекают в пространстве. Античный же физик, исходя из античного, отрицающего пространство мироощущения, выразил бы то же самое – не меняя существа факта – в том смысле, что все процессы «протекают между телами».
Всякая количественность чужда историческим впечатлениям. У них иной орган. У мира как природы и мира как истории – свои собственные виды постижения. Мы знаем их и ежедневно ими пользуемся, хотя их противоположности до сих пор не сознавали. Бывает познание природы и знание людей. Бывает научный опыт и опыт жизненный. Следует проследить эту противоположность до самых последних оснований, чтобы понять, что я имею в виду.
Все разновидности постижения мира следовало бы в конечном счете называть морфологией. Морфология механического и протяженного, наука, открывающая и упорядочивающая законы природы и причинно-следственные отношения, называется систематикой. Морфология органического, истории и жизни, всего того, что несет в себе направление и судьбу, называется физиономикой.
5
В предыдущем столетии систематический род воззрения на мир достиг на Западе своей высшей точки и оставил ее позади. Расцвет же рода физиономического еще впереди. Через сотню лет все науки, всё еще возможные на этой почве, сделаются фрагментами одной-единственной колоссальной физиономики всего человеческого. Это-то и означает «морфологию всемирной истории». Во всякой науке, как по ее цели, так и по содержанию, человек исповедует самого себя. Научный опыт – это духовное самопознание. С такой точки зрения также и математику следует трактовать как раздел физиономики. Намерения отдельного математика в расчет здесь не принимаются. Ученый как таковой и его результаты как вклад в сумму знаний различны между собой. Математик как человек, чья деятельность составляет часть его явления, а знания и воззрения образуют часть его выражения, – вот единственное, что имеет здесь значение, причем именно в качестве органа культуры. Через него она вещает о себе. Открывая, познавая, формируя, он принадлежит к ее физиономии – как личность, как ум.
Всякая математика, которая в форме научной системы или, как в случае Египта, в архитектурной форме зримо для всех являет прирожденное ее бодрствованию число, является исповеданием души. Насколько несомненно то, что ее намечавшиеся достижения принадлежат исключительно к исторической поверхности, настолько же несомненно и то, что ее бессознательное, как само число и стиль ее развития до здания завершенного мира форм, образовано выражением бытия, крови. История ее жизни, ее расцвет и увядание, ее глубинная связь с изобразительными искусствами, с мифами и культами той же культуры – все это образует морфологию иного, исторического рода, которую пока что мало кто рассматривал в качестве реальной.
В соответствии с этим открывающийся взору передний план всей истории имеет то же самое значение, что и такие внешние проявления отдельного человека, как его стать, выражение, походка, не язык, но выговор, не написанное, но почерк. Для знатока людей все это налицо. Тело со всеми его особенностями, ограниченное, ставшее, прошлое – это выражение души. Однако быть знатоком людей – это значит разбираться также и в тех человеческих организмах большого стиля, которые я называю культурами, понимать их выражение лица, их язык, их действия точно так же, как понимают всех их у отдельного человека.
Описательная, формирующая физиономика – это перенесенное в область духовного искусство портрета. Дон Кихот, Вертер, Жюльен Сорель – все это портреты эпохи. Фауст представляет собой портрет целой культуры. Естествоиспытателю, морфологу в качестве систематика портрет мира известен лишь со своей подражательной стороны. Совершенно то же самое означают «верность натуре», «сходство» для малюющего ремесленника, который приступает к работе, вообще говоря, чисто математически. Однако подлинный портрет в стиле Рембрандта – это физиономика, т. е. запечатленная в одном мгновении история. Ряд его автопортретов представляет собой не что иное, как автобиографию в подлинно гётеанском смысле этого слова. Так и следовало бы писать биографию великой культуры. Подражательная составляющая, работа профессионального историка с датами и числами – это всего лишь средство, но не цель. К чертам на лике истории принадлежит все, что доныне расценивалось исключительно в соответствии с персональными мерками, в зависимости от пользы или вреда, добра или зла, одобрения или неодобрения – как формы государственного устройства, так и экономики, как сражения, так и искусства, как науки, так и боги, как математика, так и мораль. Вообще, все ставшее, все являющееся представляет собой символ, выражение души. Все это нуждается во взгляде знатока людей, а не в придании формы закона, значение всего этого должно быть прочувствовано. И вот уже исследование приходит к окончательной и высшей несомненности: все преходящее – только подобье{28}.
В познании природы человека можно натаскать, знатоком истории следует родиться. Он разом пронизывает людей и факты до самых глубин с помощью чутья, которому никто не учит и которое свободно от всякого целенаправленного воздействия, достаточно редко проявляясь в высшей своей форме. Разлагать, определять, классифицировать, разграничивать по причинам и следствиям можно всякий раз, когда заблагорассудится. Это просто работа; второе же – творчество. У образа и закона, сравнения и понятия, символа и формулы совершенно разные органы. В этой противоположности сказывается все то же отношение жизни и смерти, порождения и разрушения. Рассудок, система, понятие «познавая» – умерщвляют. Они превращают познанное в косный предмет, который допустимо измерять и членить. Созерцание одухотворяет. Оно включает единичное в живое, внутренне прочувствованное единство. Стихотворство и историческое исследование сродни друг другу, как и математика с познанием. Однако, как сказал однажды Геббель, «системы не приходят как озарения, произведения же искусства не рассчитываются или, что то же самое, не измышляются»{29}. Художник, подлинный историк созерцает, как возникает нечто. В чертах созерцаемого он еще раз переживает становление. Систематик, будь то физик, логик, дарвинист или пиши он прагматическую историю, узнаёт то, что уже возникло. Душа художника, как и душа культуры, представляет собой нечто, желающее осуществиться, нечто полное и завершенное, или, прибегая к языку старинной философии, микрокосм. Систематический, отвлеченный от чувственного, т. е. «абстрактный»{30}, дух, представляет собой позднее, узкое и преходящее явление и принадлежит к наиболее зрелым состояниям культуры. Он связан с городами, в которых все в большей и большей степени сосредоточивается его жизнь, он возникает вместе с ними и с ними же исчезает вновь. Античная наука существовала лишь начиная с ионийцев VI в. и до римской эпохи. Античные художники появлялись на свет, пока существовала сама античность. Прояснить это снова поможет схема:
Если мы попытаемся уяснить принцип единства, исходя из которого происходит постижение каждого из этих миров, то окажется, что математически упорядоченное познание, причем тем решительнее, чем оно чище, всецело связано с неизменно наличным. Картина природы, как наблюдает ее физик, – это именно та, которая развивается в данный момент перед его чувствами. К по большей части опускаемым, однако тем более неколебимым предпосылкам всякого естествознания принадлежит то, что природа «как таковая» – всегда одна и та же для всякого бодрствования и во все времена. Поставленный эксперимент решает дело раз и навсегда. Время не отрицается, но в рамках данной установки не принимается в расчет. Однако действительная история основана на столь же несомненном ощущении противоположного. В качестве своего органа история предполагает некую с трудом поддающуюся описанию разновидность внутренней чувственности, впечатления которой пребывают в безостановочном изменении, а значит, вообще не могут быть обобщены в какой-то определенный момент. (О мнимом «времени» физиков у нас еще будет речь.) Картина истории, будь то история человечества, органического мира, Земли или системы неподвижных звезд, – это картина памяти. Память мыслится здесь как высшее состояние, присущее далеко не всякому бодрствованию, многим же свойственное лишь в незначительной степени, совершенно определенный вид силы воображения, позволяющий пережить единичный миг sub specie aeternitatis [с точки зрения вечности (лат.)] в постоянном соотнесении со всем прошлым и будущим; это предпосылка всякой обращенной назад созерцательности, самопознания и самоисповедания. В этом смысле у античного человека вообще не было памяти, а значит, не было и истории – ни в самом себе, ни вокруг него. «Об истории может судить лишь тот, кто пережил историю самолично» (Гёте){31}. В античном миросознании все прошедшее тут же высасывалось ежеминутным. Сравните в высшей степени «историчные» лица скульптур в Наумбургском соборе, на портретах Дюрера и Рембрандта с лицами греческих статуй, хотя бы широко известного портрета Софокла. Первые рассказывают целую историю души, черты других строго ограничиваются выражением сиюсекундного существования. Они хранят молчание обо всем, что, в ходе жизни, привело к этому существованию, ведь у всякого подлинно античного человека (который всегда закончен и никогда не становится) об этом не могло быть и речи.