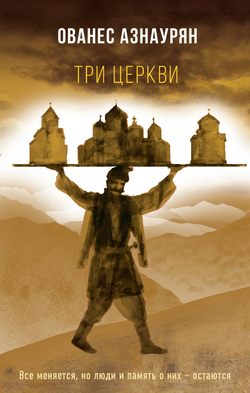Читать книгу Три церкви - Ованес Азнаурян - Страница 5
Часть первая
Глава 3
ОглавлениеПо утрам всегда бывает как-то не так… И утром поезд ехал быстрее, стараясь, казалось, наверстать потерянное время. И это было в те времена, когда еще ходили поезда Ереван – Дзорк – Ереван.
Монотонно стучали колеса, вагон раскачивало из стороны в сторону, время от времени слышался гудок электровоза где-то там, впереди. Было утро. За окном виднелся снежный пейзаж, мелькали телеграфные столбы, далеко за равниной поднималась снежная вершина Горы. Через полтора часа поезд прибудет в Ереван…
В двухместном купе было тепло. Он и она уже проснулись, оделись и сидели друг перед другом, смотрели из окна на равнину, на Арарат, на то, как вороны опускаются на поля. Теперь, утром, все было по-другому, он и она опять перешли на «вы».
– Так вы хотите, чтоб я рассказал о себе? – спросил он.
– Да. Хочу. И это тоже останется со мной. У нас еще полтора часа впереди…
– Как-то непривычно говорить о себе.
– А вы не скромничайте.
– Ну… ладно. Начало похоже на биографию, какую пишут при поступлении на работу. Я родился в таком-то году в Ереване, в самой что ни на есть среднестатистической семье: папа у меня инженер, мама филолог. Меня отдали в среднестатистический детский садик, потом я поступил в такую же школу, учился на средние оценки, в классе был неприметным, ничем не выделялся, но в то же время с некоторых пор стал чувствовать в себе какую-то силу, не помню, когда это началось. Мне стало казаться, что я могу нечто, чего другие не могут; мне показалось вдруг, что я и чувствую иначе, чем другие… Короче, для окружающих я был самым средненьким пареньком, но самому себе таковым не казался. После школы я долго раздумывал, в какой институт поступить, и никак не мог выбрать себе профессию – я и тогда носил очки, так что армия мне не грозила. И вот однажды мне в руки попал томик стихов Бодлера; я прочел стихи – и был сражен, я понял, к чему могу приложить свою силу… Да-да! Вы улыбаетесь, но это именно так! Во мне что-то взорвалось. Та сила, которую я смутно ощущал, нашла выход, подобно лаве, – простите за банальное сравнение. Я написал стихотворение, очень похожее на бодлеровское, но оно мне не понравилось, и я его сжег. Потом родилось второе стихотворение, затем третье, четвертое и так ровно тридцать два стихотворения, одни лучше, другие хуже, но их я уже не сжигал, а отпечатал на машинке, которую попросил у друга – теперь он знаменитый писатель. Я носился с этим сборником по городу, показывал друзьям и даже незнакомым – однажды подошел в парке к старику, абсолютно чужому, и попросил прочесть мои стихи. Одни хвалили, другие советовали поработать еще, но, в общем-то, тоже хвалили, и я понял, что мои стихи кое-чего да стоят. Потом в моей жизни произошло событие, которое перевернуло всю мою жизнь, стало причиной моего несчастья и счастья одновременно: я встретил девушку, полюбил ее и, как это ни удивительно при моей природной робости, она полюбила меня… Мы познакомились восемнадцатого мая, на чьем-то дне рождения. Понятно, я дал ей прочесть свои стихи. Она пришла от них в восторг, сказала, что сборник нужно опубликовать, но добавила: жаль, что стихов в сборнике тридцать два, и предложила мне написать тридцать третье стихотворение, что я и пообещал ей сделать. Естественно, цифра тридцать три к чему-то обязывала, и в голове у меня завертелись мысли и образы, связанные с Евангелием. Я думал несколько дней, потом однажды ночью, внезапно, в полусне, появилась первая строчка; она звучала так: «Вчера Христа распяли в Иудее…» Я записал ее и лег спать, так и не сумев найти продолжение. На следующий день опять ничего не вышло. И так никогда больше… С тех пор я больше ничего не смог написать. Сначала я решил: пока не напишу это, не пошлю в редакцию журнала ни одного другого стихотворения из моего сборника; потом решил наплевать и написать совсем другое стихотворение, но у меня опять ничего не вышло. Так я перестал писать стихи. Иногда, как сумасшедший, напишу ту самую строчку – «Вчера Христа распяли в Иудее…», – и на том дело кончается. Потом я поступил в Политехнический институт и стал, как и отец, самым что ни на есть среднестатистическим инженером. А женился я на той самой девушке, которая посоветовала мне написать тридцать третье стихотворение. Ее зовут Ашхен. У меня родился мальчик, мы назвали его Аристакес…
– А что вы делали в Дзорке?
– Разводился с женой.
– Смешно…
– Очень! Теперь я «средний» во всем, такой же, как миллионы других, стал скучным, а иногда и занудливым… – Он усмехнулся. – Вот вам моя история. Я так и остался среднестатистическим человеком с обидным ярлыком: неудачник. Что же касается той силы, которую я в себе когда-то чувствовал, то она все более и более во мне угасала, пока не погасла совсем…
– М-да… – сказала она. – Грустная история. А у меня история совсем простая. Влюбилась, он меня бросил, когда я была беременна, потом родила сына, так замуж и не вышла, имела множество любовников…
– И последнего вы бросили вчера вечером на перроне вокзала, – закончил он.
– Да. Вы правы.
Поезд приближался к Еревану. И он, и она знали, что больше никогда не встретятся, однако каждый уносил в себе историю другого.
В тот день по прибытии в Ереван Вардан, отец Аристакеса и бывший муж Ашхен Унанян, так и не пошел на работу, а прямо с вокзала отправился к своим давним друзьям и напился. Потом поехал домой, заснул (вернее, забылся в полудремотном бреду) и проснулся уже ночью. Он подумал, что мир его рухнул. Что больше ничего уже нельзя сделать; пить он больше не мог и жалел об этом. Когда Вардан проснулся, он, не вставая с дивана, через плечо посмотрел в открытое окно.
Была ночь. Небо было черным, и миллионы звезд успокаивающе мигали, холодно блестя, может, осколками какого-то большого зеркала…
«Да, может, действительно, все это – осколки одного большого зеркала, – подумал Вардан. – И, если собрать все звезды вместе, получится зеркало, в котором отразится весь мир, отразится Земля, отражусь я… Может, раньше так и было. Вместо неба было зеркало, и все, что творилось на Земле, отражалось на Небе, и люди видели, что они творят, потому что все дела их отражались, и они отражались тоже».
Потом он встал, подошел к окну и посмотрел немного вниз.
«Дома с потухшими окнами тяжело сидят в земле и невидящими глазами смотрят на деревья, листья которых сожгли еще осенью раскаленные фонари. И это – ночь. Интересно, что ночь ярче дня, и вечер волнует больше, чем утро. Неужели ночь сильнее дня? Луна сильнее Солнца? Чушь!»
Он посмотрел на белые листки бумаги, улыбнулся горько, взял карандаш и написал корявым почерком: «Вчера Христа распяли в Иудее».
«Ночь? – подумал он опять посмотрел в раскрытое окно… – Нет. Такого зеркала никогда не было. С самого начала. Ни одно творение человека не отражалось на небе, в зеркале. Такого зеркала не было, и люди всегда творили то, что они хотели сотворить, не замечая и не видя, что сотворили гадость, что сделали неверное, что ЭТОГО никогда не должны были делать… С самого начала были только осколки, мигали звезды, и лишь немногим удавалось отразиться в крохотных звездочках; лишь избранный мог увидеть себя в малюсеньком осколке. Но где же моя звезда? Где мой осколок на небе?..»
И тут он увидел падающую звезду. Звезда падала очень красиво, медленно, величественно. Она плыла по черному небу, царственно кланяясь другим звездам – налево кивок, направо кивок, – а потом исчезла так же неожиданно, как и появилась. И он спохватился: желание забыл загадать!
Он говорил в уме с Ашхен, но знал, что ее нет в соседней комнате. Мало того, он помнил, что они недавно развелись. Но все же… Все же!
Незаметно начинал бледнеть восток, и небо тушило свои огни и просыпалось, чтобы разбудить землю. Улицы и листья деревьев были мокрые и пахли свежестью и тоже просыпались; по очереди меркли фонари, и после всего этого начиналось утро.
«День! Иногда бывает так: чтобы понять день, нужно не спать целую ночь, потому что день рождается от ночи, хотя, может, ночь рождается от дня?»
Он выключил лампу и встал. У него болели глаза, и он чувствовал усталость. Он прошелся по комнате и подошел к окну.
«Миры периодически рушатся. Периодически рождаются и исчезают Галактики, звезды. Периодически рушится жизнь».
Неизвестная женщина из поезда так никогда и не узнает, что ее попутчик через год снова сойдется с женой Ашхен (но это случится лишь летом), и у них родится второй сын, которого нарекут Аршак, в честь дедушки, и которого все всю жизнь будут называть Аршо.
Да, это было летом, тем самым летом, когда однажды Аршак Ашотович Унанян привез с собой на дачу в Кармрашен телеграмму. Никому ничего не сказав, хмуря брови, отдал телеграмму свой младшей дочери Ашхен.
– От твоего… – пробурчал он. – Делай, как считаешь нужным. Если надумаешь поехать в Дзорк, шофер тебя отвезет.
В телеграмме значилось: «Буду звонить вечером тчк надо поговорить тчк надеюсь ты будешь тчк Вардан».
Оник был шофером Рафо, мужа Норетты, и Ашхен смущало, что повезет ее именно он, когда-то бывший ее учеником в вечерней школе. Но она знала, что шестичасовой автобус из Кармрашена в Дзорк уже ушел. Ашхен выглянула из окна веранды в сад. Там под яблоней на одеяле лежал ее Аристакес и смотрел в небо.
Небо было высокое, это небо, и синее, и по нему скользили облака, то собираясь в одном месте, то рассеиваясь в другом.
Уже день близился к вечеру, и Аристакес лежал на одеяле перед домиком дачи и смотрел на небо. Оно было далекое и в то же время очень близкое; до него было рукой подать; можно было прижать к щекам пушистые белые облака, обнять их и заснуть крепко-крепко, и снова проснуться, и вновь видеть это синее небо…
– Арис, встань, хватит, простудишься! – крикнула Ашхен сыну.
– Еще немного, мам.
– Смотри, не простудись.
И снова – небо… Облака были уже розовые, потому что солнце село, и мальчик, надеясь увидеть еще и ночное небо со звездами, продолжал лежать, положив руки под голову, и смотрел на небо. Аристакес подумал, что облака не плывут по небу, а скользят, стараясь зацепиться за что-то, и от этого растягиваются, лопаются и снова растягиваются. Он подумал, что если облака долго не будут лопаться, то пойдет дождь. А после дождя, знал он, выглянет солнце. После дождя всегда выглядывает солнце…
– Аристакес, вставай, поехали.
– Куда, мама?
– В Дзорк.
– Почему? Мы же позавчера все ездили в город купаться!
– Нужно, балес[10]. Нам к вечеру надо быть в Дзорке: позвонит папа.
Мальчик встал и пошел к воротам, где его ждала Ашхен. Выйдя за ворота, которые заперла за ними бабушка Сона (дедушка не вышел их проводить), они сели в машину.
– Аристакес, когда ты женишься? – спросил Оник. Он всегда задавал этот дебильный вопрос, когда видел шестилетнего Ариса, и громко, раскатисто хохотал.
Они поехали в Дзорк.
Аристакесу так и не удалось увидеть ночное небо, зато он нагляделся на небо днем. Это очень хорошо – смотреть на небо, и он снова будет смотреть на небо, когда вернется сюда завтра; ведь здесь небо совсем другое… Он уснул, удобно устроившись на заднем сиденье, и во сне видел синее небо и белые облака, медленно скользившие по нему; видел, как пошел дождь и как потом выглянуло солнце. Кажется, это было его последнее лето перед школой.
10
Малыш (арм.).