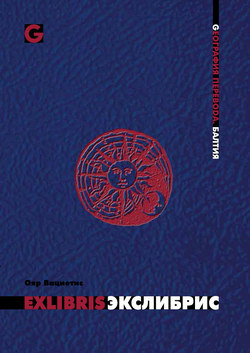Читать книгу Экслибрис - Ояр Вациетис - Страница 4
Правописание молнии
Zibens pareizrakstība, 1980
ОглавлениеВойдем в это лето
Давай войдем в это лето,
вечное лето,
что было прежде леса и ветра,
что было и грело
предкам руки,
в мозоли
одетые.
И сложим каждый свое тепло,
тепло заячье
и тепло речное
с теплотой человечьей –
как мы без слов условились
ночью черемухи
на мосту столетий.
То, о чем там условлено,
без слов условлено,
есть призвание
твое и суть;
и всеми голосами
твоему кворуму
сделка на мосту повелевает:
будь!
И мы сотрем паутину,
рутины патину
вдвоем на пороге,
чисты и просветленны
в лето войдем
трепетно, как
если бы нас ожидали
боги.
Вечное это лето –
божественно,
взгляни,
как облако реет гордо,
войдем с тобой,
вольный мужчина
и вольная женщина,
а вовсе не гонимые алчбой
оторвы.
II
Алчбой гонимые перекати-поле, оторвы,
доля их жизнь или кошелек.
И не облачные нимбы реют гордо,
но ореол мученика,
уготованный лету.
И, стоит мне молча
трусливо
позволить
всем этим лес жечь,
зверя бить,
воду мутить,
то уже и нами
не рожденным
детям по золе к лету
// своему придется ползти.
Лето ждет
тенью мертвой, саваном
черемухи
над падью в омуте.
– Надо бы,
надо бы вам наскрести вот
столько
жалости, чтобы
обо мне вспомнить!
III
Мое лето,
вечное лето
пра- и прапрадедов,
пра-, прапрабабушек,
правнуков, правнучек,
океан безбрежностей
моих, ты
вечное лето,
не смей о смерти!
С тобой умрут
все былые, грядущие, сущие
нежности.
И у земли разорвется
сердце.
Всё впору
Ребенок и голубь.
Охота.
Попусту – знают оба.
Мне впору такая охота.
Мне всё впору.
Яркая оплеуха солнца
на ящике мусорном.
Впору.
Не знаю,
куда их суну,
но впору тот запах,
тот шорох,
что воровато лезет мне в ноздри:
– Знаешь, а снег тает. –
И та, уходящая
вдаль аллея с вечностью
заподлицо.
И даже вечность,
что через дорогу бережно дедок
несет как яйцо.
Всё впору.
Вот-вот мне придется сотворить мир.
А у меня, как назло, пока нет
ни запаса пиломатериалов,
ни тех семи дней,
что были у Бога.
«Есть у меня дикорастущего…»
Есть у меня дикорастущего
злака свобода
посреди этой ночной пустыни.
Корни рвутся
к подземным истокам,
голова – сквозь облако.
У ног –
озаренные звездами простыни.
Есть у меня неприрученного
зверя свобода,
посреди полночного города.
Одни тени заставляют
бесшумно красться
по-кошачьи,
другие огни заставляют
затаиться в тени
по-тигриному,
третье чувство восторга –
стрижом выстрелить в воздух.
У меня свобода,
у меня естественный
собственный ритм.
Я подстроил сердце
к этому ритму,
чтобы безжалостная
вселенная, проснувшись,
// чужого не навязала.
Нет, мир не так уж плох –
просто он по-отцовски
испытывает мою стойкость.
«Мне доводилось…»
Мне доводилось
не соединяться и не смыкаться,
но –
коротко замыкаться,
и тогда расплавляются
контакты
и – мое время сгорает, в то
время как нам с тобой нужно
быть единым целым.
Это не от невнимания,
но – от спешки,
от страха задержаться
и быть задержанным.
Стало быть, не из-за апломба,
а нашего спокойствия ради
я в каждом
новоприбывшем
мерю токи крови.
Нет ничего опасней
когда двоих вдруг
закоротит.
«Как перелетные птицы…»
Как перелетные птицы
туманной весной
к руинам
в несуществующую больше Елгаву
все же вернулись,
так сегодня,
вчера
и завтра куда-то возвращаются
люди.
Как перелетные птицы –
с печальными песнями,
звонкими
или глухими,
к руинам возвращаются
люди.
Сегодня,
вчера ли,
завтра –
стыдясь
своей птичьей доверчивости,
возвращаются
люди.
Я тоже,
бывает,
курлычу, как перелетная птица,
мой крик печален –
кто знает,
может, я возвращаюсь
к руинам?
Ожидание
Над черной тушью
речной уснувшей
я жду, что начнется пахота,
и журавлей,
которым давно бы пора
быть на суше.
Я жду серебряного пара
полей
и серебристого
жаворонка.
Жду упорно, наверняка,
и от этого делаюсь тонок,
как стебель
той земли,
на которую едва смел
выползти,
но в которую войду
смело.
Я верю,
что, приходясь сыном ей,
не солью или алмазной
жилой,
бываю трава-мурава
и бываю –
прель,
но почти никогда –
// не выжига.
Я кровью и плотью
ей принадлежу,
надеждами
и наваждениями,
над черной тушью
речной уснувшей,
я в ожидании еще одного
своего рождения.
«Отапливаемые центральным отоплением…»
Отапливаемые центральным отоплением
никогда не бывают согреты,
как нужно –
где только можно,
когда только можно,
они разводят костры,
и плывут, плывут
в этом живом огне,
и смотрят, смотрят
застывшими глазами
в этот живой огонь,
с ностальгией,
с эмиграцией
в этих застывших глазах.
Господи,
пожалей их, они так красивы.
В разжигании огня
есть свои первоклассники,
гимназисты,
магистры,
академики,
мэтры и подмастерья,
но нет несогревшихся.
Разводят огонь
чем угодно
и, в общем, всюду,
он хорош для всего:
варить еду,
сушить одежду,
сунуть руку
и клясться.
Это уж как когда.
«Чтобы я еще раз прыгнул в огонь…»
Чтобы я еще раз прыгнул в огонь –
зарекаются обгоревшие,
стонут и стенают ночами,
отращивая новую кожу
в невыносимой борьбе
с нешуточной болью,
и невообразимая
эта борьба без конца,
нескончаемый этот плач,
а также ужасные ожоговые раны
докучают.
И – едва боль проходит –
ты бросаешься на поиски
еще какого-нибудь
огня.
«Я рад…»
Я рад,
что тогда ошибся,
и то, чего я боялся,
вышло зверью на пользу.
Я боялся
тех красных ягод
на снегу
и выше –
в стеклянных сучьях,
ибо, будучи человечьей породы,
я видел там
капли крови…
И –
как стынущей красной
картечью стволы набивает
голод…
И голодная птица
стынет, превращаясь
в ледышку…
Оказалось –
красные капли
на снегу
и выше, в стеклянных сучьях,
и есть те самые угольки,
у которых любая птица
может греться
// до весны,
пока я не вышел
жечь и палить повсюду
мои костры зеленого цвета,
несущие, отцветая, красные угли
жизни.
«Пальцы сплел я на затылке…»
Пальцы сплел я на затылке,
под небесным синим душем
самого себя придумал.
За Двиной в садах укропа.
Зонтики античной вязки
кружева плели над нами,
тени стройные бросая.
За Двиной в садах укропа.
Бабье лето резким светом
письмена укропных кружев
мне на коже выжигало.
За Двиной в садах укропа.
Так, расписанный по брови,
сам собой я был прописан
и по новой переписан
за Двиной в садах укропа.
Закрыты глаза
Закрыты глаза, и поезд идет обратно!..
Ты. Билетная касса.
Ты. Трамвай до вокзала.
Ты. Чемодан. Собираешься.
Нет. Дальше!
Прошлый новый. Год.
Позапрошлый.
Нет. Дальше!
Выбегаешь в одной сорочке.
А мимо
настоящий красивый
пахнет первым бензином.
Тебе страшно,
что всё – понарошку.
Ты спряталась в ивах,
Все равно страшно.
Ты летишь, вцепившись
в крылья бабочки.
Тогда были
такие большие бабочки.
И, стоя на ровном месте,
видишь лишь
щемяще зовущие пропасти.
Открыты глаза, мчит поезд на всех парах…
Но, стоит закрыть,
то опять обратно.
«У тебя дожди…»
У тебя дожди.
У тебя –
я знаю – дожди.
Я иду по сухим пескам,
жарким настолько,
что подошвы горят,
жарким настолько,
что высыхает взгляд
и у тех, что плакали,
белая соль в глазах…
И жар в этих
соленых глазницах.
У тебя же
грибные дожди,
я знаю – грибные дожди,
иначе откуда
взялась бы эта радуга между
нами?
«Буду любить тебя…»
Буду любить тебя
в желтых соцветьях,
спрячу тебя
в желтых соцветьях
от желтых зрачков
кота лесного,
от мертвой иволги желтой
спрячу.
Белую, белую тебя спрячу
от пожелтения
и рассеяния
ветром желтым.
Любимая,
буду любить тебя
в желтых соцветьях!
«Покажи мне сторону…»
Покажи мне сторону,
где закат живет.
Наглухо заделаю ее,
мне бы не хотелось,
чтобы солнце село.
Бега тонких стрелок
мне бы не хотелось.
Пульс такую
резкую выбивает дробь,
из календарей,
из часов-минут выбывает время.
Время это кровь.
«Не плачь…»
Не плачь.
Ты соснам моим над обрывом подмыла корни.
Хватит.
Уже и вода зацвела корягами черными.
О них
разбивается круглое лунное блюдо.
А те,
что промышляют орехами на берегу,
в омуте, полном
коряг, купаться не будут.
Не плачь.
Пока что.
Тебе
У меня есть щемящее, щемящее чувство,
что вселенная, в которой я обитаю,
много раньше твоей может быть разрушена.
Никто не спрашивал – так уж вышло,
ты же да не останься одна и грустна –
море нежности из берегов не вышло.
Тем уже, что случилась ты у меня,
век мой оправдан, свят и солнцем пронизан,
и я перед ним смиренно склоняюсь.
Спокойно протягиваю смерти руку,
ведь наша близость близкого ближе,
что всё одно исключит любую разлуку.
«Твои слова меня…»
Твои слова меня
влекут, словно
волны, вплавь
в мистическом свете
Луны –
в них весомость, в них невесомость, и
память скользит вдоль ресниц снежной
совой, я застыл на месте, а ты меня
несешь и несешь еще и еще…
Твои слова меня
обжигают, как клекот поленьев иззябшие
руки решившего клясться, отогревают
их для восхожденья, сдирания кожи, я
должен быть на вершине, где встала,
лавиной застыв, и зовешь, и зовешь еще
и еще…
Твои слова меня
ранят, словно шипы ладонь без
перчатки, я бьюсь о них птичьей грудью
жемчужной, скоро по ней прольется
оранжевый жемчуг, ведь слова эти
рвут, продираясь к кровному братству,
пожалуйста, рви меня, рви еще, и еще, и
еще…
Но глубже всего пред тобой меня
заставляет склониться до самой земли
та тишина между слов, та нагота
между слов и то, что позволено мне в
обнаженности этой до боли счастливой
застыть, ожидая – что же еще, что еще и
что еще…