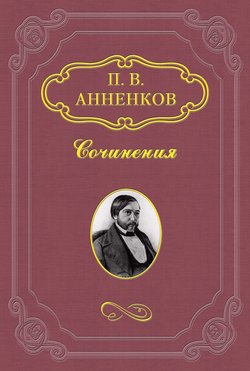Читать книгу Письма из-за границы - Павел Анненков - Страница 2
II
ОглавлениеБерлин. 10-го января 1841 года.
С первым дыханием весны я буду в Италии. Я счастлив, друзья! В Берлине К<атков> хотел было засадить меня за книгу, да я вырвался и прямо побежал в погреб, где пьянствовал Гофман{27}. Там, под картиною, изображающею Гофмана в ту минуту, как, устремив масляные глаза на Девриента, вынимает он часы и напоминает знаменитому пьянице-трагику о времени идти в театр на работу, а Девриент, как школьник, почесывает в голове и высоко поднимает прощальный бокал, – там уселся я и пил иоганнисберг. Тут я сам профессор, и такой же гениальный по своей части, как Вердер{28}, Гото{29} и Ранке{30}. Вообрази, что недавно один путешествующий чудак (еще из ученых!), выслушав несколько лекций в Берлине, сказал: «У меня пот выступил от умных вещей, которые я здесь слышал» (здесь очень много смеются над этим восклицанием). Ну, если у ученого выступил пот, то у меня, профана, должна уж выступить кровь; а потому, сберегая благородную кровь фамилии А<нненковых>, я предался площадям, погребам, картинным галереям, дворцам, музеям, театрам и т. п. Немецкий язык делается, сказать без скромности, очень ручным и начинает уж приходить есть ко мне из собственных рук моих. Я почти так же знаю по-немецки, как Фарнгаген{31} по-русски, потому что у Е<лагиных>{32} видел я книжку «Отечественных записок»{33}, которая была в руках Фарнгагена, в которой читал он повесть Гребенки «Верное лекарство»{34}: первые две страницы порядочно помараны черточками под словами, ему незнакомыми. Всех отчаяннее черточки были те, что стояли под словами мозоль, морщина, стклянка и т. п. И потому я советую Гребенке больше не употреблять этих слов.
Любо мне было видеть в Берлине студентскую серенаду. Студенты, восхищенные лекциями профессора, нанимают музыкантов, приходят под окна учителя и после увертюры поют песни в честь науки, университета и преподавателя. Такую серенаду давали при мне профессору археологии. Старик вышел на балкон, все скинули шапки; он благодарил за честь, примолвил, что вдохновение слушателей сообщается профессору и что, может быть, лучшие соображения преподавателя зависят от этого взаимного энтузиазма. Вообще, университет поглощает всю жизнь и все толки лучших голов Берлина{35}; а для нашей братьи, имеющей несчастье носить на плечах весьма посредственные, существует изрядненький балетец. Гропиус{36} за безделицу построит вам целую кучу фантастических дворцов, а г-жа Тальони (сестра нашей по мужу){37} пляшет посереди водопадов, бамбуковых деревьев, солнечных лучей и лунного блеска. Танцы здесь состоят, по старой методе, в преодолении таких трудностей, что индийский фокусник разинул бы рот от удивления, – да еще в неистовом метании ног на воздухе. Но бог с ними! Скажу вам нечто лучшее, а именно нечто о великом актере Германии Зейдельмане{38}. Я видел его в роли Полониуса{39} и в роли Мефистофеля в Гётевом «Фаусте», который – сказать между прочим – от совершенно бесталанности актера, игравшего самого Фауста, от выпуска многих сцен, от совлечения лирического характера, от частых перемен декораций, сделался на сцене весьма похожим на плохую бульварную парижскую мелодраму. Но Мефистофель!.. О, мне ужасно хотелось бы дать вам понятие о Зейдельмане в этой роли. Кажется, у <Боткина> есть транспарант с изображением Мефистофеля, по рисунку Ретча{40}: ну, это наружность Зейдельмана. Невозможно более отделиться от собственной личности; притом же, он еще создал какие-то особенные ухватки, свидетельствовавшие о его чертовском происхождении: так, он беспрестанно выправлялся, как будто испанская куртка помяла его крылья, ходил неровно и большими шагами, как будто копытцам его неловко в узких башмаках; страшная улыбка, не сходившая с лица с начала до конца пьесы, довершала различие его от окружающих его людей. Но это только наружная отделка роли; внутренняя еще совершеннее. Несмотря на видимую зависимость от Фауста, он господствовал Над ним всею силою своего духа, а когда снизошел он до волокитства за старою вдовою, ирония была поразительна. Высокий комизм этой сцены он умерял страшным вожделением, с каким смотрел и приближался к Гретхен, сочетая таким образом глубокое трагическое впечатление с комическим. Из всего этого, вы еще ничего не поймете; но у меня Мефистофель, созданный Зейдельманом, стоит до сих пор за плечами. Говорят, что торжество его – «Нафан Мудрый» Лессинга{41}, но я не видал его в этой роли. Что же касается до Полониуса, который у нас на сцене дурачится, словно желая вознаградить публику за обязательный приход ее на такую скучную драму, как «Гамлет», – то здесь дело совсем другого рода. В буффонской сцене с королем он мастерски выказал иронию Шекспира на людей, которые мелким умишком своим хотят пояснить великие явления, а интриги и пошлости светские считают колоссальными происшествиями. Все сделалось мне ясным в этом человеке после Зейдельмана, и все неровности, на которые я прежде натыкался, пропали, как будто их никогда и не бывало.
Не буду описывать вам столь известные прямые и однообразные улицы Берлина, а также и новейшие его здания в игрушечном роде: род архитектуры, доведенной здесь до совершенства, как то видно в Wewer-Kirche, построенной на манер готической, и в музеуме Шинкеля{42}…