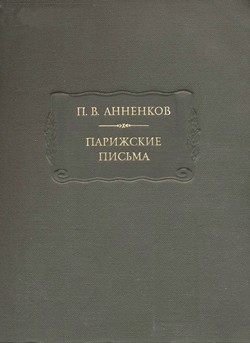Читать книгу Парижские письма - Павел Анненков - Страница 1
I
Оглавление8-го ноября 1846 года.
С чего начать о Париже? Разве с брошюрного мира, который к новому году заволновался непомерно, словно сумасшедший перед полнолунием. Брошюрная литература в последние три месяца имела, как вы знаете, несколько фазисов. Она шипела по-змеиному около выборов{1}, свистала потом на Ротшильда и компании железных дорог{2}, а теперь разразилась альманахами. Сколько их, сколько их! Социальные, популярные, и проч. и проч. Полфранковики так и скачут у меня за ними: это походит на травлю. Меня более всего тешат усилия каждой партии говорить с народом народно и перетащить его на свою сторону. Уж как они захваливают его и какие шелковые ковры расстилают под ногами его: только удостой немножко поваляться в теории нашей! Один из этих альманахов, «de la France démocratique»{3}, взыскан честью преследования. Его отобрали во всех книжных лавках, еще не известно за что. За литографию ли, изображающую медаль скульптора Давида в честь ларошельских сержантов{4}, за статью ли против палаты пэров, или за простонародные песенки на палату депутатов, которые не совсем глупы. Вот образчик:
Le chambr' c'est un coup d'oeil unique.
Et c'théâtre est en vérité
Bien plus gai qu' l'Ambigu-Comique
Et plus comiqu' que la Gaité! (bis)
Aux pièc's qu'on r'présent-les premièrs,
L'jour est sombr'dans c'local fermé,
Mais on y voit beaucoup d'lumières
Sitoit qu' l'lustre est allumé.
Остальное все в романтическо-торжественном тоне Пьера Леру, который теперь в своем «Revue sociale»{5} изменил теорию распределения богатств в обществе, так что часть каждого работающего определяется уже не талантом его, а действительною нуждой (selon le besoin). Но где мерило? Эта крайняя степень, до какой может дойти сумасбродство сердца благородного и добродетельного! Остается только распределять общественные богатства по темпераментам, по расположению к брюнеткам и блондинкам (то-то бы хорошо!) и т. д. Странно, что о книге «Cosidérations économiques» до сих пор не говорит еще ни один из журналов{6}. Уж не хотят ли они похоронить ее, как это бывает здесь, молчанием за железную стойкость автора посреди партий и презрение к ним? Говорят, что Луи Блан{7}, доктрина которого разбита в прах автором, поседел от негодования. А что – если бросим в сторону религиозные колебания автора «Considérations économiques», читали ли вы когда-нибудь книгу, которая яснее и убедительнее доказала бы, что цивилизация не может отречься от самой себя, что все ее победы, как-то: машины, конкуренция, разделение работ и прочее, невозвратно принадлежит человечеству, и что единственная помощь для общества заключается не в благонамеренных способах исцеления, предлагаемых со стороны, а только в отыскании закона, по которому богатства развиваются правильно и сами собою?..
Толпы народа бегут в Saint-Germain l'Auxerrois смотреть вновь реставрированный портал его. Нынешним утром потянулся и я за ними и вынес оттуда весьма горестное впечатление, которое намерен разделить с вами. Внутренность портала и ажурные фронтоны дверей заняты фресками Виктора Мотте (Mottez){8}, изображающими историю Спасителя, с распятием над главным входом. Расчлененные столбы, образующие этот портал или галерею, покрыты во впадинах своих фигурами из Ветхого и Нового завета{9}: выдумка весьма неудачная, потому что каждая фигура чудовищно жмется в этом узком пространстве и перегнута на самое себя. Это, впрочем, еще не самое противное. Главные фрески выдержаны в тоне новой римской школы. Уж не говорю о бедном чахоточном колорите, о рисунке без твердости и силы, о разрывчатости всего создания, но замечаю только новый факт в истории мистической живописи: во Франции она стала замещать гримасой – выражение, вместо духовного упоения – является у нее ступидитет[2], с вашего позволения, и страшное, отчаянное отсутствие всякой мысли, делающее то, что произведения ее походят на кафтан, ловко набитый, но висящий на палочке. Так искусство, оскорбленное в существе своем, отмщает ложным пророкам своим!.. Я дожидаюсь выставки, чтобы поговорить с вами на просторе об этом предмете. Знаете ли, что мне кажется? Мне кажется, что живописцы XIV и XV столетия, тречентисты и кватрочентисты, напрасно считаются людьми, переводившими в искусство божество и откровение. Они занимались выражением собственных религиозных созерцаний, а не определением божества, как отдельного мира, как объекта. Это было дело одного византийского искусства, а потому оно одно и свято. Наше отечество частью до сих пор сохранило ее предания, в Европе же искусство это утерялось еще ранее Джиотто и Фан-Дейка{10}, то есть XIV столетия. Вспомните, например, падуанские фрески Джиотто{11}. Тут главная задача, положенная художником, состояла в том, чтобы отыскать красоту формы для религиозных сюжетов и уловить выражение страсти, которая со всем тем проявляется у него еще весьма общно и неиндивидуально. Божественность сюжета тут только данная для посторонней и ему чуждой цели. Указывают обыкновенно на школу Перужино{12}, на его задумчивые лица, спокойствие всех представлений и святую тишину, разлитую в них. Очень хорошо; но надо весьма небольшое внимание, чтоб увидеть, как все это принадлежит только личности художника. Как повторялся до Перужино, так и после него будет повторяться тот неизменный закон, по которому наш ум, силясь разрешить жизненные противоречия, создает грациозную мечту и за нею спасается от всех диссонансов, бурь и треволнений. Что тут есть общего с представлением божества, да и не профанация ли искать его в человеческой слабости, хотя и выраженной глубоко художнически? Перейдем к Фра-Фиезоле{13}, который особенно цитируется приверженцами мнения, оспариваемого мною. Здесь личность выступает еще сильнее. Где ярче выразилось католическое монашеское воззрение на жизнь, как не у этого монаха? Не есть ли каждая его картина призыв к католическому монастырю, к музыкальной обедне, к торжеству обряда, к детям красивым, как ангелы и возвышающим кадила, к толпе доминиканцев, благоговейно стоящих перед престолом? Все это, может быть, очень похвально (а художественно оно чрезвычайно), но общего определения божества искать тут не следует. Другое дело – византийское искусство! С самого зародыша своего имело оно целью чисто и просто напоминать Его. Зная, что лик человеческий не в состоянии дать никакого пояснения в этом случае, оно создало свои условные типы, имея в виду только разбудить частное сознание и поднять его к внутреннему созерцанию божества. Так точно некогда было и в Европе. Кто не видел знаменитой Pala d'ora в храме св. Марка{14} в Венеции? Это собрание мозаичных картин по золотому полю, изображающих события Нового Завета и черты из жизни святого Марка, деланные в самом Константинополе в X столетии. Искусство занято тут не тем, чтоб осмотреть каждое явление со всех сторон и выразить его в наибольшей полноте, а напротив, взять только сторону самую простую, намекнуть ею без всяких подробностей о происшествии и представить все остальное благочестивому воображению самого зрителя. Искусство, как бы пораженное ужасом, отказывается от всех своих притязаний, но это-то самое и упрочивает ему сильное влияние. И так всегда поступает искусство символическое. Все же, что было сделано после Византии, и все, что будет еще делаться, несмотря ни на какие порывы и стремления, всегда было и всегда будет результатом личности человека, принадлежать только человеку и объясняться его понятиями, наукой, историей и никогда не выходить из этого круга! Не так ли?..
Мне случайно попался здесь на днях один славянский «Сборник»{15}. Так как я давно уже не имел в руках русской книги, то с радостью пробежал первую статью: «О современном направлении искусств пластических»{16} (прилагательное на конце для колорита). Мы с вами, кажется, говорили когда-то о невыгодах сильного литературного образования.
Знайте же, что самый блестящий пример способности беседовать о всяком предмете без изучения его находится, к великому моему изумлению, не здесь около меня, в Париже, под колоннадой Магдалины, а там около вас, под стенами Китай-города. Мастерство вводить лица и сказать о них именно все то, что – смею выразиться так – связано почти со звуками их имен, но сказать особенным оборотом, как будто заключающим новую мысль, это мастерство очень порядочно развито у вас. Иногда, конечно, от трудности работы бывают и промахи. На стр. 34, при суждении о Меркурии скульптора Джиованни Болонского{17} я встретил, например, следующий период: «Не просто, непосредственно вылилась она (статуя): художник стремился придать особенную легкость и подвижность фигуре, утончая и облегчая формы тела: он не чувствовал, каков есть, не знал, каков должен быть Меркурий, и потому в произведении заметна какая-то односторонность…» Я подходил к этому периоду и справа, и слева, и en face[3]: все напрасно. Он, как чудовищный сфинкс, продолжал смотреть на меня тупо и безжизненно. Прибавьте еще к этому старческую, особенно неприятную хитрость избегать результатов собственных положений, когда они открывают существенную, светлую сторону противной партии. Самая религиозная школа живописи в Италии, по мнению автора, была Умбрийская{18}. Она несомненно выросла в лоне латинизма, но чтобы отделаться от уважения к нему, автор придумал следующую фразу (стр. 45): переход Умбрийской школы к другому направлению «доказал бессилие западного католицизма удержать в пределах религии ни живописи, ни тем более других искусств» и проч. и проч. Очень ловко! Еще одна любопытная черта в этой статье. Некоторые из периодов ее до такой степени общи, что, как флаг, могут развеваться по воле ветра во все стороны. Так и видно, что у них нет корней ни в труде, ни в мысли. Впрочем, мне иногда это кажется следствием тех софистических и праздных диспутов, за которыми большая часть нашей молодежи теряет всякое чувство истины. Посмотрите сами (стр. 43): «Но сильное развитие других сторон жизни, независимых от искусства, и внутреннее сознание самого художества, пробуждаемое теоретическими направлениями, препятствует искусству удалиться от жизни действительной, как это было во время цвета академии»… Поставьте вместо препятствует способствует – мысль будет в той же степени верна, как теперь: так отвлеченна она и так походит на тему для диспута! Статья эта заставила меня крепко задуматься о нашем образовании, о классе общества, который его получает, и об употреблении, какое он делает из него. Уяснилось мне одно следующее: замечание о чужой гнилости еще не есть признак собственного здоровия… Но довольно об этом.
Жизнь течет здесь в Париже пока еще весьма тихо и вяло, чему особенно способствует катастрофа орлеанского наводнения. Многие говорят, что и полное издание повестей Бальзака под титулом «Comédie humaine»[4] немало помогло развитию общественной грусти. Не могу удержаться, чтобы не передать вам одно замечание о Бальзаке, слышанное мною или в театре или за обедом: «Сочинения Бальзака походят на корзинку ходячего стекольщика: каждое стекло само по себе весьма тускло, а вместе взятые, они составляют массу, непроницаемую для света». Очень мило!.. Движение около театров однакож начинает, видимо, усиливаться. В Ambiqu Comique имела успех, и, что называется, колоссальный, новая драма Сулье «La closerie des genêts»{19}. Дело тут в двух отцах, подозревающих каждый свою дочь в незаконном составлении ребенка и вследствие сего позволяющих себе самые отчаянные тирады и поступки. Все улаживается, впрочем, благополучно после многих испытаний и страхов. Умный посредник, маркиз из помиренных легитимистов, успевает освободить обольстителя от жены, насильно ему навязавшейся, и возвратить его к ногам жертвы, между тем как он, сам маркиз, берет, вероятно, за комиссию, невинную ее подругу. В первые представления одобрение публики близко подходило к энтузиазму. Это заставило меня еще раз серьезно подумать о болезни, полученной мною еще в молодости, и которую, за неимением лучшего, я называю: позывом к художественности{20}. Всякий раз, как удавалось задавить этого червячка, гнездящегося во мне, глаз мой прояснялся, и я чувствовал себя здоровее. Нынче, выгнав его одною художественною статьей из славянского «Сборника», о которой уже упомянуто, я тотчас понял причину общего восторга и законность его. Все лица драмы взяты из жизни и верно выражают уровень, проходящий по всем слоям французского общества. Бретонский мужик с крестиком св. Лудовико за Вандейскую войну{21} подает братски руку наполеоновскому генералу с почетным Легионом{22}. Блестящий замиренный маркиз{23} стоит между крестьянскою девушкой и барышней в дружественных отношениях, понимаемых и тою, и другою. Отпускной солдат из Алжира{24} идет рука об руку с артистом из Парижа. Не забыта даже дама большого света, родословная которой начинается в бедной хижине; но она несколько оклеветана, и это чуть ли не существенный недостаток пьесы. Вот на каких лицах зиждется вся драма, и теперь понятно, отчего с первого раза вызвала она сочувствие публики.
Вам, может быть, приятно будет узнать новую шутку неугомонного Кабе{25}. Он уже давно на последнем листе своего «Populaire» печатает похвальные письма самому себе, получаемые от лиц всех сословий. Ныне сообщает он новый вариант панегирика. Какой-то господин, будучи при смерти, поместил в завещании: «объявить Кабе глубочайшую благодарность за минуты наслаждения, доставленные мне, завещателю, чтением икарийской системы»{26}. Почтенный покойник! Это, однако, еще не лучшая шутка Кабе. Он повздорил с фаланстерианцами{27}. Спор вышел, кажется, из того, чтоб узнать, которая из двух партий более облагодетельствовала человечество. Из желания очистить поскорее этот пункт Кабе предлагает Консидерану{28} нанять общими силами большую залу в хорошем квартале города и держать публично диспут о достоинстве обеих теорий, как во времена Абеляра. Дело остановилось за безделицей – за позволением. Вероятно, администрация, мало заботящаяся об интересе писем из-за границы, лишит меня удовольствия видеть одно из любопытнейших заседаний, какие представляло последнее десятилетие. Это тем более правдоподобно, что «National» возбудил презрительный смех в консерваторах, потребовав для работников публичных заседаний и права говорить о выгодах и невыгодах снятия таможен, как о деле, в котором они всего более заинтересованы, между тем как противники таможен, пэры и мануфактуристы, получили позволение составить общество и иметь заседания. Какая же тут, бога ради, зала для фантасмагорий Кабе и Консидерана и для публичных прений о том, чтоб узнать, где будет слаще пить и есть, в Икарии или в фаланстерах?
Сегодня хоронят старика Дюперре{29} у Инвалидов, но на дворе холодно и сыро – и у меня нет охоты смотреть эту церемонию…
До следующего письма.