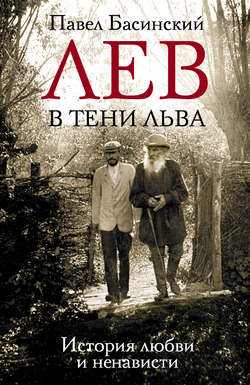Читать книгу Лев в тени Льва. История любви и ненависти - Павел Басинский - Страница 23
Глава третья
Где тонко, там и рвется
В студенческой фуражке
ОглавлениеУчеба в университете с самого начала не заладилась.
«Устроившись в Москве, во флигеле, где жена дворника готовила ему самый простой обед, щи, кашу и для развлечения, как говорил Лёва, блинчики, он начал ходить в университет, на медицинский факультет, куда пошел с мыслью приносить людям существенную пользу. С каким-то болезненным любопытством, изучая анатомию, ходил Лёва по подвалам, где лежали мертвецы, готовые к препарированию, как выражались студенты», – пишет Софья Андреевна в «Моей жизни».
Вместе с товарищем Иваном Раевским они даже купили человеческий скелет, «которым страшно напугали прислугу».
Для нервного и впечатлительного юноши трудно было вообразить более ненормальную атмосферу, чем анатомический театр. Но Лёва упрям и в первый месяц учебы начинает посещать занятия выдающегося физиолога Ивана Михайловича Сеченова, который преподавал на старших курсах, «…слушал с большим интересом, – пишет он матери, – хотя опыты над лягушкой были довольно противны. Лягушку распинают гвоздиками на дощечке, обнажают ей нерв, на который наводят электрический ток, лягушка корчится, шевелит лапками, изо рта ней течет кровь, а профессор с интересом и важностью рассказывает студентам от чего какие происходят действия. Это очень гадко с непривычки, хотя если жалко лягушку, то что же я буду делать, когда надо будет резать собак и кошек. В анатомическом театре каждый день густой и едкий трупный запах. Принюхиваюсь… но все-таки воняет и сказать, чтобы можно было привыкнуть к этому запаху, я думаю, невозможно. Когда приходишь домой или где-нибудь в гостях, везде в носу остается этот запах».
Не очень вписался он и в студенческую среду.
«У меня был на факультете близкий товарищ Ваня Раевский, – пишет Лев Львович в воспоминаниях, – с которым мы вместе ходили на лекции; но у обоих нас не хватало энергии, чтобы, как наши товарищи, энергичные и неизбалованные евреи, которых была суетливая толпа, освоиться со всеми неудобствами и недостатками университетского обихода и принять их безропотно».
Однако ссылка на Раевского неудачна. Раевский успешно закончил московский университет в отличие от Льва.
Причина его неудач коренилась в нем самом. Один из тех «энергичных и неизбалованных евреев», о которых он пишет с барским высокомерием, оставил о Лёве Толстом свои воспоминания: «Как курьез вспоминаю мой разговор с товарищем по первому курсу, сыном Льва Николаевича Толстого, малосимпатичным Львом Львовичем. В то время он отрабатывал очередные препараты по анатомии. Но даже приходя в анатомический театр, он подчеркнуто звал швейцара, чтобы тот снял с него шинель. Вообще он держался как типичный белоподкладочник, графский сынок. На мое предложение записаться в группу для занятий по физиологии растений он ответил отказом и в оправдание стал совсем уж неосмысленно ссылаться на то, что его отец, Л. Н. Толстой, доказал ненужность и бесполезность ботаники как науки. Я посоветовал ему не ссылаться так необдуманно на Л. Н. Толстого и уже не возобновлял с ним этого разговора» (З. Г. Френкель. «Записки о жизненном пути»).
При этом он вовсе не был неженкой и разболтанным юношей. Приехавшая в ноябре 1889 года в Москву с дочерью Татьяной Софья Андреевна нашла, что сын устроился жить один весьма прилично. «Остановились мы у Лёвы во флигеле дома в Хамовническом переулке. Он был нам очень рад, а я по-матерински была рада видеть, как хорошо он жил. Везде порядок, чистота, признаки культурных привычек и вкусов. Стоял рояль, висела и балалайка на стенке, было много книг; всё было скорее бедно в обстановке, но всё гармонировало одно с другим. Он усердно ходил в университет и абонировался на симфонические концерты».
Судя по некоторым письмам и почтовым карточкам, присланным из Москвы в Ясную Поляну, в отсутствие матери Лёля вел за нее дела по продаже собрания сочинений отца с оптового склада, который находился во дворе московского дома. Одно из таких писем написано на бумаге со штампом: «Склад изданий сочинений Гр. Л. Н. Толстого. Москва. Долго-Хамовнический переулок, № 15. Гр. Софьи Андреевны Толстой».
Но было в его натуре что-то, не позволявшее пристать ни к одному делу. И медицинский факультет был только началом этой длинной череды неудач.
«Мне был чужд и язык профессоров, в котором пятьдесят процентов слов были научные галлицизмы, чужд и противен вонючий анатомический театр, где мы резали человеческие трупы; отвратительна вивисекция, когда знаменитый профессор Сеченов душил и мучил морских свинок, крыс, лягушек и кроликов, наконец, чужда была сама студенческая среда, с которой находил мало общего».
В самом начале учебы, осенью 1889 года, он не выдержал и приехал в Ясную Поляну… «Как восторгался Лёва после зрелища мертвецов в подвалах университета нашей красивой яснополянской природой! – пишет Софья Андреевна. – Он ежедневно ходил на охоту и убил тогда 12 вальдшнепов…»
В марте 1890 года он решает оставить медицинский факультет и поступить на филологический. Поначалу-то он собирался вообще бросить университет и пойти служить… во флот. Но для этого нужна протекция влиятельного мужа его тетки, сенатора Кузминского. А «дядя Саша» не соглашается помочь без позволения родителей. А родители уже понимают, что с Лёвой происходит что-то неладное.
«Это вечное искание, любопытство новых ощущений и стремление к чему-то новому, лучшему – осталось в нем на всю жизнь и во многом мешало ему», – пишет его мать.
Однако она не договаривает главного. В начале самостоятельного пути Лёва начинает копировать поведение отца в молодости. Точно так же Толстой-старший, поступив в 1844 году в Казанский университет на филологический факультет и проучившись один курс, перевелся на юридический факультет, чтобы через полтора года бросить и его, отправившись в Ясную Поляну вести хозяйство.
В прошении об увольнении из университета восемнадцатилетний Лев Николаевич Толстой писал: «…по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам». В «Опыте моей жизни» Лев Львович Толстой так объяснял свой уход с медицинского факультета: «…вследствие общей ненормальной атмосферы, царившей в нашей семье, мое здоровье было подорвано, несмотря на мои природные силы».
Оба Толстые решительно не вписывались в студенческую среду.
О поведении Толстого-старшего в Казанском университете мы знаем из воспоминаний Валериана Никаноровича Назарьева, опубликованых в журнале «Исторический вестник» в ноябре 1890 года, когда сын Толстого перешел с медицинского факультета на филологический. Но читал ли сын эти воспоминания об отце? Не просто читал, а был до такой степени возмущен, что написал возражения на воспоминания о молодости отца, то есть о том времени, когда Лёвы еще не было на свете!
Поступок был настолько странный, что Лев Николаевич вынужден был в осторожных выражениях объяснять сыну, почему этого делать не следует. «Статью не надо печатать и не надо также писать. Если неприятны бестолковые и ложные суждения, то лучшее средство, чтобы их было как можно меньше, ничего не отвечать, как я всегда делал и считаю даже нужным делать…»
Говоря народным языком, Лёва лез поперед батьки в пекло. «Назарьев – только придирка, – возбужденно писал он отцу. – Можно и другого выбрать. Пожалуйста, напиши. Уж очень заврались о тебе, что же мы за дураки такие молчать, раз надо сказать, чтобы все острастку имели».
Иными словами, он убеждал отца защитить свои честь и достоинство. А если нет, это сделает за него его сын!
Но что такого страшного было в воспоминаниях Назарьева?
В них Толстой представал в неожиданном освещении. Молодой барчук, холодный и надменный. «В первый раз в жизни встретился мне юноша, преисполненный такой странной и непонятной для меня важности и преувеличенного довольства собою… – писал Назарьев. – Изредка и только на лекциях истории, обязательных для всех факультетов двух первых курсов (исключая медиков), сталкивался я с графом, примкнувшим, невзирая на свою неуклюжесть и застенчивость, к небольшому кружку так называемых аристократов. Он едва отвечал на мои поклоны, точно хотел показать, что и здесь мы далеко не равны, так как он приехал на рысаке, а я пришел пешком». Граф сразу оттолкнул Назарьева своей «напускной холодностью, щетинистыми волосами, презрительным выражением прищуренных глаз».
Вот его рассуждения об университетской науке. «А между тем, – заключил Толстой, – мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси в деревню, на что будем пригодны, кому нужны?»
Не себя ли увидел Лёва в этом кривом отражении?
Ведь за несколько месяцев до появления воспоминаний Назарьева он сам писал матери о причинах, по которым решил бросить университет: «…по письму вы можете подумать, что я в скверном настроении, напротив, я очень доволен, совершенно искренне говорю, и бросаю университет с легкой душой, без всяких сомнений и не от «простой лени», а по разным соображениям, побуждениям, убеждениям».
Что же это были за убеждения?
«Зачем вообще нужен университет?» – задается он вопросом в письме к матери. И сам отвечает: «Юристы, чтобы на каторгу ссылать (так на днях видел на вокзале ужасные сцены, проводы ссыльно-каторжных на Сахалин), филологи, чтобы в гимназиях мучить и вытягивать лучший сок из молодежи… а мы, медики, чтобы в больницах людей живых резать и убивать их».
«Что же остается? “Так что же нам делать?” Деревня, деревня и деревня. Оттуда надо бомбардировать, а если не можешь, так сидеть смирно и по крайней мере спокоен будешь и больше сделаешь».
Всё замечательно. Но это не его мысли. Недаром в письме приводится название статьи отца «Так что же нам делать?».
Отец рано понял эту главную проблему сына. Поэтому и отговаривал его от того, чтобы бросать университет. «Не делай этого. Мало того, что не делай этого, не ослабляй своего напряжения к занятиям, не ослабляй, а увеличивай сознание нравственного долга продолжать занятия… Оно правда, что если у тебя это намерение кончить курс завинчено только в верхние планки людского мнения и самолюбия, то их легко отодрать и оно отстанет. Крепко будет только тогда, когда прихватишь винтами за сознание долга перед своей совестью и Богом. И потому если не довинчено, винти. Я тебе отвертку дам, коли твоя не берет. Ну вот. А то это-то апатия: зачем ходить? к чему? да что?»
В сентябре 1890 года Лёва уже ходит на филологический факультет. Но и здесь ему нехорошо, неспокойно.
«Опять латынь, греческий, переводы, опять тоска…» – пишет матери. А в апреле 1891 года в письме к ней чистосердечно признается, что не может держать экзамены на второй курс.
«Дочел я свои лекции и увидал, что экзамены держать я не могу, не только потому, что я плохо знаю, но также и главное потому, что я стар и вся эта процедура экзаменов мне до того противна, что я именно не могу, не то что не хочу или воображаю себе что-нибудь, – проделывать всю эту комедию».
«Я стар», – пишет он. Ему еще не исполнилось двадцати двух лет.