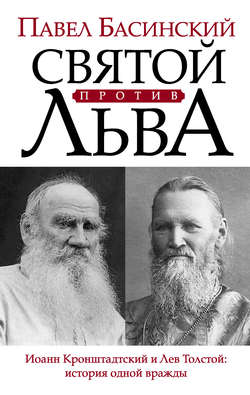Читать книгу Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды - Павел Басинский - Страница 5
Глава первая
СВЯТОЙ ЛЕВ, ПАПА РИМСКИЙ
ТАЙНА МАТЕРИ
ОглавлениеМы много знаем о матери Льва Толстого. Мы знаем, что не было в мире другой женщины, которая оказывала бы такое сильное влияние на его религиозное чувство. Но понять суть этого влияния трудно.
Между тем в этой тайне матери, возможно, заключено объяснение того, что мы называем «религией Толстого», неважно – принимаем мы эту религию или сурово отрицаем.
Толстой боготворил свою мать. Он молился на нее. «Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне», – сообщает он.
Одним из самых важных религиозных принципов Толстого был отказ от Бога-Личности, Бога Живого, его убеждение, что Бог есть «неограниченное всё». Возникает искушение предположить, что в образе матери Толстой восполнял для себя эту болезненную утрату – не иметь возможности ощутительного соединения с Богом. Об этом однажды написала из Шамординского монастыря его сестра Мария Николаевна Толстая – полная тезка их матери и к тому же внешне похожая на нее: «… я тебя очень, очень люблю, молюсь за тебя, чувствую, какой ты хороший человек, как ты лучше всех твоих Фетов, Страховых и других. Но всё-таки как жаль, что ты не православный, что ты не хочешь ощутительно соединиться с Христом… Если бы ты захотел только соединиться с Ним… какое бы ты почувствовал просветление и мир в душе твоей и как многое, что тебе теперь непонятно, стало бы тебе ясно, как день».
В образе матери Толстой и восполнял это недостающее звено между безличностным Богом, которого просто невозможно любить, и им самим, Львом Толстым, человеком с крайне повышенной чувствительностью или с тем, что он сам называл беспредельной потребностью любви…
Но здесь мы сталкиваемся с поразительным противоречием. Толстой не знал своей матери. Она умерла после родов Маши в 1830 году, когда Льву не было и двух лет. Ее портреты не сохранились, кроме черного силуэта, на котором, как гадают специалисты, она изображена то ли совсем девочкой, то ли взрослой девушкой. О том, что сестра Маша похожа на нее, Лев знал лишь по свидетельству старших братьев и тетушек.
Конечно, Толстой был великим художником, и ему ничего не стоило вообразить свою мать, чтобы ощутительно молиться ей. В конце концов, девушки XIX века могли повально влюбляться в Андрея Болконского, как об этом вспоминала писательница Тэффи. Как же гимназисткой негодовала она на автора «Войны и мира» за то, что князь Андрей у него визжит, чего в ее представлении быть просто не могло!
Однако здесь возникает второе противоречие. Да, Толстой не помнил своей матери. Он не знал ее лица, ее голоса. Но о личности Марии Николаевны Толстой-Волконской он мог составить себе вполне ясное представление из тех бумаг, что остались после нее и хранились именно в Ясной Поляне. Толстой самым внимательным образом читал эти бумаги, что следует из его «Воспоминаний». Он хорошо знал, какими были реальные отношения между матерью и ее мужем (его отцом), между матерью и отцом (его дедом). Собственно, личность Марии Николаевны и была восстановлена будущими биографами Толстого из этих бумаг. Это ее проза, ее письма, ее дневник. И всё это Толстой хорошо знал.
Но зачем-то он придумал себе мать совсем не такой, какой она была на самом деле. Великий реалист, заставлявший князя Андрея визжать, а Наташу Ростову – тщательно мыть уши перед первым балом, Толстой оказался совершенным идеалистом в создании мифа о матери.
Начало сотворения этого мифа – в «Детстве»; его продолжение – в «Войне и мире»; его завершение – тот загадочный культ матери, который Толстой исповедовал в старости.
Когда в 1908 году Толстому сказали, каким удивительным человеком была Мария Николаевна, он, едва сдерживая слезы, возразил:
– Ну, уж этого я не знаю; я только знаю, что у меня есть culte к ней.
В это же время он пишет в дневнике: «Не могу без слез говорить о моей матери». И – чуть раньше: «Нынче утром обхожу сад и, как всегда, вспоминаю о матери, о “маменьке”, которую я совсем не помню, но которая осталась для меня святым идеалом».
«Не знаю»… «знаю»… «вспоминаю»… «не помню»… Каждый раз, говоря о матери, Толстой словно сознательно заставлял себя напрягать свое мощное воображение, свое поэтическое чувство там, где факты подсказывали вполне ясные ответы. С Богом Толстой поступал как раз противоположным образом: он пытался соединиться с Ним мыслью, а не ощутительно.
Непостижимого Бога он старался постичь умом, а земной и вполне постижимый образ Марии Николаевны он наделял неземными чертами и делал святым идеалом женщину, о которой сохранилось немало живых свидетельств, говорящих, что Мария Николаевна хотя и была личностью незаурядной для своего времени, но точно не святой.
Ее отец Николай Сергеевич Волконский был умным и гордым человеком, прекрасным военным чиновником и еще более замечательным помещиком. Существует легенда (возможно, что и вполне достоверная), которую очень любил его знаменитый внук, в молодости не просто уважавший своего деда, но и стремившийся ему подражать. Будто бы Волконский отказался жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт, сказав: «С чего бы он взял, чтобы я женился на его б…» Отзвук этой легенды мы найдем в повести «Отец Сергий»: князь Касатский узнаёт, что любимая девушка – любовница императора, и это решительно меняет его судьбу. Князь Волконский служил в царствование Екатерины II и Павла I. Он то бывал близок ко двору, то подвергался опале. Завершил службу в качестве военного губернатора Архангельска и уволился в чине генерала от инфантерии. Вероятно, это было связано с тем, что вступивший на престол Павел недоверчиво относился к офицерству, выдвинувшемуся в царствование его матери.
И на то были основания. Н.С.Волконский не был фрондером, но был человеком независимым. Старый князь Болконский в «Войне и мире» списан с него довольно точно. Это, в частности, касается и его религиозных воззрений.
«Николай Сергеевич, – пишет в ставшей библиографической редкостью книге “Мать и дед Л.Н.Толстого” старший сын писателя Сергей Львович Толстой, – не только не был богомолен, но был равнодушен к православию и даже в душе – вольнодумцем (libre penseur). Это следует из подбора оставшихся после него книг и из того, что в Ясной Поляне не осталось никаких следов от какого бы то ни было отношения его к православию. Между тем при его богатстве он легко мог построить церковь в Ясной Поляне – на деревне или у себя на усадьбе; он этого не сделал, а строил дома и хозяйственные постройки. Конечно, он исполнял церковные обряды, считая, что так нужно, но, вероятно, он относился к ним только формально.
Возможно, что Николай Сергеевич был масоном; намеком на это может служить нахождение в его библиотеке старинного масонского песенника 1762 года вместе со статутами масонов».
Был ли Николай Сергеевич масоном, нам неизвестно. Но хорошим хозяином – был. После смерти он оставил дочери образцовое имение Ясная Поляна (Ясные Поляны, Ясное) с красивой усадьбой, разбитой в стиле парадиза XVIII века, с английским парком, системой искусственных прудов, недостроенным трехэтажным барским домом и полностью завершенными хозяйственными постройками, о которых его внук Лев Толстой потом писал: «Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны».
Тот факт, что Николай Сергеевич так и не построил на деревне своего храма, говорит не столько о его равнодушии к религии, сколько о хозяйственных приоритетах. К этому же стоит отнести и то, что барский дом он не достроил, а вот хозяйственные постройки завершил. Его зять, Николай Ильич Толстой, тоже не позаботился о строительстве в Ясной Поляне храма, но вот в купленном им незадолго до смерти имении Пирогово церковь все-таки заложил – слишком далеки были от деревни другие приходы. Свой приход повышал статус нового села, следовательно, и самого имения; кроме того, служил к укреплению нравственности крестьян.
«Дед мой считался очень строгим хозяином, – пишет в своих поздних “Воспоминаниях” Лев Толстой, – но я никогда не слыхал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства».
О деде Толстого можно судить по сохранившейся полулегенде-полуистории: Александр I, проезжая мимо Ясной Поляны, обещал заехать к Волконскому, но проспал станцию; тогда Волконский немедленно запряг лошадей, догнал императора и уже из-под Тулы привез его к себе домой.
Волконский рано овдовел. Его жена Екатерина Дмитриевна (урожденная княжна Трубецкая) умерла в 1792 году, через два года после рождения дочери Марии, которая оказалась единственным ребенком (другая дочь умерла в детстве) и наследницей своего властного отца. Мария Николаевна стала полусиротой (без матери) в том же возрасте, что и ее младший сын Лев. Возможно, что это тоже как-то объединяло Льва Толстого с образом его матери.
В биографии Марии Николаевны Волконской есть один темный период. Непонятно, кто именно воспитывал ее с 1792 по 1799 год, когда отец по долгу службы находился в постоянных разъездах. Интересно, что отец Льва Толстого, Николай Ильич, до своей смерти в 1837 году тоже постоянно и надолго отлучался из Ясной Поляны. Этого требовали заботы о приобретенных им новых имениях. Таким образом, до восьмилетнего возраста Лев Толстой тоже хотя и жил с отцом, но воспитывался не им, а бабушкой, тетушками и, разумеется, учителями и гувернерами.
Поселившись навсегда в Ясной Поляне, Н.С.Волконский крепко взялся за воспитание единственной дочери и за двадцать два года, до своей смерти в 1821 году, создал из нее хотя и не свое полное подобие, но личность незаурядную.
О том, как отец воспитывал дочь, мы знаем из двух ее сохранившихся тетрадок. Одна озаглавлена «Некоторые примечания, ведущие к познанию хлебопашества в сельце Ясная Поляна». Сведения тщательно записаны печатными буквами, вероятно, под диктовку Николая Сергеевича. Вторая тетрадь имеет название «Примечания о Математической, Физической и Политической Географиях». На обложке, по-видимому, рукой Николая Сергеевича надписано: «Для княжны Волконской». Направление понятно.
«Математика – великое дело, моя сударыня, – говорит княжне Марье старый князь Болконский в “Войне и мире”. – А чтоб ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу».
Кроме отца у Марии Николаевны были и другие учителя. Она получила прекрасное образование: знала три иностранных языка и, что было редкостью для женщин ее круга, замечательно говорила и писала по-русски, а не только по-французски.
Хозяйственные заботы не мешали Волконскому предаваться эстетическим удовольствиям, которые занимали в его жизни и жизни дочери важное место. «Вероятно, он также очень любил музыку, – писал в «Воспоминаниях» Лев Толстой, – потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата, вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял по аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения…»
Его дочь Мария Николаевна была натурой одаренной. Ее перу принадлежит не только ярким и живым языком написанный дневник, рассказывающий о путешествии с отцом в Петербург, но и подражательная, в духе Ричардсона, повесть в двух частях «Русская Памела, или Нет правила без исключения».
Наиболее важным документом для понимания ее взглядов, в том числе и на религию, является дневник, озаглавленный «Дневная Запись для собственной памяти». Перед нами предстает личность, совсем не похожая на княжну Марью. В ней нет ни тени религиозной экзальтации, ни малейшего желания уйти из мира и скрыться в монастыре, как о том мечтает любимая героиня Толстого, нет даже просто интереса к религиозным вопросам. Разумеется, нельзя сказать, что Мария Николаевна была атеисткой. Но и глубоко верующим человеком она не была.
В Петербург из Москвы Волконские выехали 18 июня 1810 года. Марии тогда было девятнадцать лет. Из дневника видно, что, несмотря на молодость, у нее был зоркий глаз, прекрасное чутье на людей и несомненный литературный дар. При иных условиях она могла бы стать крупной писательницей. А самое главное – она была натурой умственной, критической и совсем не запуганной отцом, как княжна Марья. Это был сильный и самостоятельный характер, под стать ее отцу.
С княжной Марьей ее роднила только непривлекательная наружность. Московский почт-директор А.Я.Булгаков писал своему брату, петербургскому почт-директору К.Я.Булгакову в 1822 году: «Княжна Волконская, дочь покойного Николая Сергеевича, с большими бровями, старая девушка, дурная собой…» Однако в дневнике молодой Марии Николаевны не заметно, чтобы она сильно переживала по поводу своей внешности, а тем более хотела бы уйти из мира в затвор. Наверное, переживания были, но они тщательно скрыты, что говорит об огромном самообладании, несомненно воспитанном в ней родителем.
Юная особа, впервые выехавшая в дальнее для нее путешествие, она смотрит на мир смело и открыто, не боясь выносить суждений и оценивать жизнь критически.
«21-го числа отправились мы опять в путь в седьмом часу. Отъехав около 25 верст, увидели мы колодезь, очень хорошо отделанный, и как мы спросили, то нам сказали, что это есть колодезь святой воды и что тут близко часовня, в которой находится явленный образ Казанской Богородицы. Услышав сие, велели мы подъехать к колодезю, вышли из кареты, выпили несколько воды и пошли пешком до часовни; она очень хорошо построена, и хотя в простом вкусе, но вид ее внушает почтение. Мы вошли, приложились к образу, и батюшка поговорил со сторожем, который подтвердил нам предание о явлении сего образа около двухсот лет тому назад. Хотя невероятно, чтоб в столь неотдаленном времени творились еще чудеса, но как народ не может постигать умственного обожания Бога, то такие предания производят в нем большое впечатление…»
Взгляд Марии Николаевны на «предания» холоден и ироничен. Это взгляд молодой аристократки, столкнувшейся с чуждым ей народным культом и имеющей всему готовое объяснение. Она знает, что и двести лет назад чудес быть не могло, но главное – что эти чудеса нужны только невежественному народу, но уж никак не ей, постигшей «умственное обожание Бога».
Мария Николаевна Волконская, хоть ей и девятнадцать, была уже развитой девушкой. Для нее Великий Новгород – город, «который был столицей России и часто противился великим князьям». Она высказывает пророческое предположение, что народы Африки когда-нибудь наводнят Европу и «изобретения и труды наших современников послужат добычей диких народов». Она восторженно отзывается о Екатерине II. В Петербурге отец возит ее не на балы, а в Эрмитаж, в Академию, в Кунсткамеру, на стеклянную, шпалерную и ткацкую фабрики, на прусский корабль, где ее восхищает вежливость иностранных матросов, на французские пьесы «Медея» и «Свадьба Фигаро».
После посещения Гостиного двора и различных лавок они заезжают в Александро-Невский монастырь, где недавно построили новую церковь. «Сия церковь чрезвычайной красоты и великолепия; она построена в простом и благородном вкусе. Все образа, которые в ней находятся, суть мастерские дела лучших живописцев… Мы посмотрели также монументы и отдали долг почтения праху Суворова», – пишет Мария Николаевна в дневнике, ни слова ни говоря о мощах св. Александра Невского.
Были они и в Исаакиевской церкви. «Внутренность ее понравилась мне больше, нежели наружность. Она чрезвычайно великолепна, убрана мрамором, и в ней есть прекрасные барелиефы…»
Через несколько дней они с отцом отправились в Исаакиевский собор уже на обедню, но почему-то опоздали. «Как мы тут стояли, прошла мимо нас дама, которая узнала батюшку. Это была Анна Петровна Самарина (фрейлина Екатерины. – П.Б.); она очень обрадовалась, встретивши нас, обласкала меня и принудила нас сесть с нею в карету и ехать к ней». Это вполне светское отношение молодой барышни к таинству богослужения еще более отчетливо проявляется в ее дневниковой записи двумя днями раньше, когда она, находясь в гостях у близких знакомых отца князей Голицыных, с удовольствием слушает, как князья Голицыны после сытного обеда поют «Отче наш» и «Да исправится» «как самые лучшие певчие».
Несомненно, Мария Николаевна Волконская уже в молодые годы была очень умной женщиной. В ее дневнике записаны мысли, которые не мог не оценить ее будущий великий сын:
«В ранней молодости мы ищем всё вне себя. Мы призываем счастье, обращаясь ко всему, что нас окружает; но мало по малу всё нас отсылает внутрь самих себя».
«Иногда не предмет нашей любви делает нам честь, а то, что мы в нем любим».
«Нередко мы могли бы устоять против наших собственных страстей, но нас увлекают страсти других людей».
От кого из своих близких родных Лев Толстой мог перенять аналитический склад ума и независимость суждений, которые поражали его современников и в которых противники Льва Толстого находили пресловутую «гордыню ума»?
Во-первых – от деда Николая Сергеевича Волконского. «Ежели кому нужно, то тот из Москвы 150 верст доедет до Лысых гор, – говорит в «Войне и мире» старый князь, – а мне ничего и никого не нужно».
Во-вторых – от матери, дневник которой он читал.
В-третьих – от старших братьев, Николая и Сергея.
Когда произошло обращение Толстого к вере? Во всяком случае, это точно не было связано с непосредственным влиянием на него матери, а тем более старших братьев, которых она отчасти успела воспитать. В «Исповеди», в этом поворотном для мировоззрения Льва Толстого произведении, мать не упоминается, за исключением единственного места, к которому мы вернемся. Нигде там не говорится, что старшие братья как-то помогли ему обрести веру в Бога.
Скорее, они влияли на него противоположным образом: «Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны».
Конечно, речь здесь идет не только о старших братьях. Но и о старших братьях тоже. Ведь именно старшие братья были самыми близкими «большими».
«Николеньку я уважал, с Митенькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им». «Николеньку я любил, а Сережей восхищался…» «С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему».
«Зеленая палочка»… Да, именно Николенька придумал эту игру в «муравейное братство». Именно он «объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья.) И я помню, что слово “муравейные” особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились на стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу…»
С тайной «муравейных братьев» была связана и другая детская тайна. Эта тайна, «как он (Николенька. – П.Б.) нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю Старого Заказа…» Известно, что Толстой завещал похоронить себя именно в этом месте, и это завещание было выполнено. Но продолжим цитату из его «Воспоминаний»: «… на краю Старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь закопать мой труп, просил в память Николеньки закопать меня».
По сути Толстой завещает предать земле «в том месте» самое-самое, с его точки зрения, ненужное, бесполезное.
Между тем историю о Моравских братьях, чешских масонах, могла рассказать Николеньке только его мать Мария Николаевна. Она была «большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа», – сообщает Толстой. В свою очередь, об этом мог рассказать ей отец, дед Толстого, который увлекался масонством.
Эта история вместе с воспоминаниями о невинной детской игре в «муравейных братьев», вероятно, подпитывала живыми соками в позднем Толстом его мысли о всеобщей любви и людском братстве. И он мог не обращать внимания на явное противоречие между игрой, где дети отгораживались от других людей, а не объединялись с ними, и тем, что проповедовал взрослый Лев Толстой.
«Никакой розни в миросозерцании между отцом и дочерью, как это мы видим в “Войне и мире” (например, в религиозных вопросах), в дневнике Марии Николаевны не заметно», – пишет биограф Толстого Н.Н.Гусев, и с ним придется согласиться.
Мария Николаевна скончалась в том же году, когда Пушкин написал «Мадонну» («Не множеством картин старинных мастеров…»). Толстой любил это стихотворение. Так не видел ли он в личности матери «чистейшей прелести чистейший образец»? Нет, и этого нельзя сказать. Слишком живой и непосредственной была его молитва к «маменьке»! Толстой молился своей реальной матери, воспринимая себя как плоть от плоти и кровь от крови ее.
Толстой знал, что маменька любила его больше всех сыновей, после того как Николенька, став большим мальчиком, отошел от ее прямого влияния. Она называла своего Лёвочку mon petit Benjamin[2]. Конечно, Толстой не мог не задумываться над тем, откуда взялось это странное материнское прозвище. Понятно, что к имени Лев оно не имело отношения. Это подтверждается хотя бы повестью «Детство», где Толстой вывел себя под именем старшего брата Николая, но при этом оставил свое домашнее прозвище Benjamin. Вениамин – имя, заимствованное из Библии. Оно происходит из древнееврейского языка и означает «счастливчик, везунчик» (в переводе – «сын правой руки»). По Библии Вениамин был самым младшим сыном Иакова. Его мать Рахиль, которая умерла при родах, назвала его Бенони – «сын боли», но Иаков изменил это имя на Вениамин.
В «Записках сумасшедшего» Толстой вспоминает о первых детских размышлениях: «Я люблю няню; няня любит меня и Митеньку; а я люблю Митеньку; а Митенька любит меня и няню. А няню любит Тарас; а я люблю Тараса, и Митенька любит. А няня любит маму, и меня, и папу. Все любят, и всем хорошо».
Ранняя смерть матери, которой он совсем не знал, не помнил, тем не менее до такой степени потрясала Толстого, что именно эту смерть он сделает ключевой сценой в повести «Детство» и заставит себя самого пережить ее въяве, как если бы он находился тогда в сознательном возрасте. Со смертью матери для Николеньки Иртеньева заканчивается его детство, хотя детство самого Льва Толстого в это время еще только начинается.
В религиозном чувстве Толстого к своей матери есть какая-то глубокая загадка, которую мы не решим рациональным путем. Но можно осторожно предположить, что это религиозное чувство именно в силу своей непостижимости как бы увлажняло слишком сухой рационализм толстовской религии, или толстовства.
Он мог не посещать церковь, мог отказаться от икон. Но совсем отказаться от мистической стороны религии он не мог. Потому что без мистики любая религия не просто теряет очарование, а теряет всякий смысл. На месте отвергнутого Богочеловека обязательно должен возникнуть другой Богочеловек.
Да… Ты, маменька, ты приласкай меня!
Уже один факт, что Толстой верил в чудесные последствия от молитвы к мертвому человеку, говорит о многом.
В подтверждение нашего предположения приведем самое сильное место в «Исповеди», где Толстой отказывается от попытки умственного обоснования религии и пишет о ней художественно – как великий писатель:
«Но опять и опять с разных сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? – Опять Бог».
2
Мой маленький Веньямин (франц.).