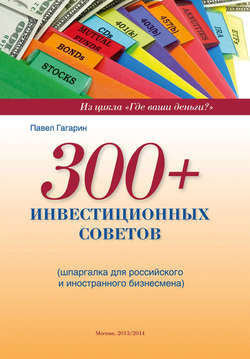Читать книгу 300+ инвестиционных советов - Павел Гагарин - Страница 3
Раздел 1. Управление рисками
10 факторов юридических несоответствий и рисков при реализации инвестиционных проектов
ОглавлениеПравовую систему России многие иностранные инвесторы характеризуют как «зона турбулентности» и «юридический хаос». Действительно, одни правовые и нормативные акты устарели, к тому же механизм их реализации несовершенен, другие законодательные акты, нужные инвесторам, еще не приняты, а многие необходимые – даже еще не разрабатываются. многие из тех, что написаны, часто безграмотно встроены в действующее законодательство. ряд федеральных законов противоречит друг другу (например, институциональные противоречия отдельных статей ГК и НК РФ), а также региональному законодательству.
В правоприменительной практике пока не достигнут необходимый уровень единообразия, несмотря на усилия высшего арбитражного суда. последний, кстати, сейчас объединяется с верховным судом, который, по общему признанию предпринимателей, проигрывает вас по многим показателям. принцип преюдиции, существующий в судебной практике РФ, не может компенсировать отсутствие прецедентного права, официально признанного, например, в великобритании и США.
В таких условиях российские юристы, отстаивающие интересы предприятий с иностранным участием (СП) в российских судах, имеют гораздо большие шансы на успех, чем их западные коллеги, у которых нет такого опыта работы в нашей стране.
А практика показывает, что оптимален рабочий альянс западного и российского юриста. Первый вносит в этот тандем современную методологическую и управленческую составляющую, а россиянин полезен своим опытом и знанием специфики российского законодательства. Подобный синергетический эффект необходим при защите интересов как российских, так и иностранных бизнесменов во время реализации их инвестиционных проектов в России.
1. Отсутствие актуального законодательства о холдингах.
В России десятки лет работают сотни холдингов, но до сих пор нет федерального закона «О холдингах». При этом многие нормативно-правовые акты из этой сферы утратили свою актуальность. Федеральный закон от 30.11.1995 № 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах» действовал до 2007 года. В настоящее время деятельность холдингов регулируется лишь «Временным положением о холдинговых компаниях», утвержденным Указом президента РФ «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий» № 1392 от 16.11.1992 г., но, понятно, что это «Положение» не может соответствовать требованиям современной жизни.
2. Отсутствие законодательства о проектном финансировании.
Как показывает наша аудиторская и консалтинговая практика, до 80 % проектов, которые реализуются в России в режиме проектного финансирования, имеют юрисдикцию Великобритании, Нидерландов, Люксембурга и ряда других стран, так как там – в отличие от РФ – есть законы, регламентирующие и защищающие эту деятельность.
В Республике Казахстан, кстати, с 20.02.2006 г. действует закон «О проектном финансировании и секьюритизации», принятый для сближения правовой базы страны с законодательствами западных стран. В нем предусмотрены новые понятия в сфере проектного финансирования. Этим законом, в частности, предусматривается механизм такого финансирования с участием государства, где определен порядок замены исполнителя проекта в случае нарушения существенных условий базового договора, а также правила выбора временного исполнителя. Также предусматриваются особенности выпуска облигаций при проектном финансировании.
Этот, как мы считаем, позитивный пример, целесообразно было бы перенять России – конечно, с необходимыми корректировками.
3. Трактовка налоговиками взаимозависимости юридических лиц как недобросовестности.
Закон № 227-ФЗ о новых правилах контроля за трансфертным ценообразованием, вступивший в силу с 1 января 2012 года, ввел в деловой оборот понятие «контролируемых» и «приравненных к ним» сделок. Это позволяет налоговой службе трактовать взаимозависимость как недобросовестность и доначислять за это различные налоги, пени и штрафы. Особую актуальность данный вопрос приобрел после объявленного в начале 2013 года президентом России курса на «деофшоризацию» и разработке «национального плана» борьбы с отмыванием. Ряд российских холдингов вынуждены в настоящее время менять структуры владения и управления своими активами, систему импорта/экспорта, исключая в них прямую и даже опосредованную аффилированность с офшорами.
4. Устаревший федеральный закон об инвестиционной деятельности.
Федеральный закон № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» был принят еще в 1999 г. Несмотря на то, что в него регулярно вносятся «косметические» поправки, сама основа закона остается прежней – далекой от современных реалий. Она не учитывает изменения в федеральном законодательстве и правоприменительной практике, произошедшие за 14 лет.
5. Отсутствие четкой концепции в вопросах правового регулирования государственно-частного партнерства на федеральном уровне.
Вопросы ГЧП регулируются в России более чем 80 нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней, а также множеством подзаконных актов. В них немало противоречий, не говоря уже о том, что трактовать нормы тоже можно по-разному.
Федеральный закон «Об основах государственно-частного партнерства», принятый во втором чтении депутатами Госдумы (по состоянию на октябрь 2013 г.), не сразу разрешит эту ситуацию, систематизирует деятельность и выстроит логически непротиворечивую юридическую картину. Правоприменительная практика по нему сформируется только через два-три года. К тому же, на наш взгляд, этот закон является в значительной степени декларативным и слабым в правовом отношении. Реальные изменения касаются лишь понятия «концессия», отраженного в НК РФ. Концессия теперь стала частным случаем ГЧП, наряду с «контрактом жизненного цикла». Эти 2 реально действующих в России формы ГЧП из 7 существующих в мире – они применяются в ряде проектов по строительству ТПУ (транспортно-пересадочных узлов), дорог и некоторых других социально значимых объектов.
6. Отсутствие во многих регионах РФ эффективных механизмов реализации ГЧП (несмотря на наличие местных законов).
Исключения по состоянию на октябрь 2013 года составляют экономически развитые регионы, такие как Санкт-Петербург, Татарстан, Самарская область, а также специально созданные инновационные кластеры и ОЭЗ (особые экономические зоны).
Региональные законы о ГЧП, принятые более чем в 70 субъектах Федерации, в большинстве своем имеют рамочный характер. В Москве вопросы ГЧП регулируются различными распоряжениями и постановлениями (например, Постановление Правительства Москвы от 04.08.2009 № 722-ПП «О порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых на территории г. Москвы», Постановление Правительства Москвы от 24.06.2008 № 567-ПП «О плане действий по развитию ГЧП в г. Москве на 2008–2011 годы» т. д.). Часто подобные проекты управляются властью «в ручном режиме». Принимать городской закон о государственно-частном партнерстве, как следует из заявлений мэра, московские власти в ближайшее время не планируют (хотя разработка его продолжается силами Центра правовых экспертиз при Правительстве Москвы и другими экспертами).
Механизм реализации ГЧП-проектов прописан, в частности, в «Стандарте деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе» (подготовлен Агентством стратегических инициатив). Пока этот механизм реализован лишь частично, но он уже работает. Стандарт предусматривает предоставление личных гарантий инвесторам от главы региона. Это дает возможность управлять инвестиционными проектами в регионах также «в ручном режиме». Этот подход, безусловно, нельзя назвать системным, но все-таки он позволяет держать главе региона на личном контроле ход реализации значимых инвестиционных проектов.
7. Отсутствие единообразия в правоприменительной и арбитражной практике с участием субъектов хозяйственной деятельности.
Одни и те же коллизии могут трактоваться судами по-разному, и при этом нужно, увы, признать, что независимых судов в России нет.
Показательный пример одного из наших клиентов. По предоплате им перечислили деньги за выполнение работ. Работы были выполнены, но договор при этом подписан так и не был. Их недобросовестные контрагенты, мотивируя тем, что договор не заключен, потребовали деньги обратно как ошибочно перечисленные. И юридически были правы. Пришлось «Исполнителю» подавать на «Заказчика» в суд с целью доказать, что реально договорные отношения все-таки существовали, предоставлять деловую переписку, платежные документы, протоколы рабочих встреч и т. д. И только в кассационной инстанции факт договорных отношений был признан имевшим место.
Юридический комментарий
Бывают ситуации, когда у судов существуют разные мнения при одинаковых обстоятельствах дел. Так, есть две позиции судов по вопросу о применении к договорам аренды помещений положений п. 2 ст. 652 ГК РФ о правах арендатора на земельный участок при аренде находящегося на нем здания (сооружения). Согласно первой позиции, пункт 2 ст. 652 ГК РФ применим к договору аренды помещений в здании (ФАС Северо-Кавказского округа от 24.08.2011 по делу № А32-50665/2009; Постановление ФАС Московского округа от 11.10.2007 № КА-А40/10477-07 по делу № А40-1736/07-107-13; Постановление ФАС Уральского округа от 27.12.2005 № Ф09-5856/05-С7). По второй позиции п. 2 ст. 652 ГК РФ к договору аренды помещений в здании неприменим (Постановление ФАС Московского округа от 05.06.2007, 13.06.2007 № КА-А40/4838-07-2; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.01.2004 № А05-6248/03-9).
Неоднозначная практика существует и по вопросу о том, признаются ли согласованными существенные условия договора купли-продажи акций, если они указаны в передаточном распоряжении. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29.11.2010 по делу № А15-2690/2009 – в пользу согласованности, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 28.08.2009 по делу № А79-92/2009 – диаметрально противоположная позиция. Споры субъектов по таким вопросам могут завершиться непредсказуемо.
8. Отсутствие единообразия в понимании юридического статуса субъектов и договоров, регулирующих хозяйственную деятельность.
Связано это как раз с отсутствием единообразия в судебной практике. Отсутствует прогрессивный западный судебный принцип common law – закон с точки зрения здравого смысла (принимая во внимание существующие прецеденты) в действии. Вот и получается, что у нас зачастую буква закона важнее самого закона.
9. Несоответствие федерального и местного законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность в ряде регионов РФ.
Один наш московский клиент решил открыть туристический бизнес на Камчатке. В процессе получения лицензии и ряда разрешений для посещения заповедников и экотуризма он на себе испытал, насколько сильно местные законы отличаются от московских и противоречат федеральным, что чуть было не отказался от своего плана. «Чтобы решить вопросы с местными властями, на Камчатке нужно прожить всю жизнь», – говорил он в досаде.
Другого рода сложности для «пришлых» бизнесменов существуют на Кавказе (в том числе в ОАО «Курорты Северного Кавказа»). Регион богат природными ресурсами, но напряженная политическая ситуация, монополизм местных структур, бюрократия, клановость, огромная зависимость от федерального бюджета и «несовместимое с инвестициями» местное законодательство мешают привлечению инвесторов в местный бизнес.
10. Различия юридической терминологии в России и в других странах (кросс-культурный барьер).
В качестве примера приведем уже упомянутый казахский закон «О проектном финансировании и секьюритизации». В нем применяется термин «оригинатор» (юридическое лицо, осуществляющее уступку прав требования при заключении сделки секьюритизации). В России же термин «оригинатор» применяется в сфере сельского хозяйства и продовольствия и имеет следующее значение: физическое или юридическое лицо, которое создало, вывело, или выявило сорт растения или породу животного и (или) обеспечивает его сохранение, но не является патентообладателем.
В Казахстане в рамках данного закона применяется термин «банк-кастодиан», на счетах которого хранятся выделенные активы специальной финансовой компании. В России данное понятие отсутствует.
«Выделенные активы» в Казахстане – результат уступки прав требования исполнителя по базовому договору при проектном финансировании, а также в результате уступки прав требования оригинатора при секьюритизации в пользу специальной финансовой компании и в результате заключения иных договоров по созданию дополнительного обеспечения в сделках проектного финансирования и секьюритизации. В российском законодательстве термин «выделенные активы» не определен.