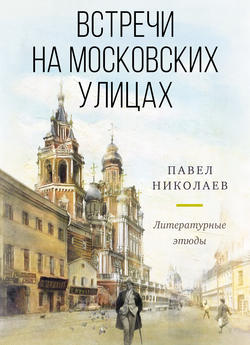Читать книгу Встречи на московских улицах - Павел Николаев - Страница 2
Вокруг Кремля и Китай-города
ОглавлениеНоги и уши для мыслей вслух. Соавторы знаменитых «Двенадцати стульев» И. А. Ильф и Е. П. Петров не только вместе писали, но и гуляли вдвоём, впрочем, это тоже была работа. Юморист Виктор Ардов свидетельствует:
– Очень часто Ильф с Петровым ходили гулять, чтобы думать и разговаривать, медленно отмеривая шаги. Сперва любителем таких прогулок был только Ильф, но потом он приучил к этому «творческому моциону» и своего друга. Много раз я видел их идущими по Гоголевскому бульвару, будто бездельничающими, а на деле – занятыми самой серьёзной работой.
Обязательное пребывание два-три часа на свежем воздухе было для Ильфа жизненной необходимостью: этого требовали состояние его здоровья и малоподвижный образ жизни. «Если меня спросят, – писал Ардов, – что делал Ильф всю свою жизнь, я не задумываясь отвечу: читал. Он читал едва ли не всё то время, какое проводил в бодрствующем состоянии. Он проглатывал книги по самым различным вопросам – политические, экономические, исторические и, разумеется, беллетристические.
Он читал ежедневно десять-пятнадцать газет. Ему было интересно решительно всё, что происходило и происходит на земном шаре. Первое впечатление об Ильфе было всегда таким: перед вами очень умный человек. Очень умный».
Способствовало длительному пребыванию на воздухе и увлечение Ильи Арнольдовича фотографией, о чем Евгений Петров говорил с комической грустью:
– Было у меня на книжке восемьсот рублей и был чудный соавтор. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора.
После ранней смерти Ильфа (1937) Петров выбрал себе напарника для прогулок в лице В. Е. Ардова. Жили они в одном доме – Лаврушинский переулок, 17. Евгений Петрович заходил к соседу по утрам и говорил с шутливой сварливостью:
– Нечего, нечего, ленивец! Надо гулять! Гулять надо! Почему вы не гуляете? Почему?
Ходили по Лаврушинскому переулку, Кадашёвской набережной, через мосты Малый и Большой Каменные на Кремлёвскую набережную. Это был их постоянный маршрут, а поэтому хорошо отложился в памяти Виктора Ефимовича:
– Москва-река, тогда уже принявшая в себя волжские воды и поэтому всегда полноводная, по-весеннему сверкала совсем близко к серому каменному парапету новой набережной. С елей на бульварчике, тянущемся вдоль Кремлёвской стены, ещё не сняли проволочных оттяжек, укреплённых при посадке, но видно было, что ёлочки хорошо принялись. По новому гудрону набережной неслись машины. Беленький катерок тарахтел на реке, вынырнув из-под Каменного моста. По только что отстроенным новым высоким мостам – Большому Каменному и Москворецкому – двигались трамваи и автобусы, в обе стороны сновали машины и шли бесчисленные пешеходы.
Евгений Петрович часто останавливался, любуясь пейзажем столицы, и говорил одобрительно:
– Москва принимает настоящий столичный вид. Вот такой пейзаж не в каждом европейском городе найдёшь. А уж американцы дорого дали бы, чтобы иметь, скажем, в Вашингтоне этакий небольшой Кремль… А? Что вы скажете?
Вопросы звучали риторически. Понимая, что Евгений Петрович рассуждает для себя, Ардов не рвался включаться в беседу, не тщился заменить Ильфа; а, по его выражению, «охотно предоставлял в распоряжение осиротевшего друга свои ноги и свои уши для его мыслей вслух».
Под Кремлёвской стеной. В 1956 году писатель В. В. Лавров, имя которого прогремело на рубеже столетий, был рядовым советским гражданином, а потому дачу на лето снял в подмосковной Салтыковке, месте, весьма неудачном в криминальном отношении. Хозяин дома, получивший оплату вперёд, сразу стал выживать своих постояльцев. Жилистый дед весь был исколот блатной татуировкой, поблекшей от времени. Сняв майку, дед демонстрировал Лаврову и его жене изображения, выполненные тюремным художником. Хвастал:
– У меня на заднице клёвая картина. Слева печь, справа истопник с лопатой. Когда иду, то истопник лопатой двигает прямо в печь. Показать?
– Спасибо, не беспокойтесь!
– А то могу, мне портки снять недолго. Я, братцы мои, в крытке и на зоне восемнадцать годков отволок, да-с!
– А что вы… натворили? – с опаской спросила Наташа, супруга Валентина Викторовича.
Дед охотно ответил.
В 1933 году он с братом поехал погулять в Москву, в парк Горького. Зашли в ресторан, который находился тогда под парашютной вышкой. Там их внимание привлёк человек провинциального вида, который, расплачиваясь с официантом, вынул из кошелька целую пачку тридцатирублевых ассигнаций – «красненьких». Подмигнув друг другу, братья пошли за ним.
«Лапотник» шёл по набережной и время от времени приставал к одиноким женщинам. Братья подвалили к нему и, пообещав познакомить с интересными дамами, повели в Александровский сад.
– «Скулу», то бишь внутренний карман, – пояснил дед, – брательник ему втихаря вскрыл и вытащил лопатник. Фраер укнокал, хлебало раззявил, блажить начал, дескать, караул, грабят. А его, дурака, никто не грабит, просто бабки были нужны, в бильярдную хотелось сходить. Ну, фраер сам виноватый, посадили его на пику. Денег-то взяли неплохо, да прохаря, ну сапоги, брательник снял с фраера и надел, я свои тут же сбросил.
Разжившись деньгами, братишки пошли культурно отдыхать в бильярдную. Ушли недалеко, так как скоро их развлечение прервали милиционеры, приведенные по следам убийц «жучкой». И получил дед вместо отдыха двенадцать лет лагерей.
– А брат? – поинтересовалась Наташа.
– В деревянном бушлате сгнил. Когда нас в бильярдной вязали, брательник стал отстреливаться. Ну, двух посторонних клиентов ненароком уложил да одного мусора. Хороший брательник был! Его мусора свинцом нашпиговали – хоть в утильсырьё сдавай. А меня ничего, только побуцкали сапогами, почку отбили да два ребра сломали.
Милицейская «наука» впрок не пошла, но, как ни странно, второй раз деда судили уже как политического:
– Политический, ге-ге! Торчал по 58-8! Назубок помню: «Совершение террористических актов против представителей советской власти… Мера социальной защиты – расстрел или строгая изоляция от десяти до двадцати лет с конфискацией всего или части имущества».
Комментируя откровения старика, Лавров отметил, что при рассказе о убийстве «лапотника», оказавшегося сельским корреспондентом, он равнодушно махнул рукой, словно речь шла о пришлёпнутой ненароком мухе. Но свою жизнь дед ценил и был благодарен судьбе за подаренные ему отсидки:
– Коли не торчал бы на киче, так, глядишь, на фронте подстрелили бы. А то ещё живу, небо копчу, водочку потребляю, ге-ге, бабам под юбку заглядываю.
И таких индивидов, заострённых на собственном «я», оказалось в годы Великой войны за Уральским хребтом с десяток полномасштабных армий!
Чужая беда. В 1938 году А. Т. Твардовский переехал в Москву и уже навсегда обосновался в столице. Поэту предоставили комнату в Большом Могильцевском переулке (дом 6, не сохранился). Отсюда Александр Трифонович частенько ходил с дочерью Валентиной на прогулки по городу. Излюбленным местом посещения отца и дочери была Красная площадь. Визиты туда девочка воспринимала как подарок. Особенно запомнился один из них, несостоявшийся.
Был весенний солнечный день, канун 1 Мая. Из тихого переулка они вышли на оживлённый Арбат. Пересекли площадь и по Воздвиженке спустились к Александровскому саду. Шли по его внешней стороне, то есть Манежной улицей. Здесь народу было уже значительно больше. Город бурлил, готовясь к празднику. Из репродукторов звучала музыка.
Вот уже и плавный поворот решётки сада. Через пять минут – Кремлевский проезд и заветная площадь. Но тут навстречу Твардовскому шагнул незнакомый мужчина и о чем-то взволнованно заговорил. Сбивчиво, запинаясь от волнения, он рассказывал поэту о своих мытарствах в Москве. Приехал в столицу искать правду. Поиски эти неоправданно затягивались. А надо на что-то жить, он не один (поодаль стояла женщина с двумя детьми).
Александр Трифонович слушал несколько растерянно. Затем недоумение на его лице сменилось выражением хмурым и горьким. Он что-то спрашивал у незнакомца, что-то объяснял ему. Затем достал бумажник и дал ему денег.
Взяв дочь за руку, Твардовский повернул к площади. Александр Трифонович тяжело молчал. Настроение праздничной приподнятости пропало. Не доходя Мавзолея, он резко повернул назад.
Глядя на сразу помрачневшего отца, дочь не решалась прервать его тяжёлые думы. Она не знала, чем был вызван этот резкий перепад в его настроении, но чувствовала, что мыслями он сейчас не с ней. Позднее она так объясняла случившееся:
– Кажется, я тогда впервые видела его встречу с чужой бедой, то, чему пришлось в дальнейшем много раз быть свидетелем. И никогда он не мог пройти мимо равнодушно, не приняв в себя чужое горе. Он должен был для собственного же покоя что-то немедленно предпринять, а если был бессилен – страдал.
«Весёлый разговор». После шестидесяти лет В. И. Качалов стал сдавать и в начале 1940 года с высокой температурой попал в Кремлёвскую больницу. Нина Николаевна, супруга артиста, конечно, сообщила об этом в Художественный театр. Там её тревогу приняли с преувеличенным беспокойством:
– Петенька, беда! Качалов отходит!
– Коленька, друг, трагедия-то какая – Василий Иванович помер!
И пошло-поехало. В МХАТ и на квартиру великого артиста стали поступать телеграммы соболезнования. Вскоре узнали о «кончине» Качалова и в Ленинграде. Один из его старых друзей, поэт А. Б. Мариенгоф, заспешил в столицу. «Приезжаю в Москву, – вспоминал он, – устраиваюсь в гостинице, оставляю чемодан в номере и иду к Качаловым.
В коридоре встречает меня Василий Иванович. Он в суконной синей пижаме с витыми шнурами на груди, в мягких клетчатых туфлях. Гладко выбрит. Подстрижен ниже обыкновенного. Это его молодит. Чуть изменив классику, он жизнерадостно баритонит:
– Умерший тебя приветствует.
В углу на банкете стоит большая именинная корзина, наполненная телеграммами.
– А нашей здесь нет, – с гордостью говорю я. – Не поймал на удочку.
– Сорвался карась.
Спрашиваю Качалова:
– Что же всё-таки было? Что за безвременная кончина?
– Была, Анатоль, генеральная репетиция. А скоро и спектакль.
– Да ну тебя, Василий Иванович».
После завтрака Качалов обычно гулял. Так было и на этот раз. Супруга напутствовала его:
– Ты, Василий Иванович, на воздухе не дыши. Не дыши!
– А носом можно?
– Нет, нет! И носом нельзя! Ничем нельзя! А то опять воспаление лёгких схватишь. Ведь хуже ребёнка малого! Ещё начнёшь на ветру во весь голос «Фауста» читать. Сейчас же дай слово, что не раскроешь рта. Пусть Анатолий свои стихи декламирует, а ты слушай. Клянись.
Пошли в Александровский сад. От Брюсовского (Брюсова) переулка это метров триста. Но шли долго: через каждые десять шагов Качалов раскланивался, благодарил и отвечал рукопожатием на приветствия людей, радовавшихся его «воскресению». Но вот и сад. Сели на скамью. Над головами закаркала иссиня-чёрная ворона:
– Прра!.. Прра!.. Прра!..
– Слышь, поэт, она говорит: «Прра-вда!.. Прра-вда!.. Прра-вда!..»
– Вот, Вася, и ещё один артистический рассказ набежал.
– Что?
– Про говорящую ворону, которая вмешалась в нашу беседу…
Прозвонили кремлёвские куранты, и это настроило собеседников на серьёзную тему.
– Ох и подозрительная наука! – вздохнул Мариенгоф.
– Ты это про что, Анатоль?
– Да про историю. Она так же треплется, как товарищи-актёры.
– История?
– Да, история, «Историческая наука». Наивные легковерные люди так её называют.
– Треплется, говоришь?
– Конечно! Превращает в дикую чепуху всякий жизненный факт.
– К примеру, синьор?
– Ну хотя бы об Иисусе Христе. Существовал довольно интересный человек. Слегка эпатируя, он гуманно философствовал в неподходящем месте – в Иудее. Среди фанатичных варваров. Если бы то же самое он говорил в Афинах, никто бы и внимания не обратил. А варвары его распяли. Так поступают во всём мире и в наши дни. Только распинают теперь не на деревяшке, а на газетной бумаге. Разница, в сущности, пустяковая. Возражаешь?
– Нет, не возражаю.
Возражать было трудно после недавнего закрытия Театра имени Мейерхольда, оголтелого охаивания критикой его основателя и руководителя, а затем и «таинственного» исчезновения Всеволода Эмильевича, фигуры в театральном искусстве знаковой. Словом, поговорили…
Мысли вслух. Весна 1947 года была ранней и очень тёплой, несущей надежды и радости, но не Б. Л. Пастернаку: его имя стало часто упоминаться на разных писательских собраниях. 22 марта в прессе появилась проработочная статья. Вскоре была уничтожена уже напечатанная книга его избранных стихов. К счастью, этим преследования ограничились. Через месяц, встретив в Лаврушинском переулке драматурга А. К. Гладкова, Борис Леонидович с облегчением сообщил:
– Решили всё-таки не дать мне умереть с голоду: прислали договор за перевод «Фауста».
В конце июня состоялась вторая встреча писателей. Александр Константинович сидел на скамейке в Александровском саду, когда увидел человека в странной одежде – в плаще песочного цвета из какого-то негнущегося материала. День был жаркий, и человек в плаще выглядел странно. Когда он подошёл ближе, Гладков узнал Бориса Леонидовича и окликнул его. Пастернак подошёл и сел рядом.
Тишина и безлюдье, умиротворяющая природа, душевные волнения последних месяцев, молодой собеседник, с жадностью ловящий каждое твоё слово, располагали к откровенности. Борис Леонидович говорил больше двух часов. Гладков впитывал в себя каждое его слово, а вечером содержание откровений большого поэта предал дневнику. Приводим часть этих записей.
«Вдохновение – это пришедшее в горячке работы главенство настроения художника над ним самим. Это состояние, когда выражение обгоняет мысль, когда выполнение опережает задачу, ответ рождается раньше, чем задаётся вопрос.
В природе словесной речи самой создавать красоту, которую нельзя заранее предусмотреть и задумать. Написав в порыве вдохновения что-то, потом удивляешься, хотя сразу понимаешь, что это тоже твоё; твоё, но оставившее позади самого тебя…
История – это ответ жизни на вызов смерти, это преодоление смерти с помощью памяти и времени. Естественно, что история – это нечто созданное христианской эрой человечества. До нее были только мифы, которые антиисторичны по своей сути. Прикреплённость исторического события ко времени – первый признак этой эры. Миф не прикреплён ко времени…
А можно ещё назвать историю второй вселенной, воздвигаемой людьми по инстинкту сопротивления смерти и небытию. Явление времени и памяти, история – это и есть подлинное бессмертие, поэтическим образом которого является христианская идея о личном человеческом бессмертии…
Меня совсем не волнуют эти иногда вдруг вспыхивающие разговоры об антисемитизме, наверно, потому, что я считаю самым большим благом для еврейства полную ассимиляцию. Расизм – выдуманная теория, нужная для неблаговидной практики. Попробуйте с точки зрения расизма или крайнего национализма понять метиса Пушкина…
Всего дороже мне жизнь, тонущая в жизни окружающих, похожая на них. Я ни разу не испытывал счастья без страстной потребности с кем-то его разделить. И чем больше было это чувство счастья, тем с большим числом людей мне хотелось делить его. Из этой иногда нестерпимой потребности начинается искусство…
Разучиваться в искусстве так же необходимо, как и учиться. Иначе оно начинает хозяйничать над тобой. Может быть, то, что я называю „разучиваться“, явление или процесс, ещё более трудный, чем постижение каких-то умений. Если я сейчас пишу плохо со своей новой точки зрения, то я знаю: это потому, что я ещё не слишком хорошо разучился тому, что я прежде умел…
Когда делаешь большую работу и весь захвачен ею, она продолжает расти и даже в часы отдыха, безделья и сна. Надо только уметь ввериться свободному течению, несущему тебя на своих волнах. Это тоже непросто. По рационалистическому недоверию ко всему бессознательному иногда вместо того, чтобы дать нести себя этому потоку, который сильнее тебя, начинаешь пытаться плыть против течения, тратить силы на ненужные и лишние движения…
Мы не умеем учиться страшному опыту у биографий наших любимых художников. Представим себе только, что Пушкин сумел уговорить Наталью Николаевну уехать с ним в Михайловское и прожил там годы, скрипя гусиными перьями и подбрасывая поленья в трещащие печки. Какое счастье это было бы и для России, для нас! Нас не учат ничьи уроки, и мы всё тянемся к призрачной и гибельной суете. А между тем только в рядовой жизни можно найти подлинное счастье и атмосферу для работы. Помните наш Чистополь? Я всегда вспоминаю его с удовольствием…
Каждый человек по-своему Фауст, он должен сам пройти через всё, всё испытать…
Движение вперёд в науке происходит из чувства противоречия, которое я называю законом отталкивания, из потребности опровержения ложных взглядов и накопившихся ошибок. Такое же движение вперёд в искусстве чаще всего делается из подражания, попытки идти вслед, из потребности поклонения тому, что тебя восхитило…
Есть что-то ложное и фальшивое в позе писателя – учителя жизни. Сравните застенчивую честность Пушкина и Чехова, их простоту и детскость, их скромное трудолюбие с хлопотами Гоголя, Достоевского и Толстого – о задачах человечества и собственной миссии. Я в этом вижу претензию, которая мешает мне наслаждаться их творениями. Высшее в судьбе художника – когда его личная жизнь, жизнь для себя, а не напоказ, не для других, становится благородным примером без нарочитости и торжественных приготовлений. Меня в толстовстве всегда смущала его демонстративная и показная сторона…
Подражательность прописных чувств – вовсе не синоним их общечеловечности…
Иногда я думаю, что искусство, может быть, возникает из потребности человека в компенсации. То есть оно должно внести в жизнь то, чего в ней нет по разным причинам, как организму вдруг не хватает витаминов. Только естественно, что XIX век – Наполеона, Байрона, Раскольникова, век расцвета индивидуальных судеб, век биографий, карьер – инстинктивно тосковал по коллективной душе, по мирской правде, по массовым движениям, от мужицкой сходки, идеализированной славянофилами, и фаланстера раннего коммунизма до унанимизма французской поэзии и идеологии интернационалов. Век же XX – век массовых исторических судорог, век коллективизма всех оттенков, век солдатчины, лагерей, больших городов – невольно, но закономерно тянется к индивидуалистическому искусству, к крайнему субъективизму – та же компенсация…
Нас заставляют радоваться тому, что приносит нам несчастье; клясться в любви тому, что не любишь; вести себя противоположно нашему собственному инстинкту правды. И мы заглушаем этот инстинкт: лжём сами себе; как рабы, идеализируем свою неволю…
Я вернулся к работе над романом[1], когда увидел, что не оправдываются наши радужные ожидания перемен, которые должна принести России война. Она промчалась как очистительная буря, как веяние ветра в запертом помещении. Её беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали владычество всего надуманного, искусственного, неорганичного природе человека и общества, что получило у нас такую власть, но всё же пока победила инерцию прошлого. Роман для меня – необходимейший внутренний выход. Нельзя сидеть сложа руки. Надо отвечать за свою жизнь и за то, что тебе дано. Я помню, вы тоже были отъявленным оптимистом во время войны, и я даже с вами спорил, хотя мне хотелось иногда верить вам…
Большие традиции великого русского романа, русской поэзии и драмы – это выражение живых черт души русского человека, как они слагались в истории последнего века. Сопротивляться им – это значит обречь себя на натяжки, искусственность, неорганичность. „Война и мир“, „Скучная история“ и „Идиот“ – такие же признаки России, как берёзки и наши тихие реки. Бесполезно разводить в Переделкине пальмы, этого даже Мичурин не придумал бы. Наша литература – это сконцентрированный душевный опыт народа, и пренебречь им – значит начинать с нуля…
Когда живёшь на каком-то большом душевном настрое, то всё получается хорошо, а хорошее удваивается работой, которая одна сама по себе, без этого настроя, почти бесполезна. Я, как говорят, трудолюбив, но одно лишь трудолюбие не может быть спасением ни от пустоты, ни от посредственности, и той, худшей из всех посредственностей, которая замаскирована в артистическую позу…
Много перечитывал Пушкина. Его письма прелесть. Какое отсутствие позы, какое умение быть самим собой. Это просто поразительно при полной ясности для себя своего масштаба и своей оценки им сделанного, как в „Памятнике“…
Понятие трагедии основано на свободе человеческой воли. Если у человека есть возможность выбора решения, поступка или пути среди других предложенных ему жизнью поступков или путей, то у него появляется чувство моральной или прочей ответственности за свой выбор перед историей или истиной. Когда нет права сравнения решений, нет и трагедии. Выбор своего пути – это современная судьба, без какого бы то ни было фаталистического оттенка…
Как это ни странно, но фатализм или политический мистицизм стал свойствен именно тем, кто называл себя материалистами…»
Б. Л. Пастернак
…В приведённых записях А. К. Гладкова – в основном рассуждения Пастернака о литературе, творчестве и роли писателя в общественной жизни, но есть и выпады политического плана. То есть проходила она на полной откровенности, хотя это было далеко небезопасно в условиях всякого рода кампаний (шельмование М. М. Зощенко и A. A. Ахматовой, борьба с «безродными» космополитами и прочее).
Внутреннее ощущение жизни противоречило её внешним проявлениям, тому, что поэт видел вокруг себя, и он не хотел лгать, не хотел прославлять общественный строй, при котором жил. Отсюда уход в себя и интенсивный труд над романом «Доктор Живаго», который стал смыслом последних лет жизни писателя, не принятого современниками.
К случайности готов. Вскоре после расстрела здания парламента П. С. Грачёва назначили министром обороны России. В первую же годовщину Победы Павел Сергеевич пригласил на церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата В. Н. Доценко, с которым довольно близко сошёлся при съёмках фильма о войне в Афганистане. Виктор Николаевич к этому времени выпустил уже две книги из серии о Савелии Говоркове (Бешеном), которые принесли ему широкую известность. Но поскольку славы, как и денег, никогда не бывает много, писатель прихватил свои произведения на торжества 9 Мая. При этом был так предусмотрителен, что на большинстве книг заранее сделал дарственные надписи. Труд его, как говорится, полностью оправдался. От удивления от не слишком уместной «презентации» Ельцин промямлил:
– Виктор, когда ты только успеваешь, понимаешь, всё это… И кино снимать, понимаешь, и книги писать…
Это был успех, на который Доценко не рассчитывал. Конечно, в глубине души он жаждал благосклонности сильных мира сего, но не слишком обольщался на этот счет. Писатель буквально обомлел и только повторял бессвязно и торопливо три слова: «Спасибо, Борис Николаевич!» Даже спустя пять лет после этой встречи Виктор Николаевич находился под её впечатлением:
– Приятно было и то, что Борис Николаевич обратился ко мне на «ты». Читая всяческие откровения ближайшего его окружения, я обратил внимание на то, что все они говорили: «Ко всем президент обращается только на „вы“…» Значит, он как бы меня выделил.
Но вернемся в 1994 год. Одарив президента, Доценко начал раздавать свои «домашние заготовки» направо и налево. Представители высших властей улыбались и благодарили расторопного автора, делая вид, что не замечают несоответствия ситуации месту и времени. Грачёв, правда, вежливо намекнул своему «приятелю» на одиозность его инициативы, посоветовав не мыть руки, а показывать их за деньги. Но писатель находился в таком эмоциональном возбуждении, что отнёс намек к шутке. Главным, что отложилось в его сознании, стал факт «общения» чуть ли не со всем кабинетом министров Российской Федерации.
– 9 Мая я запомнил на всю жизнь, – вспоминал он позднее. – Вероятно, я был первым, если не единственным писателем России, который удостоился чести вручить свои книги с автографом не только самому президенту, а почти всему кабинету министров во главе с B. C. Черномырдиным, а также мэру Москвы Ю. М. Лужкову, но и обменяться с каждым рукопожатием. Жалею до сих пор, что рядом не было человека, который запечатлел бы эти исторические минуты.
Согласимся: случай действительно уникальный, так и напрашивается в Книгу рекордов Гиннесса. Но вот с честью Виктор Николаевич что-то напутал: сомнительно счастье лобызать руки людей, поставивших страну на грань вымирания, низведших великую державу на уровень криминально-колониального придатка Запада. Символично, что упомянутая выше «честь» была оказана писателю на погосте.
Хлеб и поэзия. После длительного путешествия в июле 1920 года Н. Заболоцкий и М. Касьянов (приятель Николая по реальному училищу в Уржуме) добрались до Москвы. Целью их нелёгких странствий был историко-филологический факультет университета. Там их обещали принять, но не могли кормить, а есть семнадцатилетним парням очень хотелось.
– Не помню теперь, – говорил позднее Касьянов, – у кого возникла мысль о поступлении на медицинский факультет, с тем чтобы по вечерам заниматься литературой, а может быть, даже и учиться на историко-филологическом факультете и одновременно на медицинском.
Студенты-медики считались военнообязанными и потому получали паёк, который был по тому голодному времени просто сказочным – полтора больших солдатских каравая хлеба, сливочное масло, сахарный песок, селёдка или вобла. Всё это на месяц. Жили от пайка до пайка.
– После получения всех этих благ, – вспоминал Касьянов, – мы сейчас же, незамедлительно, шли в чайную, резали хлеб, намазывали его маслом, посыпали сахарным песком и запивали всё это кипятком. Мы вдвоём съедали за один присест четверть каравая, фунтов пять, не меньше, хлеба.
Паёк улетучивался за полторы-две недели. Дальше жили ожиданием его. Это отразилось в «гимне», сочинённом Заболоцким вскоре после начала занятий в университете:
Утром из чайной
Рано, чуть свет,
Зайдёшь не случайно
В университет.
В аудитории сонной
Чувства не лгут:
На Малой Бронной
Хлеб выдают.
Сбегать не грех.
Очередь там небольшая
Шестьсот человек.
Улица Остоженка,
Пречистенский бульвар,
Все свои галоши
О вас изорвал.
Осень 1920 года была в Москве сухой и солнечной, но начинающий поэт расхаживал по городу в сапогах с надетыми на них галошами, так как подмётки отваливались.
Планы в отношении учёбы на двух факультетах осуществить не удалось – всё дневное время поглощали занятия медициной. Но по вечерам случалось попасть в театр (чаще всего бесплатно). Бывали в кафе поэтов «Домино» на Тверской. Но особенно любили ходить в Политехнический музей на диспуты и литературные вечера. Слушали здесь выступления пролетарских поэтов А. Гастева, М. Герасимова, В. Кириллова. Особенно запомнился В. Маяковский.
В один из вечеров поздней осени Владимир Владимирович читал «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума». Восторженная публика окружила поэта и долго не выпускала его. Маяковский пошутил:
– Ну, теперь стоит только меня побелить, и я буду сам себе памятник.
Слушали приятели и поэму «150 000 000» в декламации автора. По этому поводу Касьянов говорил:
– Николай не очень любил Маяковского, но не мог противиться его темпераменту, проявляющемуся во время чтения и особенно во время диспутов с противниками. Тогда Николай вместе со всеми аплодировал и одобрительно кричал. Но стоило закончиться чтению, как Николай возвращался к обычному сдержанному отношению к Маяковскому.
Однажды, спускаясь по лестнице после окончания вечера, Владимир Владимирович нечаянно наступил Касьянову на ногу. Заболоцкий долго подшучивал над приятелем по этому поводу, советуя сдать отдавленную стопу в музей. При встречах с сокурсниками Николай Алексеевич хватал ногу Касьянова, поднимал её для всеобщего обозрения и возглашал:
– Смотрите, вот эта нога!
Шутили, радовались, а жизнь неумолимо предъявляла свои права. В январе 1921 года у студентов-медиков сняли их особый паёк. Как и все москвичи, они стали получать хлеб по полфунта, потом по четвертушке, а то и по осьмушке. Голодать на ненужном факультете не имело смысла, и вскоре Заболоцкий оставил Москву.
Цилиндр. С. Есенин и А. Мариенгоф стояли у гостиницы «Метрополь» и ели яблоки. Мимо проезжал художник Дид Ладо. Друзья поинтересовались, куда это он направляется с кучей чемоданов. Оказалось, в Петербург. Бросились во весь дух за ним, догнали клячонку и на ходу вскочили на извозчичьи дроги. Дид похвастался:
– В пульмановском вагоне, братцы, в отдельном купе красного бархата.
– С кем? – удивились друзья.
– С комиссаром. Страшеннейший. Пистолетами и кинжалами увешан. Башка что обритая свёкла.
– Дид, возьми нас с собой.
– Без шапок-то? – усомнился художник.
– А на кой чёрт!
– Деньжонки-то есть?
– Не в Америку едем.
Вот и Николаевский вокзал. На платформе около отдельного вагона стоял комиссар. Глаза круглые и холодные, голова тоже круглая и без единого волоска. Мариенгоф шепнул Диду:
– Эх, не возьмёт нас «свёкла».
Но Есенин уже вёл с комиссаром разговор о преимуществах кольта, восхищался сталью кавказской шашки и малиновым звоном шпор. Проняло! Комиссар взял приятных молодых людей в свой вагон, пил с ними кавказское вино, и спали они на красном бархате.
В Петербурге друзья бегали по разным редакциям. В издательстве «Всемирная литература» Есенин познакомил приятеля с А. Блоком, который поразил Мариенгофа своей обыкновенностью.
На второй день пребывания друзей в Петербурге пошёл дождь, и тут они вспомнили вопрос Дида о шапках. Классический пробор Мариенгофа блестел как крышка рояля. Золотая голова Есенина побурела, и его кудри свисали жалкими клочьями. Побежали по магазинам, но без ордеров на одежду ничего не продавали. Наконец в десятом по счёту краснощёкий немец предложил цилиндры. Выбирать было не из чего. Купили и не пожалели:
– Через пять минут на Невском петербуржане вылупляли глаза, «ирисники»[2] гоготали вслед, а поражённый милиционер потребовал документы.
И в Москве цилиндры имажинистов имели успех. Сохранились их фотографии в этих необычных для суровых лет Гражданской войны головных уборах.
…Для выдающегося дирижёра Н. С. Голованова цилиндр Есенина стал символом его судьбы. Николай Семёнович преклонялся перед личностью поэта, называл его «златокудрым ангелом» и сетовал, что благоуханный и тонкий лирик замучил и осквернил своё «целомудренное дарование – простое и душистое, как лесной ландыш, в омуте грязи и свинства городской, пьяной, угарной жизни». Несовместимость великого печальника земли Русской с его временем Голованов образно называл трагедией цилиндра и лаптя.
«Метрополь» и далее. В начале июля 1918 года в Москве проходил 1-й съезд Советов. На нём левые эсеры развернули ожесточённую борьбу против Ленина и большевиков. Они требовали прекращения борьбы с кулаками и отказа от посылки продовольственных отрядов в деревню. Получив отпор со стороны большинства съезда, они организовали мятеж, во время которого был убит германский посол Мирбах. Покушение на него совершил Я. Г. Блюмкин. Современник вспоминал:
– Убийцу немедленно посадили в ВЧК. Не имея особого желания встать к стенке, он кого-то выдал, кого-то предал и за счёт жизней своих товарищей по партии спас собственную жизнь.
Сохранением собственной шкуры Блюмкин очень поспособствовал большевикам в разгроме партии левых эсеров. «Следует заметить, – писал Д. А. Волкогонов, – что в истории левоэсеровского мятежа остаётся много неясных моментов. По чьему прямому заданию стрелял Блюмкин? Было ли на этот счёт решение ЦК партии левых эсеров? Почему не было проведено тщательное следствие? Одно ясно: события июля 1918 года стали хорошим предлогом, чтобы расправиться с партией левых эсеров. В телеграмме Ленина Сталину в Царицын содержался приказ начать массовый террор против левых эсеров, что и было сделано».
По описанию А. Мариенгофа, Блюмкин был большой, жирномордый, чёрный, кудлатый, с очень толстыми губами, всегда мокрыми. Обожал целоваться («Этими-то мокрыми губами!» – возмущался поэт).
После перехода на сторону большевиков Блюмкин возглавлял охрану народного комиссара республики по военным и морским делам. Поэтому днём находился с Кремле, а вечера проводил в «Кафе поэтов». Как-то молодой Игорь Ильинский вытер старой плюшевой портьерой свои латаные полуботинки.
«Хам», – заорал Блюмкин. Мгновенно вытащив из кармана здоровенный браунинг, он направил его чёрное дуло на артиста: «Молись, хам, если веруешь!»
Ильинский побелел как полотно. К счастью, рядом оказался Есенин:
– Ты что, опупел, Яшка?
– Бол-ван!
Есенин повис на руке Блюмкина, а тот орал:
– При социалистической революции хамов надо убивать. Иначе ничего не выйдет. Революция погибнет.
Есенин отобрал у фанатика потрясений оружие:
– Пусть твоя пушка успокоится у меня в кармане.
– Отдай, Серёжа, отдай. Я без револьвера как без сердца.
Блюмкин был лириком, любил стихи, любил славу (и свою, и чужую), но храбрецом не был. ЦК левых эсеров вынес постановление: «Казнить предателя». На этом поприще у эсеров был немалый опыт. Блюмкин, уже однажды смотревший в лицо смерти, трусил. Перед закрытием кафе он обычно просил Мариенгофа и Есенина проводить его до пенат. Расчёт был прост: не будут же левоэсеровские террористы ради «гнусного предателя» (как именовали они бывшего однопартийца) убивать сопровождающих его молодых поэтов. Первый из них вспоминал:
– Свеженький член ВКП(б), то есть Блюмкин, жил тогда в «Метрополе», называвшемся 2-м Домом Советов. Мы почти каждую ночь его провожали, более или менее рискуя своими шкурами. Ведь среди пылких бомбошвырятелей мог найтись и такой энтузиаст этого дела, которому было бы в высшей степени наплевать на всех подопечных российского Аполлона. Слева обычно шёл я, а справа – Есенин, посерёдке – Блюмкин, крепко-прекрепко державший нас под руки.
Как-то Блюмкин предложил своим «охранникам»:
– Ребята, хотите побеседовать с Львом Давидовичем? Я могу устроить встречу.
– Хотим!
– Очень!
– Устраивай!
Через неделю Блюмкин пришёл в Богословский переулок, где проживали поэты:
– Ребята, сегодня едем ко Льву Давидовичу. Будьте готовы.
Мариенгоф был болен, но сразу оживился и, разбинтовывая шею, попросил:
– Дай, Яшенька, пожалуйста, брюки.
– И не подумаю давать. Лежи, Анатолий, я не могу позволить тебе заразить Троцкого.
– Яшенька, милый…
– Дурак, это контрреволюция!
– Контрреволюция? – испуганно пролепетал Мариенгоф.
Пришлось охраннику наркома ограничиться одним Есениным. Для начала беседы Сергей Александрович передал Троцкому только что вышедший номер журнала имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном»[3]. Поблагодарив за журнал, нарком выдвинул ящик стола и достал тот же номер, чем сразил и покорил Есенина.
В журнале была напечатана «Поэма без шляпы» Мариенгофа, и в ней была следующая строфа:
Не помяни нас лихом, революция.
Тебя встречали мы какой умели песней.
Тебя любили кровью —
Той, что течёт от дедов и отцов.
С поэтом снимая траурные шляпы, —
Провожаем.
– Передайте своему другу Мариенгофу, – заметил Троцкий, – что он слишком рано прощается с революцией. Она ещё не кончилась. И вряд ли когда-нибудь кончится. Потому что революция – это движение. А движение – это жизнь.
…Троцкий был единственным из советского руководства, кто после трагической кончины Сергея Александровича сказал о нём доброе слово:
– Он ушёл из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, – не хлопнув дверью, а тихо прикрыв её рукою, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом. Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Но под всем этим трепетала совсем особая нежность неограждённой, незащищённой души.
Прикрываясь маской озорства – и отдавая этой маске внутреннюю, значит, не случайную, дань, – Есенин всегда, видимо, чувствовал себя не от мира сего. Это не в похвалу, ибо по причине именно этой неотмирности мы лишились Есенина. Но и не в укор: мыслимо ли бросать укор вдогонку лиричнейшему поэту, которого мы не сумели сохранить для себя! Поэт погиб потому, что был не сроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его[4].
Латышские стрелки. В конце XVIII столетия на Большой Сухаревской площади возник рынок, на котором торговали съестными припасами, картинами, скульптурой и изделиями прикладного искусства. К концу следующего века рынок стал центром торговли букинистическими изданиями. В годы Гражданской войны и НЭПа он превратился в барахолку, которую описал В. А. Каверин в трилогии «Освещённые окна»:
«Сухаревка раскинулась так широко, что сама Сухаревская башня, с её часами и строгим остроконечным фасадом, казалась сиротливо пристроенной к громадной толпе, хлопающей руками, чтобы согреться, и отбивающей дробь ногами. Все говорили разом, пели – впрочем, пели что-то божественное только слепцы, одетые в живописное тряпьё.
Здесь продавалось всё: корсеты, царские медали, шандалы, бритвы, манекены, иконы, заспиртованные уродцы в стеклянных банках, четки, ложечки для святых даров. Прилично одетый мужчина с большущими усами предлагал какие-то раскрашенные щепочки, уверяя, что это „целебные останки иконы Николая Чудотворца, уничтоженной большевиками“. Прямо на снегу стояли шкатулки из слоновой кости, веера, книги, статуэтки, часы с фигурками, дамы с интеллигентными лицами. Другие, с неинтеллигентными, торговали горячими чёрными лепёшками на сале, от которых шёл круживший голову, соблазнительный чад».
Было начало 1919 года, второго года Гражданской войны, времени бедственного и жестокого. Москва голодала. Катаев писал: «На днях я видел, как чуть не убили прохожего, бросившего корку хлеба собаке».
За хлеб действительно убивали, хотя по существу его трудно было назвать хлебом. «Тяжёлый вязкий хлеб, – вспоминал Вениамин Александрович, – был даже и не похож на хлеб. Не знаю, что подмешивали в муку, но, высыхая, он разламывался как штукатурка.
Иногда мы покупали на Сухаревке дуранду – плоские, твёрдые, как камень, лепёшки из отжатого льняного семени или конопли. Мама разбивала их молотком, размачивала, перемалывала, прибавляя горстку муки, и готовила с помощью ещё сохранившихся специй полный обед – суп с клёцками и оладьи. К сожалению, это случалось редко».
В 1925 году в Сухаревой башне был открыт Московский коммунальный музей (впоследствии – Музей истории города Москвы). В связи с этим рынок перевели в один из дворов на Садово-Сухаревской улице (близ кинотеатра «Форум»), а через пять лет он вообще был закрыт, просуществовав около 140 лет.
Милиция разбежалась. Сухаревка жила бурной, но весьма неприглядной жизнью. По воскресным и праздничным дням рынок представлял собой бушующее человеческое море, кишевшее мелкими и крупными хищниками: спекулянтами, шулерами, проститутками, карманниками, налётчиками. На Сухаревке продавали всё, что только можно было продать и купить, причём процветала в основном меновая торговля: шубу из соболей меняли на полмешка пшена, серебряные ложки – на сало, золочёные подсвечники – на керосин. Деньги утратили свою ценность.
На Сухаревке пьянствовали и дрались, играли до потери рассудка в карты, заключали самые невероятные сделки, обирали до нитки простаков, спекулировали, воровали и грабили. Молодая советская власть решительно очищала рынок от этой нечисти, что на первых порах не всегда получалось. Характерна в этом плане облава, проведённая в воскресенье, 21 апреля 1918 года.
Утром этого дня из Кремля выехало несколько грузовиков. К рынку они подъехали с разных сторон – с Садовых, Сретенки и 1-й Мещанской. Латышские стрелки рассыпались цепью и начали сжимать кольцо. Было задержано более 300 подозрительных личностей. Их рассадили по машинам, латыши с винтовками наперевес разместились по бортам.
Задержанных везли для разбирательства в Кремлёвские казармы. Улицы были пустынны, грузовики мчались на большой скорости. И вдруг, когда первый грузовик приближался к «Метрополю», неподалёку раздался винтовочный выстрел. Постовые милиционеры, стоявшие у подъезда гостиницы, решили, что стреляли с грузовика, и подняли тревогу. Отряд, охранявший «Метрополь», высыпал из здания на площадь, выкатил пулемёты и залёг.
В это время к гостинице приблизилась вторая машина с задержанными и латышами. Милиционеры бросились наперерез ей. Шофёр решил, что это сообщники арестованных, и прибавил газу. Вслед машине раздалась пулемётная очередь. Был убит один латыш, пострадали несколько человек, находившихся в кузове, и несколько прохожих.
В Кремле латыши взбунтовались. Комендант кремля П. Д. Мальков вспоминал: «Вклинившись в толпу, я схватил первого попавшегося командира роты за рукав:
– В чём дело?
– Полк выступает.
– Как выступает, куда?
Из толпы раздались голоса:
– Идём на „Метрополь“. Громить милицию. Может, это и не милиция, а бандиты, переодетые в милиционеров.
Я подоспел вовремя. Ещё несколько минут – и было бы поздно. Взобравшись на ближайший грузовик, я крикнул что было мочи:
– Митинг! Митинг давай! Нельзя выступать без митинга!
К моему голосу стали прислушиваться. Кое-кто поддержал:
– Верно, надо митинг. Потом выступим».
Провели митинг, на котором выбрали делегацию для поездки в Моссовет, чтобы там разобраться в случившемся и потребовать сурово наказать виновников бессмысленной стрельбы в центре города. В Моссовете делегаты застали нескольких членов президиума. С одним из них отправились в отдел милиции Городского района: «Едем. На улице ни одного милиционера, как в воду канули. Нет милиционеров и возле „Метрополя“, и на Петровке, а в отделе двери настежь, и тоже ни души. Даже часового нет. Оказывается, как только распространилась весть о столкновении с латышами, милиционеры Городского района разбежались кто куда. Пришлось расследование на время отложить».
Серёжка. Есенин и его сестра Катя как-то проходили мимо Иверских ворот и увидели на руках молодого вихрастого парня рыжего щенка, который дрожал всем своим маленьким телом. Поворачивая щенка в разные стороны, парень предлагал свой «товар»:
– Не надо ли собаку? Купите породистую собачку.
– С каких это пор дворняжки стали считаться породистыми? – бросил мимоходом рабочий.
– Это дворняжка? Да у какой же дворняжки ты встречал такие отвислые уши? Понимал бы ты, не говорил бы чего не следует, – возмутился парень и обратился к Есенину: – Купи, товарищ, щеночка. Ей-богу, породистый. Смотри, какие у него уши. Разве у дворняжек такие бывают? Недорого продам, всего за пятёрку. Деньги нужны и стоять мне некогда.
Есенин подошёл к продавцу и погладил щенка. Почувствовав нежное прикосновение тёплой руки, щенок облизнулся, заскулил и ткнулся мордочкой в рукав пальто поэта, который сразу расцвёл в озорной улыбке и предложил сестре:
– Давай возьмём щенка.
– А где же мы его будем держать? Ведь здесь нет ни двора, ни сарая.
– Вот дурная. Да ведь породистых собак держат в комнатах. Ну и у нас он будет жить в комнате.
– А вместе с этой собакой нас с тобой из комнаты не погонят? – робко напомнила Катя о возможностях их жилищных условий.
По лицу Сергея Александровича пробежала тень отчаяния и грусти – никаких комнат у него не было. Жил великий поэт в это время в Брюсовском переулке, 2/14, у Г. А. Бениславской. В квартире № 27 Галина Артуровна занимала комнату в семнадцать квадратных метров. Её постоянными обитателями были сама хозяйка, Есенин и его сестры – Катя и Шура. Ими, как правило, «население апартаментов» не ограничивалось.
– Ночёвки у нас, – говорила Бениславская, – это вообще нечто непередаваемое. В моей комнате – я, Сергей Александрович, Клюев, Ганин и ещё кто-нибудь, в соседней маленькой холодной комнатушке – кто-либо ещё из спутников Сергея Александровича или Кати.
Холодная комнатушка принадлежала не Галине Артуровне, а другой обитательнице квартиры, которая временно отсутствовала. С её возвращением ситуация ещё более осложнилась.
– Позже, – уточняла Бениславская, – картина несколько изменилась: в одной комнате – Сергей Александрович, Сахаров, Муран и Балдовкин, рядом в комнатушке, в которой к этому времени жила её хозяйка, – на кровати сама владелица комнаты, а на полу у окна – её сестра, всё пространство между стенкой и кроватью отводилось нам – мне, Шуре и Кате, причём крайняя из нас спала наполовину под кроватью.
Словом, задуматься было о чём, но Есенин легко отгонял от себя мрачные мысли, а потому на предупреждение сестры заявил, улыбнувшись:
– Ну, если погонят, то мы его кому-нибудь подарим. Это будет хороший подарок. Возьмём.
Уплатив пять рублей, Сергей Александрович взял из рук парня дрожавшего щенка, расстегнул шубу и, прижав крохотульку к груди, запахнулся. Так и нёс своё приобретение до самого дома. Войдя в квартиру, осторожно опустил щенка на пол и на удивлённый возглас Галины Артуровны, озорно улыбаясь, рассказывал:
– Идём мимо Иверских. Видим: хороший щенок и недорого. Хорошую собаку купить теперь не так просто, а это – настоящая, породистая. Смотрите, какие у неё уши.
Есенин волновался, но к появлению нового поселенца все отнеслись почти одобрительно. Сергей Александрович дал ему своё имя, и все звали щенка Серёжкой. Прошло несколько дней, и щенок стал проявлять беспокойство: скулил и лапами теребил свои длинные отвислые уши. И вскоре выяснилось, что уши у него были пришиты. Обращение «породистого» щенка в дворняжку веселило поэта несколько дней – хохотал до слёз.
Серёжка радовал хозяина, отвлекал от тяжёлой повседневности. У Есенина всегда было много друзей – к сожалению, много и так называемых. Постоянные разочарования в людях рождали у поэта недоверие к ним, желание отстраниться, отгородиться от них. Тема некой отверженности от людского сонма наглядно проявляется в стихотворении «Я обманывать себя не стану»:
Я московский озорной гуляка,
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою лёгкую походку
Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.
Я хожу в цилиндре не для женщин.
В глупой страсти сердце жить не в силе.
В нём удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.
Средь людей я дружбы не имею.
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук. …
Серёжка был бестолков, но удивительно игрив. Для него не существовало чужих, к каждому он ластился, с каждым заигрывал. К лету Серёжка вырос и стал большим псом. Держать его в перенаселённой квартире было невозможно, и Бениславская отправила его к знакомым в Тверскую губернию. Там Серёжка, играя с коровой, откусил ей хвост, за что был выгнан со двора.
Есенин к этому времени умер, и, храня память о нём, близкие поэту люди не решились бросить его любимца на произвол судьбы. Мать и отец Сергея Александровича взяли пса в Константиново, но «перекрестили» его – назвали Дружком. Хлопот от него был полон рот. На цепи пёс выл дни и ночи, отказывался от еды. Без привязи гонялся за овцами, курами и прочей живностью, вызывая всех на игру. Однажды по селу проходил охотник, и Дружок захотел поиграть с ним. Кончилось это печально: как и его почивший хозяин, Серёжка принял насильственную смерть.
«Песнь песней». В тридцатые годы И. О. Дунаевский жил в Ленинграде, но очень часто бывал в столице. Останавливался всегда в гостинице «Москва». Номер, который предоставлялся широко известному композитору, бывал обычно трёхкомнатным и производил впечатление квартиры героя-ударника. В гостиной стоял большой рояль. За ним, как бы в нише, находилась миниатюрная эстрада, обнесённая перильцами. Интерьер помещения дополнял огромнейший диван. Словом, не гостиная, а театр в миниатюре.
Для города, подавляющая часть населения которого жила в коммуналках, это была недосягаемая роскошь, но композитор уже сжился с излишествами правительственного отеля и не замечал их. Мыслями он всё реже и реже возвращался к бедной полуголодной молодости. И в тот день, выйдя из гостиницы, меньше всего думал о прошлом.
Только что прошёл короткий весенний дождь. В лужицах асфальта ярко играли солнечные блики. Воздух был насыщен озоном. Исаак Осипович вздохнул полной грудью и вдруг замер, задержав воздух в лёгких: на него внимательно смотрела полная, очень полная женщина. Вернее, даже старуха, плохо, безвкусно одетая. Вид был отталкивающий.
– Исаак? – неуверенно и как-то просяще произнесла она.
Дунаевский, то ли приветствуя даму, то ли поправляя шляпу, коснулся её полей и скользнул мимо. Он шёл по широкой и радостной улице Горького и вспоминал.
…Было это в далёком 1918-м, в Харькове, раздиравшемся бандитами всех мастей. Женщину-мечту Исаак увидел в полуподвальном кафе. Вера Леонидовна Юренева приходила в полуночные заведения города, чтобы избавиться от тоски.
Молодой музыкант заворожённо смотрел на актрису, имя которой уже обросло легендами. Это была страстная и увлекающаяся натура, без оглядки пускавшаяся в любовные приключения.
Сближение с Юреневой произошло в театре Синельникова. Вера Леонидовна предложила Исааку Осиповичу сделать программу любовной лирики. Тот с готовностью согласился и приступил к работе над музыкой к «Песне песней» ветхозаветного царя Соломона.
Юренева играла с юношей, а он влюбился со всей страстью поэтической натуры и молодости. Позднее с грустью говорил:
– Это была любовь, по силе более неповторимая. Мне теперь кажется, что она забрала мою жизнь в мои двадцать лет и дала мне другую.
Работа, которую композитор сделал для актрисы, он так и не решился отдать на суд публики – незримая нить ещё долго соединяла с женщиной, перевернувшей всю его душу. «Встрече с ней, – писал Дунаевский, – я обязан одним из лучших моих произведений, музыкой к „Песне песней“… „Песнь песней“ лежит у меня далеко спрятанной, как нежное хрупкое воспоминание о далёкой и печальной моей любви».
…Они встретились впервые весной. И опять была весна, но уже последнего предвоенного года. Прошла четверть века – целая жизнь. Композитор шёл по главной улице столицы и шептал:
О, ты прекрасна, возлюбленная моя,
ты прекрасна…
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя,
и пятна нет на тебе.
По-прежнему сияло солнце. В дождевых каплях сверкали изумруды. Но на сердце было тяжело и тоскливо.
Там, на линии фронта. Во время Великой Отечественной войны дом писателей в Лаврушинском переулке был частично разрушен, и И. Г. Эренбург жил в гостинице «Москва». Этой привилегии он был удостоен как корреспондент газет «Правда», «Известия», «Красная Звезда», в которых почти ежедневно появлялись его статьи, передававшиеся ещё и по радио. Впечатление, которое производили эти публикации на современников, надолго оставались в их памяти, а на фронтах войны становились оружием советских солдат и офицеров; маршал И. Х. Баграмян считал их «действеннее автомата». Илья Григорьевич был зачислен «почётным красноармейцем» в 1-й танковый батальон 4-й гвардейской бригады.
В дождливый мартовский вечер 1942 года с Эренбургом встретился автор романа «Два капитана» В. А. Каверин. Встретились писатели у входа в гостиницу: Илья Григорьевич вывел погулять собаку. Пришлось его подождать. Вениамин Александрович стоял и наблюдал.
У подъезда остановилась фронтовая, закамуфлированная машина, из которой, разминаясь, вылез немолодой офицер. Взгляд его упал на сгорбленную фигуру Эренбурга, терпеливо ждавшего, пока собака закончит то, ради чего её вывели из тёплого помещения.
– Чёрт знает что! – возмутился военный! – И откуда ещё такие берутся? Просто уму непостижимо!
Понимая, что офицер говорит это не для себя, Каверин сказал:
– А вы знаете, кто это? Эренбург!
– Ну да?
– Честное слово!
– Да вы шутите!
Вениамин Александрович ещё раз подтвердил, что офицер имеет честь лицезреть спину знаменитости. И тогда он вернулся к машине, сказал что-то водителю, и, перешёптываясь, они смотрели на Эренбурга, пока он не исчез в темноте. Всё было прощено мгновенно: и до неприличия штатский, тыловой вид, и то, что кому-то, видите ли, ещё до собак дело, и старый берет, из-под которого торчали давно не стриженные седые лохмы.
Отношение к штатским во время войны отнюдь не было благожелательным. Вернувшийся к подъезду Эренбург сразу набросился на Каверина: почему он не на фронте, а отсиживается в Москве. Вениамин Александрович успокоил его, сообщив, что является военным корреспондентом «Известий» на Северном фронте и только-только приехал из Мурманска.
В номере гостиницы Каверин напомнил Илье Григорьевичу об их последней встрече в мирное время:
– Наш разговор начался с воспоминания о том, с какой непостижимой точностью Эренбург предсказал дату начала войны. 1 июня 1941 года мы вместе поехали навестить Ю. Н. Тынянова в Детское село, и на вопрос Юрия Николаевича: «Как вы думаете, когда начнётся война?» – Эренбург ответил: «Недели через три».
И вот она идёт почти год, конец её не предвидится, есть о чём подумать, и гость подытожил свои наблюдения: «На окнах, на столе, на полу, на диване лежали рукописи – Эренбург был как бы вписан в этот своеобразный пейзаж. Он похудел, был бледен, очень утомлён.
В середине разговора, не допив свой чай, он расстелил на столе большую грязную карту и стал рассматривать её с карандашом в руках, что-то прикидывая, соображая. Впечатление человека потрясённого, отдалившегося от всего случайного, неотступно думающего о том, что происходит там, на линии фронта».
Не ко времени. В писательской среде он прослыл высокой порядочностью, непримиримостью к лжи (во всех её проявлениях и оттенках) и язвительностью. Последней переполнена вся его публицистика, но мы ограничимся примером из дневниковой записи, сделанной Владимиром Сергеевичем 20 января 1982 года: «По телевидению сейчас передали, что умер на 65-м году Семён Цвигун, зам Андропова. Ну, тут понять можно. Его последний роман (как и предыдущий, впрочем) напечатали одновременно и В. Кожевников, и А. Софронов. Конечно, он из этого заключил, что замечательный писатель, – вот сердце могло не выдержать. Словом, в его смерти виноваты редакторы „Огонька“ и „Знамени“».
Без колебаний и пиетета по отношению к высоким особам Бушин изобличал их публично. 19 ноября 1985 года поднёс дулю председателю Правления Союза писателей СССР Г. М. Маркову: «Ну и дали мы в День артиллерии, залп по толстобрюхим».
«Мы» – это В. Лазарев и наш герой. Перепалка с президиумом партийного собрания произошла по поводу «изданий-переизданий» узбекских и таджикских писателей в переводах Маркова и его дочери Ольги. Человек основательный, Бушин хорошо подготовился к собранию: убийственные цифры по злоупотреблению властью секретариатом Союза писателей ошеломили рядовых его членов и заставили понервничать руководство Союза. На следующий день Бушин с внутренним удовлетворением писал: «А как толстобрюхие изворачивались, как пытались процедурными хитростями запутать нас, сбить с толку! Не удалось.
Я чувствую себя сейчас как Пётр после Полтавы».
Впрочем, что Союз писателей – Бушев брал высоты и повыше:
«М. С. Горбачёву, Н. И. Рыжкову. ЦК КПСС. 25 октября 1985 года.
Уважаемые товарищи[5].
Вы настойчиво призываете народ к свежести взгляда на вещи, к новизне подхода к проблемам жизни, к слитности слова и дела. Очень хорошо!
Но вот вам через несколько дней предстоит подписать важный документ, который явится воплощением совершенно противоположного – косности взгляда, рутинности подхода, полного разрыва слова и дела. Это – постановление ЦК КПСС и Совета министров о присуждении Государственных премий.
После того как в 1978 году председателем Комитета по премиям назначали Г. М. Маркова, из процесса присуждения премий исчезли последние остатки демократичности.
Теперь премии не присуждаются в результате обсуждения, а просто раздаются. В этом году, как и прежде, никакого обсуждения в печати не было. Дело доходит до бессмыслицы».
Далее Бушин приводил конкретные примеры этой бессмыслицы и спрашивал:
– Вам, новым руководителям, какая нужда начинать свое участие в деле премий с одобрения замшелого порядка?
Конечно, обращался Владимир Сергеевич к руководителям партии и страны для очистки совести; в изменениях к лучшему он сомневался, а потому закончил своё письмо весьма пессимистичной фразой: «Если всё остаётся по старому даже в такой области, как литература, то какие же надежды на перемены к лучшему!»
Итогом этого обращения в верха и выступления на партийном собрании стало лишение Бушина пригласительного билета на Съезд писателей РСФСР. Он проходил в Кремле (первый день, 11 декабря 1985 года) и в Колонном зале Дома Союзов (последующие дни). На открытии съезда случилось невиданное: с трибуны его делегаты прогнали аплодисментами М. Алексеева, Р. Гамзатова и Е. Исаева. По этому поводу Владимир Сергеевич писал: «Когда в Кремлёвском дворце в присутствии членов Политбюро сгоняют с трибуны увенчанных героев, то это что-нибудь значит».
Не дожидаясь разрешения этого «что-нибудь», Бушин направился в Дом Союзов и без затруднений (по членскому билету Союза писателей) попал на съезд. По пути в Колонный зал у него родились следующие строки:
Когда говорунов отпетых
С трибуны гербовой в Кремле
Сгоняют, догола раздетых,
Жить веселее на земле.
В Доме Союзов Владимир Сергеевич оставался до пяти вечера. Оттуда шёл пешком до Белорусского вокзала (то есть по улицам Охотный Ряд и Горького) и предавался воспоминаниям о прошедшем дне, который оказался насыщенным интересными встречами.
Конечно, грели душу приветствия более-менее близких людей:
– Тобой все восхищаются (А. Пистунова).
– Это сверхразум. Ты как Александр Матросов, бросаешься на амбразуру (А. Мошковский).
– Это офицерский поступок (В. Гордейчев).
«Залп» Бушина по толстобрюхим пришёлся литераторам по душе, и на второй день заседаний съезда писателей он оказался в центре внимания многих. «В суете и толчее всё же удалось поговорить или хотя бы перемолвиться словечком в кругах с Мишей Лобановым. Несколько раз говорили и в буфете, и в фойе. Много было интересного и согласного, но он пугает меня своей чрезмерной критичностью. Вот и о Твардовском говорил плохо, хотя в том, о чём говорил, был прав. Александр Трифонович писал „дура-смерть“ и т. п».
– Он никогда не думал о смерти. А как вельможно держался!
И вспомнил, что в своё время он будто бы отрёкся от отца.
Суета и толчея не помешали Бушину дважды перекинуться словечком с В. П. Астафьевым. Владимир Сергеевич похвалил его статьи в «Правде», «Литературной России» и «Литературной газете». По поводу первой (в «Правде») Виктор Петрович сказал, что Чайковский и А. Иванов ходили в отдел пропаганды ЦК к Яковлеву с возмущением, как, дескать, он пишет, что наши солдаты бежали.
В ответ Бушин рассказал сибиряку о своём выступлении 19 ноября на партийном собрании и выслушал его критику по поводу статьи «Военная пора Маркова». Времени объясняться не было. Расстались на обещании Владимира Сергеевича указать на свои доводы в отношении председателя Союза писателей в письме к Астафьеву.
С претензией на особость подошёл Анатолий Рыбаков. С обидой напомнил, что в прошлом году Владимир Сергеевич не дал ему почитать «Анти-Б.». «Да, – вспоминал Бушин, – я тогда сказал ему, что мы, дескать, незнакомы и, пожалуй, не совсем корректно с моей стороны давать незнакомому человеку неопубликованную рукопись отрицательного свойства об известном писателе. Он тогда согласился. Мы, говорю, соприкасались лишь один раз, и заочно: вы были председателем приёмной комиссии, и там было отклонено моё заявление о приёме из-за одной „телеги“. Да, говорю, я был в Доме кино, куда явился крепко выпившим, и, стоя в ложе, вступил в полемику к каким-то писателем, выступавшим с эстрады (был праздник 8 Марта).
– А это, – говорит Рыбаков, – было представлено как антисемитская выходка.
– Возможно, что писатель и был евреем, но я этого не мог знать. Мне передали, что вы тогда сказали приблизительно так: „Мы Бушина знаем, его принять надо, но вот „телега“, и потому вернём дело в секцию“.
– Да, и мне дал хороший отзыв Леонид Зорин».
Рыбаков уезжал в Венгрию. Договорились, что после его возвращения Бушин пришлёт ему просимую рукопись.
О ней же говорил с Владимиром Сергеевичем Даниил Гранин, которому «Анти-Б.» был послан летом с целью публикации в журнале «Нева». Он назвал труд Бушина огульным (с чем тот согласился), но отметил, что в нём много удивительно меткого, интересного.
– Я за публикацию таких работ, – заявил Гранин, – так как должны существовать разные мнения. Но она для журнала велика по объёму.
Конечно, Даниил лукавил, почему потребовалось полгода, чтобы сообщить автору о том, что для публикации «Анти-Б.» работу надо сократить. Не хотелось маститому писателю конфликтовать с Ю. Бондаревым, против деятельности которого на высоких литературных постах была направлена работа его однокашника по Литературному институту. Труд этот объёмен, Бушин говорил по этому поводу:
– Конечно, я родом из Ла-Манчи. Вот написал 1000 страниц, которые, по всей видимости, никто не напечатает, и ведь я знал об этом, когда писал.
Человек, взыскующий к истине, Бушин отдавал должное заслугам сокурсника по институту на поприще литературы, но без всяких скидок бичевал его как чиновника и администратора. В «Анти-Б.» много материала по обоим из этих аспектов, приведём лишь пару примеров в отношении Шолоховской премии, о которой Бондарев, будучи председателем комитета по присуждению оной, писал: «Международная Шолоховская премия уникальна тем, что она объединяет ярчайшие личности планеты в борьбе с мировым злом. Авторитет её неоспоримо высок. Её лауреатами стали крупнейшие писатели и общественные деятели…»
Да, стали! И никаких возражений против личностей этого ряда у автора «Анти-Б.» нет. «Очень хорошо! Действительно яркие личности и крупные писатели, – соглашался Бушин. – Но ты почему-то не упомянул тех, о ком сказал когда-то:
– Сегодня у нас праздник. Мы награждаем премией имени Шолохова Патриарха всея Руси Алексия Второго и выдающегося поэта всея России Валентина Сорокина.
Что ж, Юра, сегодня о патриархе умолчал? Или вспомнил, что, получив Шолоховскую премию, он вскоре, в день 70-летия Ельцина, перед лицом всего народа объявил этого предателя Владимиром святым наших дней и преподнёс ему золотую статуэтку равноапостольного князя. А почему забыт „выдающийся“, „крупнейший“ и „ярчайший“ Сорокин?»
Вопрос этот риторический, ибо Бушин сам ответил на него, связав ответ с сочинением Сорокина «Крест поэмы» (2000 г.):
– Ничего более дремучего и злобного я не читал. Сорокин поносит и советскую власть, и Отечественную войну советского народа, и множество советских писателей, но всего злобней клевещет на Шолохова. И как раз вскоре после выхода этой книги ты вручаешь ему Шолоховскую премию, лобзаешь и спешишь всех обрадовать: «Сегодня у нас праздник!» Можно ли вообразить, что Булгарина наградили премией имени Пушкина? Ты это проделал.
Литературовед Николай Федь получил премию сразу после выхода его книги «Художественные открытия Бондарева», Иван Савельев – за прямое холуйство. С «шедеврами» его беззастенчивой лести стоит познакомиться:
– Юрий Бондарев – последний из работающих ныне великих писателей.
– Он – Поэт!
– Поэтов в прозе у нас было не так уж много: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Бунин, Горький, Леонов, Шолохов, Бондарев. Я говорю о великих художниках и Творцах первого ряда.
– Бондарев – поэт интуиции; ею в высшей степени обладали Пушкин и Толстой…
– Бондарев как Пушкин…
– Бондарев как Толстой…
– Бондаревская поэзия – нестареющая красота. Тут весь Пушкин, а до него – весь Гомер.
– Юрий Васильевич – человек в высшей степени деликатный…
С последним утверждением панегириста, по-видимому, можно согласиться: только человек с гиперболической деликатностью может принимать такие притязания на свое место в сонме великих – от Гомера до Льва Толстого.
Бушин беспощаден в своей критике несправедливости, зазнайства, хамства, злоупотреблений всякого рода. Сергей Михалков говорил: «Попал Бушину на суд – адвокаты не спасут». Но он немстителен и незлобив: выдав на гора правду-матку о бывшем приятеле, считал, что это не должно отражаться на его личных отношениях с Бондаревым, и с лёгким сердцем поднёс к последнему юбилею Юрия Васильевича следующее поздравление:
Разрешите доложить
Коротко и просто:
Я большой охотник жить
Лет до девяноста.
Так писал большой поэт
Александр Твардовский,
Но куда щедрей завет
Оставил Маяковский.
Он считал, что надо жить
Лет до ста без старости,
Не болеть и не тужить,
И не знать усталости,
Да при этом чтоб росла
Бодрость год от года,
Дабы добрые дела
Делать для народа.
Так давай же, старый друг,
Жить вторым заветом,
И страну, и всех вокруг
Радуя при этом.
Хоть и старше мы с тобой
Самого Толстого,
Но куда деваться – бой!
И в бою мы снова.
В нашем взводе этот граф
Бой ведёт за души.
Да, он с нами. Тут ты прав.
Обнимаю. Бушин.
Словом, вместо сегодняшнего «ты – мне, я – тебе», ставшего законом, дедовское «ты мне друг, но истина дороже».
И небывалое бывает. Они встретились в вестибюле станции метро «Охотный Ряд» – бывшие лагерники Михаил Молостов и писатель Валентин Лавров. Последний получил широкую известность своими историческими детективами. В «Книжном обозрении» за 10 марта 1998 года сообщалось: «В фотоцентре на Гоголевском бульваре прошёл крупный аукцион рукописей и редких книг – без малого четыреста лотов. Наибольший ажиотаж вызвала вёрстка с многочисленной правкой первого полного издания Валентина Лаврова „Граф Соколов – гений сыска“».
За этот лот было заплачено 12 миллионов рублей! По слухам, расщедрился представитель одного американского университета, решивший, видимо, загодя собирать автографы русских писателей – пока они ещё здравствуют.
Бывшие страдальцы (оба были осуждены как политические) обнялись и, конечно, вспомнив прошлое, заговорили о настоящем. Молостов оказался депутатом Государственной Думы первого созыва. Это удивило писателя, твёрдо убеждённого в том, что «эти важные люди на метро не ездят; они раскатывают на роскошных иностранных марках с мигалками на крышах и специальными номерами».
На недоумевающие вопросы бывшего солагерника Молостов заявил:
– Я ведь всегда был отщепенцем, вот и отказался от авто и всяких депутатских привилегий. Призывал остальных депутатов от них отказаться. Куда там!
– Небось, на тебя твои коллеги смотрят как на сумасшедшего!
– Хуже – как на личного врага! Если бы могли, пришили бы 58-ю!
По этой статье Молостов и попал в начале шестидесятых годов в мордовские лагеря. В Омске он преподавал марксизм-ленинизм, вёл ещё переписку с несколькими друзьями – обсуждали политические проблемы, проговаривали (не в лоб, конечно) способы их решения. Во всяком случае, в приговоре говорилось: «Обдумывали возможность создания организации».
Вот чтобы у «трёх товарищей» было больше времени для обдумывания, «самый гуманный в мире суд» отправил их куда Макар телят не гонял.
Во власть Молостов пошёл, чтобы «добрые дела делать». Сетовал Лаврову:
– Поверь, в нынешней Думе с этим очень трудно. Повальное взяточничество, проталкивание чьих-то интересов.
Но, как говорится, один в поле не воин; на всех уровнях государственных структур «народные» избранники продолжают являть примеры корыстолюбия и продажности. И что хуже всего – политической. Неслучайно в последние годы СМИ бьют тревогу по поводу пятой колонны.
Прощание. Весной 1918 года молодая художница Евгения Ланг весьма решительно порвала с поэтом В. В. Маяковским. Но забыть, вычеркнуть его из своего сердца не могла. Поэтому, уезжая на следующий год за границу, она не выдержала и позвонила ему, предложив встретиться. Местом встречи Ланг назначила угол Лубянской площади, у консистории. Женщина волевая и решительная, Евгения сразу объявила о цели свидания:
– Знаешь, я уезжаю за границу, и не могла уехать всё-таки, не повидав тебя.
– Я тебя не отпущу.
– Ну, об этом поздно говорить. Я решила ехать, потому что здесь мне дороги нету. Я знаю, что нам с тобой встречаться не нужно, у тебя – Брики, ты выбор сделал. А я поеду и буду художником. Я выбрала свою профессию.
По-видимому, в сознании Маяковского ещё оставались какие-то крохи воспоминаний о недавнем увлечении; и он принялся уговаривать Ланг остаться, изрёк даже крылатую фразу, одну из тех, на которые был щедр в отношениях с женщинами:
– А что я буду делать – Москва без тебя опустеет.
Конечно, Евгения колебалась, а Владимир Владимирович поддавал жару:
– Когда я думаю, что есть какое-то будущее, я его без тебя не представляю. У меня такое впечатление, что ты всегда в моей жизни была, даже раньше, чем я тебя узнал. И что ты будешь в ней всегда.
Слова, слова, слова…
Поверить в их искренность могла только одураченная простушка. Ланг к таковым не относилась, но речениям поэта внимала долго, так как любила его, но согласиться с его «особыми» отношениями с Бриками не могла. Встреча несколько затянулась:
«Долго мы стояли на углу и разговаривали. В конце концов он опустил голову и сказал:
– Знаешь, я, пожалуй, буду спокойней, когда ты уедешь.
И тут я сказала:
– Володя, я прощаюсь по-настоящему. Если мы с тобой встретимся, а мы с тобой наверняка встретимся когда-нибудь, я не буду ни разговаривать, ни перемывать старое. Вот теперь, теперь мы прощаемся».
…Эта женщина проявила железную силу воли. Она действительно дважды случайно встречалась с Маяковским в Берлине и Париже и говорила об этих мгновениях счастья: «Я, может быть, чересчур резко поступила». Вычеркнув великого поэта из своей жизни, Евгения Ланг продолжала его любить. На закате своих дней (в восемьдесят лет) она говорила сотруднику Научной библиотеки МГУ В. Дувакину:
– Понимаете, ко мне Маяковский обратился своей самой лучшей стороной. По отношению ко мне он за все годы никогда не был груб, никогда не был невнимателен и никогда не был резок. Я эту лучшую сторону приняла. Потом я очень много слышала всего. Но я, кроме светлого и хорошего, от него ничего не видела. Потом, много позже, я поняла, что тогда на всё смотрела в розовом свете.
В. В. Маяковский
Роз не будет. Поэт Анатолий Мариенгоф, друг Сергея Есенина и Рюрика Ивнева, был щёголем. Даже в суровые годы Гражданской войны тщательно следил за ногтями рук (это при необходимости топить буржуйку!) – красил их розовым лаком; волосы на голове вызывающе разделял гвардейским (прямым) пробором; ходил в новеньких лакированных ботинках и элегантном костюме. И это на фоне потёртых френчей и галифе, облезлых шуб, вязаных фуфаек и башлыков.
К простым людям относился с плохо скрываемым презрением. «Сколько вокруг всякой мрази, – говорил он. – И только подумать, что для них мы творим и сжигаем себя в огне творчества!»
Эстетом и модником Мариенгоф оставался всю жизнь. Как-то в начале 30-х годов встретился на Театральной площади с Ивневым, приехавшим из Тбилиси на премьеру оперы Захария Палиашвили «Абессалом и Этери», либретто которой он перевёл с грузинского языка на русский. Мариенгоф же прибыл из Ленинграда для просмотра своей пьесы «Наследный принц»; её привезла на гастроли труппа одного из провинциальных театров.
Был ясный июльский день. После объятий, поцелуев и бормотаний несвязных слов Мариенгоф неожиданно сказал:
– Ты совсем не изменился. Что-нибудь принимаешь?
– Если бы было что принимать, – засмеялся бывший председатель «Общества поэтов», – это принимали бы все.
Старый приятель ничего не ответил, а посмотрев внимательно на визави, спросил:
– Красишь брови?
– Ты с ума сошёл, – воскликнул Ивнев. – Кто их красит?
– Как ты отстал от жизни! – удивился друг. – Красят теперь все – мужчины и женщины.
– Ну есть же такие, которые не красят.
– Этого не может быть, – твёрдо сказал Мариенгоф.
Ивнев знал, что в кармане пиджака приятель всегда носил маленький флакончик духов и шёлковый платок. Поэтому предложил:
– Не пожалей несколько капель своих парижских духов и проверь.
Проверил, но не поверил. Изрёк:
– Достал, значит, хорошую краску.
Ивнев так и не понял, шутит приятель или смеётся над ним. Мариенгоф отличался язвительным остроумием и ёрничал всю жизнь. Последний раз поэты виделись в 1960 году – Ивнев навестил больного друга. Мариенгоф попросил:
– Прочти свои стихи.
Ивнев прочёл. Стихотворение оканчивалось так:
Кому готовит старость длинный ряд
Высоких комнат, абажур и крик из детской,
А мне – столбов дорожных ряд
И розы мёрзлые в мертвецкой.
– Это самое оптимистическое из всех твоих стихотворений! – воскликнул больной.
– Толя, какой же это оптимизм? – ошеломлённо прошептала жена Мариенгофа.
Тот развёл руками и пояснил снисходительно:
– Как вы не понимаете! Это же оптимизм – розы. Пусть даже мёрзлые. Никаких роз в жизни и после неё у нас не будет.
Не сегодняшнюю ли Россию имел в виду поэт есенинского круга?
Две встречи. Первая из них произошла осенью 1961 года. B. C. Бушину, сотруднику журнала «Молодая гвардия», позвонил некий майор из КГБ и предложил встретиться… под навесом левой стены Большого театра. Особого желания идти на «свиданку», конечно, не было, но и отказаться нельзя – не тёща на блины приглашает. Встретились. Разговор был короткий, но весьма конкретный:
– Надеюсь на ваше содействие и помощь в случае чего.
– О чём говорить! – обнадёжил Владимир Сергеевич представителя грозной организации. – Если какой-то чрезвычайный случай, приму посильные меры.
Речь шла о плавании на теплоходе «Феликс Дзержинский» из Одессы в Египет советской туристической группы. Вполне естественно, что органы государственной безопасности были озабочены исходом этого вояжа. И что же наш блюститель общественной нравственности?
– Как только теплоход вечером отошёл от одесского причала, я сразу направился в бар и познакомился там с молодой русской парой из Франции: Олег и Марина. Он настроен очень прорусски: много рассказывал о знаменитых людях русского происхождения по всему миру. А она не помню, что говорила, но была очень мила. Прекрасно провели вечер. Обменялись адресами. На другой день, кажется в Стамбуле, они сходили. Я помог им нести вещи к трапу.
По возвращении из турне Бушин получил письмо от Марины, «очень трогательное и забавное, не шибко грамотное». Только собрался ответить – звонок и приглашение под тот же навес вдоль левой стены Большого театра. Тот же майор осведомился о впечатлении от зарубежного тура.
– Всё было прекрасно!
– А вот эта пара, с которой вы беседовали в первый вечер. Вы не завязали знакомство, не обменялись адресами?
– Нет! – твёрдо произнёс Бушин под укоризненным взглядом кербелевского Маркса[6]. Но основоположник великой утопии промолчал – тоже любил женщин.
Вторая памятная встреча произошла через сорок семь лет на Театральной площади. 9 Мая она (как и другие) становится местом сбора ветеранов Великой Отечественной войны. Постоянно бывал на ней в этот день известный журналист B. C. Бушин. Первый день Победы Владимир Сергеевич встречал в Кёнигсберге, тогда он так писал об этой эпохальной вехе в мировой истории:
«Как непривычно и странно: война кончилась. Уже с двух часов ночи почти никто не спал. И до утра была пальба изо всех видов оружия. И раненые в госпиталях ликовали. Утром у репродуктора политотдела, когда ещё раз передавали акт капитуляции, встретил С. А. Шевцова. Мы поздравили друг друга и поцеловались. Позже он пришёл к нам на митинг, читал стихи.
В День Победы я гонял на велосипеде, которых здесь множество. Радость требовала физического выражения. Днём на одном из перекрестков были танцы, танцевали генерал Гарнич[7] и сам Озеров, наш новый командарм (Фёдор Петрович, 1899–1971, два ордена Ленина и др.). Все гадают: когда будут отпускать, кого в первую очередь. В такие дни, как сегодня, лучше молчать, всё равно не выскажешь всей радости. Но не молчится!»
За восемь дней до окончания войны Бушину был присвоен чин капрала; служил он в 103-й Отдельной армейской роте воздушного наблюдения, оповещения и связи (50-я армия), пописывал стихи.
После оглашения акта о капитуляции Германии Владимир Сергеевич получил задание написать стихотворение о Сталине. Что он с удовольствием и сделал:
Если было б судьбой суждено мне
Жить до ста, даже тысячи лет,
И до тех бы времён я запомнил
Дня победы и облик, и цвет,
Слёзы счастья и скорби на лицах…
Отстояли мы волю и честь!
Залпы тысячи пушек в столице,
О Победе разнёсшие весть.
И простое сердечное слово
Поздравленья отцом сыновей
В этот день мы услышали снова,
Дети разных земель и кровей.
Его слово нас в битвы водило,
В амбразуры бросало сердца.
И его беспощадную силу
Враг сегодня узнал до конца.
…В 63-ю годовщину Великой Победы Бушин, при орденах и медалях, стоял у памятника К. Марксу и пытался увидеть в людском водовороте кого-нибудь из однополчан. Неожиданно к нему подошла супружеская пара, и женщина расцеловала Владимира Сергеевича, ввергнув 84-летнего ветерана в ступор.
Но на этом «театральная» история не закончилась. К следующей годовщине Победы незнакомка подала о себе весть по интернету: «Владимир Сергеевич, имею желание в очередной раз поцеловать вас в День Победы на Театральной». Бушин, человек внешне вспыльчивый и грубый, а внутренне отзывчивый и сострадательный, ответил через тот же интернет:
Всё помню, милая Наташа,
Весь облик ваш, всю вашу стать,
А тот поступок, смелость ваша
Мне до сих пор мешают спать.
Знавал я женщин, был в полоне
Не раз у них, но чтоб в толпе
При Марксе и при Аполлоне,
Как на лесной глухой тропе…
Я был бы лицемер, Наташа,
Восторг свой в День Победы скрыв.
Нет ничего на свете краше,
Чем женский искренний порыв.
В воспоминаниях «Я жил во времена Советов» Бушин сделал такое примечание к приведённым выше строкам: «Маркс был рядом, и Аполлон взирал с Большого театра. Не хватало только Кербеля». Не удержался и прошёлся по адресу последнего:
– Он тогда[8], женившись на лихой девчонке, кажется, ещё не был Героем Социалистического Труда, но уже был раза в три старше неё. Это не всегда хорошо. Довольно скоро он понял, что ему гораздо лучше было бы жениться не на дочери, а на матери. И маэстро без проблем сделал это.
У костра. Было начало 1918 года. Алексей Николаевич Толстой возвращался с литературного вечера у присяжного поверенного Кара-Мурзы. С ним была жена, Н. В. Крандиевская, и попутчики: писатели Б. К. Зайцев, М. А. Осоргин, А. Соболь.
Шли к Арбату. Мороз подгонял засидевшихся в гостях литераторов. Ни извозчиков, ни трамваев, ни освещения в городе не было. Ориентироваться помогали яркая луна да глубокая тропа, проложенная среди высоких сугробов. На перекрёстках улиц и переулков горели костры, у которых грелись постовые, проверявшие документы.
Возле Лубянки у одного из костров было особенно многолюдно. Высокий человек в распахнутой шубе, широко жестикулируя, читал стихи. Завидя приближавшихся писателей с дамой, приветливо закричал:
– Пролетарии, сюда! Пожалуйте греться! А, граф! – узнал он Толстого и повторил: – Прошу к пролетарскому костру, ваше сиятельство! Будьте как дома.
Приветливым великаном был уже известный поэт Владимир Маяковский. Алексей Николаевич познакомился с ним пять лет назад в «Обществе свободной эстетики». Тогда Владимир Владимирович считался больше художником, чем поэтом, хотя окружение его уже предчувствовало священный дар в будущей знаменитости. Софья Дымшиц вспоминала об этом времени:
– Очень большой и прекрасный человек стоял среди нас на Воробьёвых горах. Он был больше всех нас, художников, которые, собравшись у Лентулова, вышли на эту прогулку. Он читал стихи, которые я, признаться, не столько понимала, сколько чувствовала. Мне казалось тогда, что это не стихи, а стихия – стихия поэзии, творчества и борьбы.
Вот и на этот раз, у костра, Маяковский что-то декламировал. Потом протянул руку в сторону Толстого и торжественно произнёс:
Я слабость к титулам питаю,
И этот граф мне по нутру,
Но всех сиятельств уступаю
Его сиятельству – костру!
– Здорово! – одобрил экспромт Алексей Николаевич.
У костра оживление, смех. Толстой не отрываясь смотрел на Маяковского, видимо, любуясь им. Андрей Соболь потянул писателя за рукав:
– Плохо твоё дело, Алексей, идём-ка от греха!
Мимо Китайгородской стены писатели спустились по склону Неглинной горы к Охотному Ряду. Пустынная тишина города, древняя стена и башни слева, горы снега, скрадывавшие все звуки, безмолвие звёзд, мерцавших над головами путников, – всё создавало иллюзию ирреальности, настроение отрешённости от сегодняшнего дня.
Долго шли молча. Снег тихо поскрипывал под валенками. Неожиданно Алексей Николаевич произнёс:
– Талантливый парень этот Маяковский. Но нелепый какой-то. Громоздкий, как лошадь в комнате.
И опять тишина. Каждый думал о своём, возвращаясь в промёрзлые московские квартиры первой послереволюционной зимы.
«Так помни». Редактор Госиздата H. A. Брюханенко познакомилась с В. В. Маяковским летом 1926 года, постоянная связь с ним установилась в июне следующего. О степени их близости можно судить по следующим строкам воспоминаний Натальи Александровны «Пережитое»:
«Звал меня Маяковский большей частью очень ласково – Наталочка. Когда представлял кому-нибудь чужому, говорил: „Мой товарищ-девушка“. Иногда, хваля меня кому-нибудь из знакомых, добавлял: „Это – трудовой щенок“. Часто и мне говорил:
– Вы очень симпатичный трудовой щенок, только очень горластый щенок, – добавлял он с укором. – Ну почему вы так орёте? Я больше вас, я знаменитей вас, а хожу по улицам совершенно тихо».
Как-то Владимир Владимирович провожал товарища-девушку домой. Шли через пустую Лубянскую площадь. Наташа только что вернулась из Харькова, поездку куда Маяковский не приветствовал. Грустный и тихий, он пенял подруге:
– Вот вы ездили в Харьков, а мне это неприятно. Вы никак не можете понять, что я всё-таки лирик. Дружеские отношения проявляются в неприятностях.
Чувствуя себя несколько провинившейся, на следующий день Наташа позвонила сама:
– Когда увидимся?
– Сегодня я занят, – огорчил её Владимир Владимирович, – но завтра приду к вам, помахаю билетами, и мы пойдём в кино, потом в концерт, а потом в театр – сначала в Большой, потом поменьше, потом – в самый маленький.
На намеченные развлечения Маяковский шёл усталым и расстроенным. Отвлекая спутника от невесёлых мыслей, Наташа похвалила его статью о культурной революции, напечатанную в «Комсомольской правде».
– Вещь-то хорошая, – согласился Владимир Владимирович, – а из-за неё столько шума теперь. Луначарский написал в Агитпроп ЦК письмо с протестом. Я не думал, что про министров нельзя писать. Тем более предварительно звонил Луначарскому, и мне передали, что он на стихи не обижается. Строк шестьдесят выкинул после этого, и всё-таки…
Помолчал и добавил:
– Я считаю всё время, что я заодно с советской властью и о культурной революции написал не против, а за неё.
…По воспоминаниям «Пережитое», Наталья Брюханенко помогала Маяковскому в работе и скрашивала три последних года его жизни. Но оказывается – не только. Воспоминания её заканчиваются весьма многозначительным признанием: «Лиля Брик писала в 27-м году в Ялту Маяковскому, что „я слыхала, ты собираешься жениться, так помни, что мы все трое уже женаты…“ Это писалось обо мне».
Синонимы. В труднейшие годы становления СССР наиболее ответственные посты нового государства занимал Ф. Э. Дзержинский: председатель ВЧК-ОГПУ, председатель ВСНХ и нарком путей сообщения. То есть в годы экономической разрухи, вызванной Первой мировой и Гражданской войнами, Феликс Эдмундович восстанавливал железнодорожное движение и промышленность страны, ликвидировал саботаж этому, боролся с контрреволюцией, спекуляцией и детской беспризорностью. И на всех своих совмещаемых постах Дзержинский сделал достаточно много, чтобы вызвать ненависть тех, кто был так или иначе причастен к разрушению великого государства; именно с него началась вакханалия низвержения памятников советским государственным деятелям, писателям и учёным.
1
«Доктор Живаго».
2
«Ирисники» – продавцы в розницу, лотошники.
3
«В прекрасном» – имеется в виду искусство.
4
Известия ЦИК СССР и ВЦИК, 20.01.1926.
5
Товарищи – без всякого чинопочитания и словоблудия.
6
Монументальная скульптура К. Маркса работы Л. Е. Кербеля.
7
Н. Ф. Гарнич – военный историк, автор книги «1812 год» (издания 1952 и 1956 годов).
8
В 1965 году.