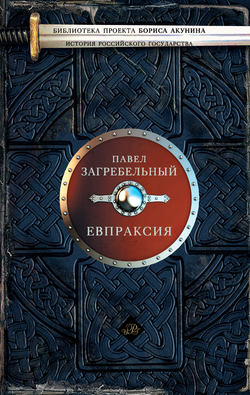Читать книгу Евпраксия - Павел Загребельный - Страница 14
Шестилетие (продолжение)
ОглавлениеКведлинбургское аббатство пыталось сравняться своими садами с прославленным аббатством Рейхенау, что же до огородов, то равных кведлинбургским нигде не было, а после того, как в аббатстве появилась Журина, тем паче. С весны и до поздней осени не отрывалась она от теплой земли, и хоть земля здесь не такая щедрая, как в Киеве, все ж старанье и рвенье даром не пропадают; лоскутки монастырских огородов, разбросанные меж прудами и садами, ошеломляли каждого своим языческим буйством, пышно разросшейся зеленью, кустистостью, сочностью, первозданностью красок, нежностью и неповторимостью каждой, там не хватало уже места для щедрот земли, приходилось ставить подпорки и колышки, пускать вьющиеся растения вверх, тем самым будто поднимая огород в воздух, и тогда огурцы росли по-над землею, всевозможная ботва протягивалась к солнцу, образуя прозрачно-зеленые стены. Наибольшую радость приносила Журине фасоль, причудливейшее растение: она обвивалась, оплеталась вокруг густо поставленных деревянных шестов и подпорок, свободно расправляла вьющиеся батожки-стебли; фасоль напоминала знакомый еще с детства лесной хмель, только без шершавости листьев и стеблей, была она нежно-бархатной, будто прикосновенье детских пальчиков; закрученными кончиками своих батожков щекотала за ухом, игриво прикасалась к шее, проказливо пробиралась за пазуху, и тогда Журина невольно заливалась краской, прижимала скрещенные руки к вырезу сорочки, озиралась пугливо, по-девчоночьи, будто и не была зрелою женщиной. Фасоль разрасталась неудержимо жадно. Ее шелковисто-зеленые заросли создавали в огородах какие-то улочки и тайные укрытия, недоступные для постороннего глаза убежища. Становились нужны новые и новые шесты, и тогда Журина звала на помощь воеводу Кирпу, по привычке спрашивала:
– Ну, как живешь, Кирпа?
– Ни пес, ни выдра! – отшучивался Кирпа, переступал с ноги на ногу возле фасоли, заглядывал в огородные улочки и затененные укрытия, потом бросал взгляд и на Журину, взгляд словно бы и обычный, случайный, но женщине становилось не по себе от пристального взгляда: преодолевая чуть ли не обморочное состояние, на какой-то миг овладевающее ею, Журина торопилась отвлечь внимание Кирпы, говорила:
– Смотри – фасоль. Правда, как наша?
– А мы чьи?
Она умолкала. Чьи? Она не принадлежала самой себе. Чья она? Ничья. Да и будет ли теперь чьей-нибудь?
Кирпа умело ставил шесты. Он, видно, все на свете делал умело, быстро и в охотку.
Земля была мягкой и теплой: тепло держалось уже длительное время, даже прекратились надоедливые дожди, от которых у человека здесь навеки мягчеют кости. Кирпа размягчался от тепла и от эдакого буднично-домашнего занятия – вроде и не воин, вроде пропадала и пугающая скособоченность, он стоял среди гряд в длинной рубахе, в изношенных портах, босой, простоволосый, какой-то и вправду совсем домашний.
Однажды не выдержал. То ли пошутил, как всегда, то ли не шутя сказал с какой-то безнадежной горечью:
– Пришла бы ты сюда ночью, в эти заросли.
Она прикинулась, будто не понимает, но горечь в словах его что-то тронула в душе.
– Я уже здесь, зачем же ночью приходить?
– Тогда бы и я, может, пришел…
– И ты сейчас тут.
– Тут, да еще не тут…
Билась жилка на шее, опять какой-то сладкий обморок разлился по всему телу. Пусть случится, как должно случиться и что должно случиться.
Но Кирпа принялся за работу, умело вбивал острые шесты в мягкую землю, умело укреплял их, и получалось, будто он отдаляется от Журины с каждой забитой палкой. Когда кончил работу, немного постоял, не оглядываясь, глухо спросил:
– Так как? Придешь?
– О чем ты, Кирпа? – переспросила, сразу же и пожалев об этом, но он обернулся к ней, ослепляюще улыбнулся:
– Ну, не при солнце будь сказано…
И, откинув чуть назад тело, словно мечом рубанет сейчас, двинулся на нее, и она очутилась в его неуклюжих объятьях, ударилась об него телом, сорочка на сорочку, грудь на грудь.
– Господи, стыд какой!
Он не мог оторваться от нее, да и у нее тоже не было такой силы, но в женщине всегда живет стыдливость, страх и нерешительность.
– Увидят же! Что ты делаешь, Кирпа!
Он отпрянул от нее, опьянело отошел на шаг, его перекосило больше, чем обычно. Сказал твердо:
– Жду тебя здесь, как стемнеет.
Молчаливое согласие выведал в больших ее глазах.
Украдкой сошлись они ночью, сразу же нашли друг друга, забились в глубь непроходимых зеленых зарослей, мягкая земля ласково приняла их; они дотрагивались друг до друга с жадностью слепых, что встретились после долгих блужданий по безлюдной пустыне, слова не нужны были им, речь перешла в пальцы, в руки, стала прикосновениями, они узнавали и не узнавали самих себя, задыхались от нежности, утопали в ней, чувствуя, что вот-вот погибнут. Почему так поздно встретились, почему так долго не могли найти друг друга, почему, почему, почему? Длинные косы Журины рассыпались по земле, оплетали Кирпу, как живые, из них, чудилось, вылетали искры; зеленый тайник, озаренный каким-то дивным светом… тишина вокруг такая, будто все на свете умерло, только они живут… да в самом деле только они и живут, а больше никто.
Земля была мягкой, клочок земли в густом беззвучном зеленом свете доброй фасоли точно такой, как в далеком Киеве, и вокруг темнота, в которой тоже было что-то киевское, хотя от воспоминаний они оба были далеко-далеко. Да и зачем вспоминать прошлое? Оно теперь не поможет, позади и нет ничего, а они здесь, ныне и присно и во веки веков, ныне, ныне, ныне!
Кирпа гладил ладонями лицо Журины, ее плечи, руки – всю Журину и то место, тот клочок земли, который был ее ложем.
– Вот. Бьются люди за землю. А земля каждому – лишь бы поместилась на ней та, кого любишь. Больше и не нужно.
Журина тихо засмеялась.
– А фасоль?
– Фасоль пускай растет вверх. Как груши.
Журине хотелось плакать. Ну, почему они так долго не могли найти друг друга, почему? Жизнь так коротка и так жестока. Бьются люди. Молятся.
Страдают. Князь стоит над всеми, платит тем, кто убивает, и тем, кто лечит. Бессмысленно и страшно. А жизнь ведь короткая…
Она лежала на спине, всматривалась в темноту: почему-то показалось, что это не фасоль растет вокруг, а молодо шумит весенняя пуща, в глазах ее – раскачивались деревья, шептала листва, пели птицы, пели, потому что не знают печалей, не ведают про боли и страданья людские.
Кирпа словно разгадал ее мысли, ласково-осторожно гладил ее тело и непривычным голосом говорил:
– Не могу жить в камнях… Тянет меня в лес, чтобы там лечь под деревом и слушать, как шелестит жито на опушке…
Она хотела сказать: «Послушай нашу фасоль». А подумала: «Меня послушай». Сама же слушала его. Вот тебе и косоплечий! Вот тебе и зубастый пересмешник!
Так началось между ними. Днем все привычное, только ожидание ночи нетерпеливое, лихорадочное, встревоженное, будто могла найтись какая-нибудь неведомая сила и сдернуть полог ночи над аббатством.
– Я думала, монахини дурные. Ведь кто же умный пожелает заточить себя на всю жизнь в этот камень? А теперь и сама отсюда никуда бы не рвалась.
– А мы с тобой не средь камня – мы средь фасоли.
– Тайник надежнее камня.
– В фасоли – и такое счастье! А я говорил: ни пес, ни выдра.
– Оборвал ты мне корни сердца…
– Вот проделаю дырку в стене фасолевой, угадай, что увидишь?
– Не знаю.
– Звезду. Низко-низко. Протягивай руку и бери.
– Звезды – это для нас. А луна взойдет – так уже для аббатисы.
– А правда, что она при луне ходит голая вкруг прудов?
– Не говори так: грех.
– А что такое?
– Никто не видел, ходит Адельгейда или нет.
– И видеть не нужно, можно догадаться.
– Она ведь нам не мешает.
– Сама говоришь: будет мешать луна.
– Ну да, она вот нам враг.
– Прокрадемся украдкой и при луне.
– Молчи! Накличешь беду. Совы кричат над аббатством…
– А что нам совы?
Он был беспечный и отважный. А что нам совы!
А совы кричали над аббатством, старые, седые, слепые. Никому не предвещали счастья, всем напоминали про тьму и зло, напоминали про смерть, про убийства, про войны. Император не возвращался из Италии, император вел свои войны против папы, против графов, против гор и равнин, против людей простых, против отцов детей убитых и детей еще не убитых, а затем уже и за детей принимался. Войне конца не было, потому что отцы, что утратили детей, хотели, чтоб другие отцы тоже потеряли своих детей, по-иному не представляли себе справедливости. Война была словно непрерывное, вечное отмщение неведомо кого, неведомо кому.
Император дождался наконец смерти самого лютого своего врага, папы Григория. Прервалось дыхание человека, изгнанного из Рима, потерявшего власть и влияние, попавшего в плен к Роже Сицилийскому, бывшего германца Гильдебранда, ставшего римским понтификатом, главой римско-католической церкви, человека, в течение десятилетия потрясавшего королевствами и империями и положившего начало, чуть не на тысячелетие вперед, раскол Европы, – сей человек оставил бренный мир, и Генриху можно было успокоиться на некоторое время, отдохнуть от трудов великих. Император решил-таки покинуть юг, никто не знал, где он появится раньше: в Госларе, любимой столице его отца, который построил этот город на месте водяной мельницы, или в Вормсе, или в Майнце, или в старинной столице германской Бамберге, а может, и в Кведлинбурге, где не нужно будет восседать в неуютном императорском дворце, где можно спрятаться от трудов и забот в тихом аббатстве сестры Адельгейды.
В Кведлинбурге кололи свиней, запасали колбасы и копчености, ловили перепелок, потому что «перепелки по-кведлинбургски» было любимое блюдо Генриха; все в городе жило ожиданием высокой минуты, когда раскроются ворота, загремят мостовые цепи, ударят в котлы, заиграют на лютнях, зазвенит оружие, засверкает золото, завеют стяги императорские.
Пришла весть о смерти маркграфа Штаденского, и Евпраксия оделась в жалобу. Во всем черном стала еще тоньше, еще стройней, годов, проведенных в аббатстве, незаметно по ней – все такая же девочка, хотя уж и вдова, и в жалобе, хотя и… Сравнялась судьбой с Янкой, сестрой в Киеве. Янке отец возвел монастырь, она собрала туда девчат из богатых семей, хотела обучать разным наукам, наверное, все о боге. А Евпраксия?
Что ж ей делать-то теперь? Навеки оставаться в монастыре? Рядом с ней Журина, отец Севериан-исповедник, несколько дружинников с Кирпой.
Возвратилось ее богатое приданое киевское: возы, кони, верблюды, колеса. А ни земли своей, ни убежища.
Адельгейда успокаивала:
– Вот приедет император.
А ей какой прок от императора? По возрасту он, кажется, равен князю Всеволоду. По значению? А для нее-то что значит чье-то значение? От великого князя из Киева ничего: ни вестей, ни советов, ни соболезнования.
Император не знал ее, она не знала императора. Одни слухи – и все. Среди них такой: у императора умерла жена Берта; оставила Генриху двух сыновей:
Конрад – молоденький, как Евпраксия, другой – Генрих, еще моложе, ребенок.
Адельгейда объяснила:
– У императора нет детей.
– А кто же эти? – удивлялась Евпраксия.
– Наследники… У него и жены не было.
– А кто же?
– Императрица. Ненавидел ее.
– Он всех ненавидел?
Адельгейда не ответила. Она знала о брате больше, чем кто бы то ни было. Еще семнадцатилетним он в бесчинствах зашел так далеко, что подговорил своего злого, ближайшего своего в любой мерзости напарника Заубуша (до сих пор не могла вспомнить об этом без ужаса и отвращения) изнасиловать ее, Адельгейду, не простушку – какую-нибудь девственницу, не чужую жену, а ее, императорскую дочь, аббатису Кведлинбургскую. Как-то летней ночью, возле четырехугольного пруда… заманили, напали вдвоем… император заломил сестре руки, а тот, Заубуш, торопливо рвал с нее одежды, мял нетронутое тело; из страха уже не за себя, а за императорское имя она не кричала, лишь стонала глухо, а Генрих насмехался и над ней, и над насильником:
– Заубуш, я буду держать только руки. С ногами управляйся сам. Ноги у женщин не для обороны. Они созданы природой для покорности и для мужского наслаждения.
Она должна бы проклясть Генриха, а вышло?.. Саксонские князья, ища поводов для войны против императора, дважды собирались, обсуждали позорное насилие над родной сестрой. Адельгейда отказалась обвинить брата.
Чувствовала: падает туда, где кишат дьяволы и где для такой, какова она, теперь найдется место, однако святость императорского имени была для нее превыше всего. Жертвовала собой не для Генриха – для самой идеи императорства и, следовательно, в какой-то мере и для себя.
Генрих опомнился, возможно, даже испугался своего поступка. Позвал Заубуша к себе в Гарцбург. Тот отправился из Гослара даже без оруженосца, решив, что речь идет о тайном совете у императора, и гордясь его высоким доверием к себе. По дороге в одном лесу Заубуш заметил засаду и, хотя не подумал, что это против него, на всякий случай спрятался в ближней церкви.
Бургграф Мейссенский Бургхард поехал за ним, дал слово чести, что с Заубушем ничего не случится, если тот выйдет из церкви. Заубуш не поверил.
Но, понимая, что святость церкви не остановит нападающих, если они действуют по воле самого императора, вышел и отдал себя в руки Бургхарду.
Его загнали в чащобу и посекли мечами. Император сообщил сестре, что она отмщена, а потом узнал, что Заубуш выжил, потерял ногу, весь в рубцах – однако живой! Некие высшие силы, видно, сохранили этого в конец испорченного, но тем, может, и дорогого императору человека.
Генрих навестил еще больного Заубуша, даровал ему баронский титул, правда, без земли и без подданных, приблизил к себе еще больше – с тех пор сей человек стал довереннейшим слугой Генриха. Бежать не мог, потому как одноногий, изменить тоже не мог, ибо для кого же? Покинуть? Без имущества не покинешь, все попытки что-нибудь получить уже давно оставил, – в ответ каждый раз император смеялся:
– Зачем земля тому, кому принадлежат все места, где свиньи жируют[2]?
После императора ты – могущественнейший человек в империи!
Каждый раз, приезжая в Кведлинбург, Генрих сталкивал Адельгейду с Заубушем. Он любил, когда люди ненавидели друг друга. Привозил Заубуша, чтобы тот укреплялся в ненависти к Адельгейде вблизи. Адельгейда ненавидела Заубуша добровольно, без принуждения. А влекутся друг к другу люди незаметно, и с течением времени ни она, ни Заубуш не могли различить, что же между ними – вражда или любовь? И ждала Адельгейда приездов императора в Кведлинбург с испугом, с ненавистью, а одновременно с затаенным нетерпением: вместе с Генрихом неминуемо должен был приехать и Заубуш.
Наступила зима, не знать уж и какая по счету зима на чужбине для Евпраксии. Времена года – медленные, одинаково печальные, будто плакучие ивы, не приносили ей ничего, даже весть о смерти маркграфа не удивила, потому что умер он для нее в ту, в первую и последнюю, ночь, когда боролась с ним, а потом в отчаянии хотела покончить с собой (да Журина не дала).
Дни были наполнены привычно-бестолковыми спорами отца Севериана и отца Бодо, сдержанными разговорами с Адельгейдой, тоской, раздражительностью, когда не хотела видеть никого, прогоняла прочь даже Журину, не читала книг – новые для себя языки словно забывала в такую пору, язык детства не вспоминала: тяжело было вспоминать, от слов осталась лишь летучая тень, ничего больше.
По ночам над аббатством кричали совы, было страшно и одиноко, Евпраксия нетерпеливо ждала снов, своего единственного богатства. Ее сны брели через реки, проскальзывали под зелеными ветвями деревьев в пущах, пролетали долины, искали Киев, потаенный в золотой грусти церквей.
Зимней ночью приснился ей белый ангел. И руки у него светились золотистым огнем. От радости Евпраксия пробудилась и увидела Журину со свечой в руке.
– У меня уже горит одна, – сонно сказала Евпраксия.
– Принесла еще одну.
– Зачем же сразу две?
– Говорят, император въехал в Кведлинбург. Пусть горят у тебя две, ты ведь княжна.
– Я уже забыла об этом. А император где?
– Не знаю. Не видела его. Видела одноногого.
– Кто это?
– Не ведаю, дите мое. Страшно что-то мне стало. Понесла тебе свечу.
– Ты не бойся, – сказала Евпраксия.
– Не боюсь, а страшно.
Обе притворялись, будто ничего не знают об одноногом. На самом деле знали уже давно: одна от Адельгейды и баронских дочерей, другая – от монахинь. Да и ожидали все эти годы в Кведлинбурге то ли императора, то ли, может, еще больше – Заубуша. Адельгейда – с давней ненавистью вместе с позднее возникшим и стойким вожделением, женщины в монастыре – с ленивым любопытством. Будет ходить Адельгейда нагая возле прудов? В особенности возле того, четырехугольного.
Император приехал нежданно, средь зимы, приехал в трауре, похоронив жену, въехал в Кведлинбург тихо, заперся во дворце, сестре не дал о себе знать, хотя, казалось бы, должен был делить траур совместно, да и для скорби душевной аббатство больше подходит, чем большой пустынный дворец, холодный, темный, чужой.
Откуда взялся в аббатстве Заубуш и почему очутился там сразу в ночь императорского приезда? Журина проходила через двор аббатства; в темноте тускло белели каменные аркады; она неслышно ступала по плитам; осталось пройти еще немного под аркадами и свернуть на половину Евпраксии, но ее будто ждали в затененном переходе, навстречу качнулась высокая гибкая темная фигура, прерывисто простучало по камню: стук-стук, и она тут же догадалась, что это Заубуш, хотя прежде никогда не видела его и не слышала стука его деревяшки, даже не знала, носит ли он деревяшку или просто прыгает как-то на одной ноге, а может, носят его, как барона, первого приближенного императора, в золоченой лектике. Темная фигура, стук деревяшки по каменным плитам, неожиданное ночное видение – Журина испугалась и остановилась. А он подошел к ней, стал всматриваться в лицо, глаза у него были большие и темные. Журина вдруг вспомнила разговоры монахинь про то, что Заубуш отличался незаурядной мужской красотой, чьей-то чужой красотой, а тут вспомнила и подумала: вот – появился, и враз подтвердил все рассказы о себе и ее худшие предположения, потому как нахально протянул руку к лицу Журины, взял ее за подбородок, спросил удивленно-недоверчиво:
– Так это ты – княжна русская?
– Не видишь? Ее мать.
– Еще лучше. Иди-ка ближе.
Неожиданно почувствовала в себе дерзость.
– Подойди сам! – ответила с вызовом.
Он засмеялся.
– Деревяшка мешает. Хочу, чтобы ты.
– Я не хочу.
– Заставлю.
– Никто не заставит.
– Мне это нравится. Глянь-ка на меня. Я – Заубуш. Слыхала?
– Догадалась.
– Значит, договорились. – Он попытался схватить ее руку, Журина не далась.
– Не со мной.
Рванулась в сторону, побежала от страшного барона, легко, быстро, словно вспугнутая девчонка. Вдогонку услышала:
– Сто тысяч свиней! Найду тебя!..
Такой вправду найдет. Станет выстукивать деревяшкой по каменным полам всю ночь, пока не доберется до ее келийки, и никто не придет на помощь, и воевода ее не будет ведать о том, что случится, не прибежит, не защитит, не взмахнет, скособочась, мечом. Растерянная и устрашенная, зажгла свечу, пошла в ложницу Евпраксии, теперь вот разбудила княжну, навыдумывала что-то про две свечки, мол, в честь прибытия императора, а у самой все содрогалось от темного предчувствия.
– Посижу немного возле тебя, – попросилась она. – Потому как спать не могу, тревога какая-то в сердце, темно вокруг, все чужое нам.
– А мне снился ангел, и руки у него светились, – сказала, радостно улыбаясь, Евпраксия. – Спала или не спала – не знаю. Твои руки светились.
От свечки.
– Ты чистотой светишься, дите мое, вот и снится тебе такое.
– Нет. Часто мне снятся страхи… И Киев тоже снится. И твои песни грустные слышу сквозь сны. Чаще всего та: «буду степью брести, как голубка, ворковать…»
Остаток ночи они провели меж сном и бодрствованием. Журина все глубже погружалась в тревогу, готова была еще до рассвета бежать в город, к жилью дружинников, разбудить Кирпу, рассказать ему обо всем, что случилось. А Евпраксия воображала себя далеко-далеко отсюда, видела и не видела Журину, слышала и не слышала ее приглушенный голос, что-то другое виделось и слышалось ей, сердце ждало чего-то, она удивлялась, почему медлит утро, будто новое утро должно было изменить всю ее жизнь, покончить с этой жизнью, в монастыре, чужой, расплывчато-неустановленной, ввергающей в отчаянье.
Утро пришло серое, холодное и безнадежное. Клочья мокрого тумана окутали аббатство, смешались с камнями – не разберешь, где туман, а где камень. Давило на душу, убивало желания и надежды, теперь хотелось вернуть ночь, сон, забытье.
И день был таким, как всегда, не принес ничего нового, аббатство в провалах густого тумана замерло, ждало, прислушивалось.
Не услышали ничего. И ничего не случилось. К Евпраксии не заглянули даже святые отцы. Журина не нашла Кирпы и растревожилась еще больше. В тумане над башнями Кведлинбурга отчаянно перекрикивались галки. Где-то по грязным вязким дорогам тянулись в Кведлинбург обозы с живностью, и мрачные крестьяне проклинали непогоду, императора и господа бога.
Император заперся во дворце, никому не показывался, никого не желал видеть, никого не подпускал к себе, никого не выпускал и не отпускал от себя. Как же вырвался от него сразу первой ночью Заубуш? А может, его и не было? Может, то привидение предстало Журине? Ведь больше никто в аббатстве не поминал про барона. Спросить? У кого? Да и надо ли?
Минул еще день и еще несколько дней, и ничего не происходило, и для Евпраксии дни после приезда императора были длинней всех прежних лет ожидания и тоски на чужбине, а для Журины они становились все невыносимей, тревога не угасала, делалась все больше и острее.
И нежданно извещают: император обедает у аббатисы Адельгейды.
Приглашены епископ, аббаты, будут бароны и графы, на императорский обед приглашена Евпраксия, возможно, единственная из благородных воспитанниц.
Потому ли, что никто из них не мог сравняться с ней происхождением?
Она была в черном, тонкая, высокая, такая юная, что казалась в окружении всех остальных просто девчоночкой. И все были в черном: у императора – траур. Никакой пышной встречи – по той же причине: траур.
Генрих слез с коня возле ворот, быстро пересек двор, ни на кого не глядя, сбросил кому-то на руки тяжелый отсыревший мех, остался в черном одеянии, без всяких знаков императорского достоинства, кроме толстой золотой цепи на впалой груди, и эта цепь словно гнула его высокую фигуру, заставляла опускать лицо, обросшее рыжеватым волосом, а может, то делали годы, потому что Генриху было ведь чуть ли не столько же лет, сколько и великому князю Всеволоду, годился бы Евпраксии в отцы.
Генрих императорствовал уже тридцать лет. Трудно себе представить, как долго. И хотя то были годы не легкие, не веселые, хотя протягивалось множество рук к его короне, хотя проклинали его со многих амвонов и даже в Риме, но пробыть тридцать лет на такой высоте, в таком одиночестве?..
В нем перемешалось все: суеверия времени и собственные, привычка и потребность властвовать, умение признать неизбежное, напускная неприступность, наигранное величие, упорство, зазнайство, недоверие, подозрительность. Он никогда не оглядывался назад, смотрел только перед собой, взгляд у него был тяжелый, падал сверху вниз, подавлял и раздавливал, никто не смел выдерживать этот взгляд, кто ж выдерживал – должен неминуемо погибнуть. Да и видел ли на самом деле император что-нибудь и кого-нибудь? Трудно сказать. За долгие годы научился смотреть как бы мимо того, на что смотрит, но украдкой умел высматривать что нужно, замечал немало такого, что хотели спрятать – например, женские глаза.
Правда, в последнее время пришло тревожное ощущение – совсем не тянет уже заглядывать в женские глаза. Они раздражают, и всякий раз всплывает:
«Зачем?» Заубушу твердо приказал насчет женщин: «Презирать!» Тот зло шутил на попойках баронских: «Император объелся свежатиной, перешел на солонину!»
Адельгейда вздумала было приветствовать императора высокоторжественными словами, но он нетерпеливо отмахнулся:
– Знаешь ведь – не люблю бессмысленных кликов. «Аллилуйя», «осанна»… – оставь для своих епископов.
Аббатиса несмело вопросила, не помолится ли император в церкви Святого Серватиуса. Генрих ответил, что не пойдет.
– Но почему же, ваше императорское величество?
– Спроси у Заубуша, – насмешливо бросил Генрих. – Он скажет тебе, кто бог – это сто тысяч свиней!
Все ветры и дымы Европы были в его рыжеватой бородке. Он стремился казаться оскорбительно-грубым, чтобы отпугнуть от себя души низкие и ограниченные, чем как-то сразу понравился Евпраксии. Она понимала его раздраженность и эту вот утомленную его сутулость. Такое – от печального величия. А печальное потому, что не надобно ему самому. Другим – да, ему – нет.
Так смотрела Евпраксия на Генриха, таким увидела его своими серыми глазами, и он натолкнулся на эти глаза, потому что дерзости в них было больше, чем у него самого. Он не вдруг сообразил, кто это, что это перед ним такое. Повел взглядом снизу вверх. Ноги, волосы… Волосы выбиваются золотыми прядями из-под черной накидки; ноги, фигура – стройные, ладные, существо это – девушка чужая, появилась тут словно воплощенная обида его императорскому достоинству, словно раздражающий вызов ему, намек на что-то.
Император спросил невыразительно, без радости и гнева:
– Кто такая?
Адельгейда подвела Евпраксию. Та поклонилась. Вежливо, без преклонения. Дерзка, дерзка! Нужно тотчас же наказать умалением, пренебрежением, но тут же он подумал: иметь перед глазами такое создание не лучше ль, чем смотреть каждый день на баронов с немытыми ушами.
Жалостно и устрашенно мелькнуло: стар, ох как стар он. Розы не пахнут, псы не лают, жены не любят, любовь остыла, зло побеждает.
Он взглянул на Евпраксию искоса, почти украдкой. Ее глаза подплывали к нему, словно два серых длиннокрылых птаха.
Генрих протянул княжне руку.
– Будете за столом моей дамой. Германский император знать не хочет ничего германского. К тому же мы оба в трауре. Примите мои соболезнования.
Маркграф был мне верным слугой.
– Я ничего не знаю об императрице, – ответила Евпраксия.
– Она умерла.
– Ах, это, вероятно, очень печально.
– Вероятно? – Генрих не вдруг опомнился от такой наивности. – Вероятно?.. Смерть – это хуже, чем сто тысяч свиней, как говорит Заубуш!
Нужно жить!
– А кто живет на этом свете? – тихо спросила девушка.
– Кто? Я живу! Заубуш живет! Все мы живы… пока живы!
– Многие мертвые живут и до сих пор, зато множество живых следует считать давно умершими. А кое-кто умирает, так и не родившись.
– Ты говоришь красиво, но крайне неудачно, Праксед. Не ведаешь, что значит – жизнь?
– Не ведаю.
– Должен бы называть ее «твоя непорочность», – подбросил Заубуш, надеясь развеселить императора. Но Генрих топнул ногой:
– Не смей!
И Адельгейда воспользовалась случаем, прошипела на Заубуша:
– Дьявол!
Тот пренебрежительно поморщился, небрежно заковыляв на своей деревяшке чуть не впереди императора, но умолк, не огрызался больше: очень хорошо знал нрав Генриха и почувствовал, что раздражать императора сегодня не стоит. Нужно переждать – вот и все. Император не способен на чем-нибудь сосредоточиться. Он подчинен своей изменчивости, быстрой смене настроений и мыслей.
Они пришли в монастырскую трапезную.
На столах – тяжелые серебряные блюда, золотая посуда для питья.
Копченые гуси, жаркое с хреном, каплуны в чесночном рассоле, перепелки, голуби, увенчанные маленькими коронами, лебеди, которых зажаривают целиком, теплое пиво, меды-вина, что будут литься, как вода на мельничные колеса. Вот сядет император за такой стол и забудет обо всем на свете.
Лишь о власти не забудет. Потому как все – в обладании властью, все прах, кроме власти, безграничной власти, она единственная придает смысл жизни, она оправдание жизни, ее праздник, ее восторг!
И словно в подтверждение мыслей Заубуша, Генрих, садясь после короткой молитвы епископа за стол между Евпраксией и Адельгейдой, сказал тихо, неизвестно к кому обращаясь:
– Я уже тридцать лет император!