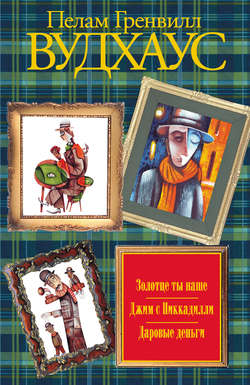Читать книгу Золотце ты наше. Джим с Пиккадилли. Даровые деньги (сборник) - Пелам Вудхаус - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Золотце ты наше
Часть вторая
Глава I
1
ОглавлениеЯ придерживаюсь твердого мнения, что после двадцати одного года мужчине не следует просыпаться и вылезать из кровати в четыре часа утра. В двадцать лет, когда все еще впереди, жизнью можно безнаказанно крутить так и сяк, но в тридцать, когда жизнь уже сбивается в гремучий коктейль из прошлого и будущего, задумываться о ней лучше всего лишь тогда, когда солнце высоко поднимается и мир играет теплом, светом и весельем.
Такие мысли посетили меня, когда я вернулся после бала у Флетчеров. Только-только занималась заря, и в воздухе витала особая, присущая только Лондону пустынность зимнего утра. Дома казались мертвыми и необитаемыми. Мимо прогрохотала тележка, крался по тротуару бродячий черный кот, усиливая ощущение уныния и заброшенности.
Меня пробила дрожь. Я устал, мне хотелось есть, и после бурных эмоций ночи меня одолела тоска.
Итак, я помолвлен. Час назад я сделал предложение Синтии Дрэссилис. Чему, сказать честно, я и сам удивился.
С чего вдруг я так поступил? Люблю я ее? Анализировать любовь трудно. А может, если я пытаюсь анализировать, это и есть ответ на вопрос? Пять лет назад, когда я любил Одри Блейк, ни в какие анализы я не пускался. Жил себе и жил в некоем трансе, совершенно счастливый. Не раскладывал свое счастье на составные элементы. Но тогда я был на пять лет моложе, а Одри – это Одри.
Про Одри нужно объяснить, потому что она, в свою очередь, объясняет Синтию.
Никаких иллюзий насчет своего характера я тогда не питал. Природа одарила меня душой свиньи, а обстоятельства словно сговорились довершить работу. Я любил комфорт и мог себе позволить жить комфортно. Как только я достиг совершеннолетия и освободил опекунов от забот о моих деньгах, я закутался в комфорт, как в теплый халат. Если между 21 и 25 годами у меня и промелькнула хоть одна неэгоистичная мысль или я совершил хоть один неэгоистичный поступок, в памяти он не сохранился.
И вот в самый пик этой поры я обручился с Одри Блейк. Теперь, когда я понимаю ее лучше и сужу о себе беспристрастно, я могу понять, как оскорбительно я тогда себя вел. Любовь моя была настоящей, но нестерпимо обидной для Одри из-за моего снисходительного самодовольства. Я был как король Кофетуа. Да, вслух я не произносил: «Моей королевой станет нищенка», но всем своим поведением показывал это часто и ясно. Одри была дочерью беспутного и сварливого художника, с которым я познакомился в богемном клубе. Он зарабатывал на жизнь то случайными иллюстрациями к журнальным рассказам, то писанием картин, а в основном рисовал рекламу. Владельцы «Детского питания», не удовлетворившись простым сообщением, что «Младенец хочет есть», сочли необходимым втолковать это публике средствами искусства. Многочисленные творения Блейка частенько украшали последние страницы журналов.
На жизнь можно зарабатывать и так, но тогда поневоле вцепишься в богатого зятя. Мистер Блейк вцепился в меня, что оказалось одним из последних его поступков в этом мире. Через неделю после того, как он, судя по всему, вынудил Одри принять мое предложение, он умер от воспаления легких.
Смерть эта вызвала важные последствия. Из-за нее отложили свадьбу, а я стал вести себя совсем уж снисходительно, так как с исчезновением кормильца исчез и единственный изъян в роли короля Кофетуа. Для Одри расширились возможности выбрать мужа по своей воле.
И очень скоро мне пришлось узнать об этом аспекте. Однажды вечером, когда я смаковал в клубе кофе и размышлял над тем, как замечательна жизнь в этом лучшем из миров, мне передали письмо. Оно оказалось совсем коротеньким, только суть: Одри вышла замуж за другого.
Сказав, что минута эта стала поворотным пунктом в моей жизни, я бы вас обманул. Она взорвала мою жизнь, в некотором смысле убила меня. Человек, которым я был прежде, умер в тот вечер, и оплакивали его немногие. Каким бы я ни стал сегодня, я уж точно не тот самодовольный созерцатель жизни, каким был до того вечера.
Скомкав в руке письмо, я сидел посреди своего разрушенного свинарника, впервые столкнувшись с тем, что даже в лучшем из миров не все можно купить за деньги.
Припоминаю, что, пока я сидел в отупении, ко мне подошел один мой клубный знакомец, от которого я не раз спасался бегством, и, пристроившись рядом, завел разговор. Человек он был невысокий, но с пронзительным голосом; такой не захочешь, да услышишь. Он тараторил и тараторил, а я тихо ненавидел его, пытаясь думать под поток его слов. Теперь я понимаю, что он спас меня, отвлек от себя. Свежая рана кровоточила. Я силился осмыслить немыслимое. Я без раздумий принимал, что Одри ко мне привязана. Девушка служила естественным дополнением моего комфорта. Я нуждался в ней, я сам ее выбрал и был вполне доволен, а следовательно, все было распрекрасно. И теперь мне приходилось принять невероятный факт, что я ее потерял.
Письмо Одри стало зеркалом, в котором я увидел себя. Написала она мало, но я понял. Мое самоупоение разлетелось в клочья – и что-то еще, более глубокое. Теперь до меня дошло, что я любил ее, хотя и сам не знал, что способен на любовь.
А приятель все говорил и говорил.
По-видимому, напористая, безостановочная речь более эффективна во время беды, чем молчаливое сочувствие. До определенного момента разговоры бесят, но как только этот момент минует, начинает действовать успокаивающе. По крайней мере так случилось со мной. Постепенно я обнаружил, что ненавижу приятеля меньше, вскоре стал прислушиваться, а там и откликаться. До ухода из клуба первая бешеная ярость поулеглась, и я побрел, слабый, беспомощный, но спокойный, начинать новую жизнь.
Прошло три года, прежде чем я встретил Синтию. Эти годы я провел, скитаясь по разным странам. Наконец я снова прибился к Лондону и снова стал вести жизнь, внешне похожую на ту, что вел до встречи с Одри. Мой прежний круг знакомств был широк, и я легко связал оборванные нити. Завел я и новых друзей, и среди них – Синтию Дрэссилис.
Мне нравилась Синтия, и я сочувствовал ей. Приблизительно в то время, когда я встретил ее, я испытывал жалость почти ко всем. Кто на собраниях общины возгорается верой сильнее всех? Негр-грешник, конечно. В моем случае я целиком посвятил себя борьбе с себялюбием. Я никогда не умел делать что-то наполовину или, скажем, с чувством меры. Эгоистом я был до мозга костей. А теперь, когда судьба вышибла из меня этот порок, я обнаружил, что проникся глубоким, почти болезненным сочувствием к чужим несчастьям.
Синтию мне было жаль чрезвычайно. Я часто встречал ее мать и уже потому жалел ее. Миссис Дрэссилис – из тех, кто мне активно не нравится. Вдова, оставшаяся с кое-какими средствами, успешно соединяла в характере алчность, ворчливость и жеманство. В Кенсингтоне полно таких женщин. Подобно Старому Мореходу, они причитают: «Вода, вода, везде вода, а жажду не утолишь», только воду в их случае заменяют деньги. Деньги окружали миссис Дрэссилис со всех сторон, но получала она их редко и в мизерных количествах. Любой из ее родственников по мужу мог бы, пожелай он, утроить ее ежегодный доход без малейшего для себя ущерба, однако ни один не пожелал. Они ее не одобряли. По их мнению, высокородный Хьюго Дрэссилис женился на женщине ниже себя – не настолько, чтобы о браке неприлично было упоминать, но все-таки ниже. Родственники относились к жене с холодной вежливостью, а к вдове – с почти ледяной.
Старший брат Хьюго граф Уэстберн никогда не любил красивую, но явно второсортную дочь провинциального адвоката, которую Хьюго одним памятным летом представил семье. Удвоив доход от страховки и приглашая Синтию раз в год в семейное гнездо, когда та была маленькой, граф сделал все, что от него требовалось. По крайней мере так он считал.
Он, но не миссис Дрэссилис. Она рассчитывала на гораздо большее. И крах надежд разрушил ее характер, внешность, а заодно спокойствие всех, кто хоть как-то соприкасался с ней.
Меня раздражало, когда я случайно слышал, как люди называют Синтию жесткой. Сам я жесткости в ней не замечал, хотя, видит Бог, на ее долю пришлось достаточно испытаний. Мне она всегда казалась милой и приветливой.
Дружба наша была безопасной. Наши умонастроения настолько совпадали, что у меня и порыва не возникало влюбиться. Я слишком хорошо ее знал, впереди не маячило никаких открытий. Я всегда легко читал в ее честной и простой душе. Не осталось ни капельки ощущения, что есть нечто скрытое, а ведь именно это обычно провоцирует любовь. Мы достигли границ дружбы, переходить которые никто из нас не рвался.
И вдруг на балу у Флетчеров я предложил Синтии выйти за меня замуж, а она взяла и согласилась.
Оглядываясь назад, я вижу, что, хотя непосредственный толчок дал Тэнкервилл Гиффорд, вся ответственность лежит на Одри. Она сделала меня человечным, способным на сочувствие, а именно сочувствие и заставило меня выговорить те слова.
Но прямой причиной явился, конечно, молодой Гиффорд.
На Марлоу-сквер, где жили Синтия с матерью, я чуть опоздал и нашел ярко разодетую миссис Дрэссилис в гостиной с бледным молодым человеком. Звался он Тэнкервилл Гиффорд, а для его близких друзей, в число которых я не входил, – Тэнки. Так же его именовали и в личных колонках глянцевых спортивных еженедельников.
Я частенько натыкался на него в ресторанах. Однажды в «Эмпайре» кто-то нас познакомил. Но он был нетрезв и упустил интеллектуальное удовольствие, какое могло ему доставить знакомство со мной. Как всякий, кто вращается в лондонских кругах, я знал про парня все. Краткая его характеристика – грубиян и хам, и, встреть я его в любой другой гостиной, не в гостиной миссис Дрэссилис, я бы удивился.
Хозяйка представила нас друг другу.
– Мне кажется, мы знакомы, – заметил я.
Он посмотрел на меня стеклянным взором:
– Не припоминаю.
Я ничуть не удивился.
В эту минуту вошла Синтия. Уголком глаза я отметил, что на лице Тэнки отразилось смутное неудовольствие, поскольку она явно мне обрадовалась.
Выглядела она потрясающе: высокая, эффектная, с прекрасными манерами. Простое платье смотрелось еще благороднее в сравнении с кричащим нарядом матери. Черный цвет красиво оттенял чистую белизну ее лица и светло-золотистые волосы.
– Вы опоздали, Питер, – взглянула она на часы.
– Знаю. Виноват.
– Ну, пора и двигаться, – вступил Тэнки. – Мое такси ждет.
– Позвоните, пожалуйста, мистер Гиффорд, – попросила миссис Дрэссилис. – Я прикажу Паркеру вызвать еще одно.
– Подвезите меня в своем, – услышал я шепот в самое ухо.
Я оглянулся на Синтию. Выражение ее лица не переменилось. Переведя взгляд на Тэнки, я понял все. Я уже замечал такое же выражение дохлой рыбы на его лице, когда меня знакомили с ним в «Эмпайре».
– Вы с мистером Гиффордом можете ехать в моем такси, – предложил я миссис Дрэссилис, – а мы поедем следом.
Миссис Дрэссилис отвергла предложение. Мне показалось, что резкую нотку в ее голосе Тэнки пропустил, но для меня она прозвучала пронзительным пением горна.
– Я не тороплюсь! – заявила она. – Мистер Гиффорд, вы отвезете Синтию? А мы с мистером Бернсом подъедем позже. Встретите Паркера на лестнице, прикажите ему вызвать другое такси.
Едва дверь за ними закрылась, как она накинулась на меня, точно разноцветная змея.
– Как вы можете, Питер, вести себя так на редкость бестактно?! – закричала она. – Вы тупица! У вас что, глаз нет?
– Простите…
– Он ведь обожает ее!
– Очень жаль.
– Почему это?
– Мне Синтию жалко.
Миссис Дрэссилис точно съежилась внутри платья. Глаза у нее сверкали. Во рту у меня пересохло и бурно заколотилось сердце. Оба мы разозлились не на шутку. Такая минута зрела уже давно, и мы оба знали это. Лично я был рад, что кризис разразился. Когда человека глубоко затрагивает что-то, великое облегчение высказаться напрямую.
– О-о! – выдохнула она наконец, и голос ее дрожал. Миссис Дрэссилис из последних сил старалась удержать контроль над собой. – Ах, мистер Бернс, что вам до моей дочери!
– Она мой большой друг.
– Очень по-дружески погубить ее единственный шанс.
– Если шанс – мистер Гиффорд, то да.
– Что вы имеете в виду? – едва не задохнулась она. – Я все вижу, все понимаю и намерена положить этому конец. Слышите? Если я впустила вас в дом, если вам позволено приходить и уходить, когда вам вздумается, как домашнему коту, то вы возомнили…
– Я возомнил… – подсказал я.
– Что можете встать на пути Синтии. Пользуетесь тем, что давно знакомы, и монополизируете ее внимание. Вы рушите ее шансы. Вы…
Тут в дверях возник бесценный Паркер и сообщил, что такси ждет.
До дома Флетчеров мы доехали в молчании. Ни один из нас не сумел воскресить тот первый бесшабашный восторг, который нес нас через начальные стадии конфликта, а продолжать ссору в менее вдохновенном состоянии было невозможно. Мы наслаждались блаженным периодом отдыха между раундами.
Когда я вошел в бальный зал, как раз заканчивался вальс. Синтия, статуя в черном, кружилась с Тэнки. Когда музыка смолкла, они оказались как раз напротив меня. Оглянувшись через плечо, девушка заметила меня и, высвободившись, быстро двинулась в моем направлении.
– Уведите меня, – тихонько попросила она. – Куда угодно! Быстрее!
Было не до того, чтобы соблюдать этикет бального зала. Тэнки, ошарашенный внезапным одиночеством, тщился, судя по выражению его лица, разрешить загадку. Пара, направлявшаяся к двери, загородила нас от него, и мы вслед за ней выскользнули из зала.
Оба мы молчали, пока не дошли до маленькой комнатки, где я размышлял тогда.
Синтия присела, бледная и несчастная.
– О Боже! – вздохнула она.
Я понял. Мне ярко представилась ее поездка в такси, эти танцы, кошмарные перерывы между ними… Дальнейшее произошло внезапно.
Я взял Синтию за руку. С измученной улыбкой она повернулась ко мне. В глазах у нее блестели слезы… Я услышал свои слова…
Теперь Синтия смотрела на меня сияющими глазами. Всю ее усталость как рукой сняло.
Я всматривался в девушку. Чего-то недоставало. Я чувствовал, еще когда говорил, что голосу моему не хватает убежденности. И тут я понял, в чем дело. Не было ни малейшего намека на таинственность. Мы слишком хорошо знали друг друга. Дружба убивает любовь.
Синтия облекла мои мысли в слова.
– Мы всегда были как брат и сестра…
– До сегодняшнего вечера да.
– А сегодня что-то переменилось? Я действительно тебе нужна?
Нужна ли? Я сам пытался задать этот вопрос себе и ответить честно. Да, в некотором роде сегодня я переменился. Добавилось восхищение ее хрупкостью, обострилась жалость. Всем сердцем мне хотелось помочь Синтии, избавить от жуткого окружения, сделать счастливой. Но нужна ли она мне в том смысле, в каком она употребила это слово? Скажем, как Одри? Я поморщился. Одри канула в прошлое, но мне было больно вспоминать о ней. Быть может, огонь погас от того, что я стал на пять лет старше? Я прогнал всякие сомнения.
– Да, переменился я. – И, наклонившись, я поцеловал Синтию. У меня было такое чувство, будто я бросаю кому-то вызов. А потом понял: вызов я бросаю себе.
Я налил горячего кофе из фляжки, которую Смит, мой слуга, наполнил для меня к моему возвращению. Кофе вдохнул в меня жизнь, угнетенность исчезла. Но на самом донышке души скреблось саднящее беспокойство, какое-то дурное предчувствие.
Я сделал шаг в потемках. Я боялся за Синтию и взялся дать ей счастье. Уверен ли я, что мне это удастся? Рыцарский пыл поугас, и зашевелились сомнения.
Одри отняла у меня то, чего я не мог возродить. Мечту, вот, пожалуй, самое точное определение. С Синтией я всегда буду стоять на твердой земле. К концу главы мы станем друзьями. И ничего больше.
Испытываю я к Синтии лишь острую жалость. Ее будущее со мной виделось мне как долгие годы невыносимой скуки. Она слишком хороша, чтобы тратить жизнь, связывая свою судьбу с опустошенным человеком.
Я хлебнул еще кофе, и настроение переменилось. Даже в серое зимнее утро мужчина тридцати лет и отменного здоровья не может долго прикидываться развалиной, да еще если он утешается горячим кофе.
Моя душа обрела равновесие. Я посмеялся над собой, сентиментальным обманщиком. Разумеется, я смогу сделать Синтию счастливой. Ни одна другая пара не подходит друг другу лучше. А что до первого крушения, которое я раздул до кровавой трагедии, это всего лишь эпизод моей юности. Смехотворный случай, который отныне я изгоню из своей жизни.
Быстро подойдя к столу, я вынул фотографию.
Нет, четыре часа утра – определенно не самое подходящее время для проявления целеустремленности и решительности. Я дрогнул. Я намеревался порвать фото в клочки без единого взгляда и выбросить в мусорную корзинку. Но взглянул и заколебался.
Девушка на снимке, невысокая и нежная, смотрела прямо на меня большими глазами, с вызовом встречая мой взгляд. Как хорошо я помнил эти ирландские синие глаза под выразительными бровями. Как точно поймал фотограф этот взгляд, полумечтательный, полудерзкий, вздернутый подбородок, чуть изогнутые в улыбке губы.
И вновь нахлынули все мои сомнения. Только ли сентиментальность тому причиной, дань предутренней тоске по улетевшим годам, или Одри и вправду заполонила мою душу и стояла стражем у входа, чтобы ни одна преемница не могла захватить ее место?
Ответа не было, если не считать ответом то, что я снова убрал фото на прежнее место. Решать сейчас нельзя, чувствовал я. Все оказалось куда сложнее, чем мне представлялось.
Когда я лег в постель, ко мне вернулась прежняя мрачность. Я долго, беспокойно крутился, ожидая сна.
После пробуждения последняя связная мысль все так же ясно сидела у меня в голове. Я дал пылкую клятву: пусть будет что будет, пусть эти ирландские глаза преследуют меня до самой смерти, но я останусь верным Синтии!