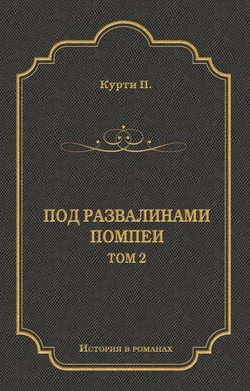Читать книгу Под развалинами Помпеи. Т. 2 - Пьер-Амброзио Курти - Страница 5
Глава четвертая
Фебе отпускается на свободу
ОглавлениеЛегко представить себе, какое сильное впечатление произвела на Юлию и Фебе вышеописанная сцена. Они возвращались домой молча, волнуемые обе различными мыслями и чувствами.
Когда Юлия пришла в свою комнату, Фебе достала хирограф и вручила его Юлии, которая, развернув его, прочла следующее:
«Семпроний Гракх шлет привет Юлии.
Мачеха поклялась погубить тебя, мы же поклялись спасти тебя. Со мной будут Азиний Эпикад, парфянин, Сальвидиен Руф, Деций Силан, Луций Авдазий, Азиний Галл и другие решительные люди. Доверься рыбаку».
Прочтя это, Юлия приблизила хирограф к огню лампады, и через минуту он превратился в пепел.
Затем она сказала Фебе:
– Итак, завтрашний день будет для нас ужасен; готова ты к нему, Фебе?
– Готова: чем бы ни кончилась моя жизнь, я отдам ее за тебя, божественная дочь Августа.
– Не напоминай мне в эту минуту о моем отце, девушка. Я его любила, да, любила, как только может любить дочь своего отца; но он бросил мою мать, принеся ее в жертву нашему смертельному врагу; он унизил мою мать, приняв на свое ложе Ливию. Вместе с моей матерью он оттолкнул от себя и меня, свою дочь; предал меня позору, разгласил обо мне по всем городам и весям как о самой худшей женщине; отдал меня и детей моих и Агриппы, так много способствовавшего увеличению его славы, на произвол такой гиены, как Ливия Друзилла, которая, предаваясь сперва сама разврату, в чем теперь попрекает меня, сделалась потом презренной сводницей для своего мужа, чтобы иметь право и свободу быть нашим палачом. Теперь, моя бедная Фебе, ступай в свою комнату и ложись спать, и пусть Геркулес пошлет тебе веселые сны.
Фебе, поцеловав почтительно руку своей госпожи, удалилась в свою каморку, которую, думала она радуясь, ей придется завтра покинуть навсегда.
Нет сомнения в том, что всю ночь Юлия и Фебе не смыкали глаз. Первая припоминала, вероятно, все события дня и, чувствуя себя накануне исполнения заговора, думала лишь о препятствиях к успеху и о том, что в случае неудачи ее положение еще более ухудшится. Препятствия под влиянием ночной темноты принимали в ее воображении гигантские размеры, и она, изыскивая средства побороть их, не могла успокоиться на своей постели, ежеминутно переворачиваясь с боку на бок,
…Подобно той больной,
Которая то на один, то на другой бок ляжет,
В надежде уменьшить свои страдания[8],
как сказал наш великий поэт. Старания Юлии забыться и уснуть также были напрасны: чем крепче она закрывала свои глаза, тем беспокойнее был рой мыслей и забот, толпившихся в ее уме. Только на заре природа взяла свое, и Юлия, измученная думами, заснула.
Совершенно другого рода заботы и мысли занимали Фебе. Опасения и опасности уменьшались в ее уме при воспоминании о бесстрашном Тимене, которого она никогда не переставала любить, даже и тогда, когда душа ее возмущалась той жестокостью, с какой он поступил с ней после того, как клялся ей в любви. Еще более: его измена, бесчестный и гнусный торг, предметом которого он сделал ее, были для нее поводом к усилению страсти. Кто объяснит загадочный сфинкс, каким представляется нам женское сердце? Кто перескажет тысячи причин, какие влюбленная женщина – а Фебе была страстно влюблена в пирата – умеет находить для извинения и даже для оправдания не только странного, но и жестокого поступка с ней ее возлюбленного? После этого понятно, что когда Фебе увидела Тимена готовым на решительную и отчаянную борьбу, чтобы вырвать ее из рабства и сделать ее навсегда своей, – да, сделать ее своей, так как он сам назвал ее сладким именем невесты, – то она безгранично радовалась тому, что сохранила к нему любовь, и приветствовала завтрашний день как самый лучший, самый счастливый в своей жизни.
Во время этих светлых и золотых мечтаний своего сердца Фебе вспомнила и о бедной Тикэ, оставшейся в Риме в семействе Августа, но эти воспоминания не были сильны и мучительны.
«Раз сделаюсь я женой Тимена, – говорила самой себе молодая девушка, – я стану побуждать его освободить и мою подругу». И это была добрая мысль: возвращение любимой ею Неволен Тикэ свободы, которую та потеряла по ее же вине, сделала бы Фебе веселой, счастливой. Затем воспоминания о подруге стали умаляться и рассеялись, как легкий дым в воздушном пространстве, уступив место более эгоистическим фантазиям; и когда вновь слышался голос Тикэ, напоминавший ей о ее долге, она старалась отогнать его, успокаивая себя более спокойными рассуждениями. «Да, наконец, – так рассуждала Фебе, – не имеет ли Неволея своего Мунация Фауста, любовь которого к ней никогда не изменялась? Не имеет ли она обещания свободы от самой внучки Августа?» О! Когда чувствуешь себя счастливым, тогда так легко рассуждать о несчастье других, и Фебе успокаивала себя надеждой, что и для ее Неволен скоро окончатся всякие заботы и страдания. Убаюкиваемая такими розовыми мечтами и такими сладкими надеждами, она незаметным образом отдалась объятиям Морфея.
На другой день, рано утром, Фебе встала живой, веселой и красивее обыкновенного; Юлия также, против обыкновения, проснулась рано и щелкнула пальцами, призывая к себе молодую девушку.
Когда Фебе вошла к Юлии в спальню, та была уже на ногах.
– Фебе, – сказала Юлия, – поспешим с туалетом, а ты возьми из шкафа одно из моих платьев, какое тебе лучше к лицу.
– Я?.. – спросила невольница с искренним удивлением.
– Да, ты; разве мы не должны идти сегодня к претору? Твой Тимен желает видеть тебя свободной, и я предупреждаю лишь несколькими днями его и твое желание; я хочу, чтобы обряд был совершен торжественно и без проволочки, теперь же. Если предприятие заговорщиков сегодня не будет иметь успеха, от чего да избавят нас боги, то это тебе сильно повредит, как невольнице, и тебе опасно оставаться ею.
При этих словах Фебе упала к ногам своей госпожи; она не умела выразить красноречивее этого свою благодарность.
Здесь не место распространяться о древнем рабстве, о чем, между прочим, я имел уже случай говорить подробно; лучше будет, если я познакомлю читателя с той формой, какая соблюдалась в Древнем Риме при даровании свободы невольнику или невольнице и какая была исполнена и по отношению к Фебе; упомяну разве сперва в нескольких словах о всех тех случаях, при которых невольник освобождался от своего ужасного положения.
Закон возвращал свободу невольнику, указавшему на убийцу своего господина, на грабителя, фальшивомонетчика и на дезертира. Женщина становилась свободной, если подвергалась опасности быть изнасилованной своим господином. Главным образом невольник мог требовать свободы и в том случае, если его господин не пользовался своим правом над ним в течение известного срока. Но самым обыкновенным было отпущение на свободу невольника самим господином – manumissio, – для чего существовало три формы; vindicta, censu, testamento. Первая выражалась притворным заявлением невольника перед претором прав на свободу а господин тут же отказывался поддерживать свои права, вследствие чего претор распоряжался утверждением акта об освобождении невольника; две другие формы состояли в объявлении невольника свободным после уплаты ценза или по духовному завещанию.
В эпоху настоящего моего рассказа закон Aelia Senita[9] создал полусвободу, которой пользовался бывший невольник без совершения установленных законом форм для освобождения или пользовался ею тогда, когда претерпел клеймение и тюремное заключение; такие полуневольники назывались dedititii.
Упомянутый закон и еще другой, носивший название Fusia Caninia и изданный четыре года спустя, созданы по желанию Августа с той целью, чтобы положить предел чрезвычайному числу освобожденных невольников. Сам Август был вынужден, нуждаясь в гребцах во время сицилийской войны, даровать свободу сразу двадцати тысячам невольников.
Претор, управлявший Реджией, предуведомленный Юлией, ждал ее и ее молодую невольницу в базилике, где обыкновенно творил суд. В настоящем случае, из угождения к Юлии, претор нарушал данный перед тем Августом приказ не отпускать на свободу ни одного невольника и ни одной невольницы, не достигших тридцатилетнего возраста, и даже распорядился, чтобы акт был совершен с торжественностью, достойной дочери императора. Гражданские и военные чины, извещенные претором, поспешили в базилику, чтобы присутствовать при манумиссии невольницы дочери Августа.
Величественной матроной вошла Юлия в святилище Фемиды, держа за руку милетскую девушку, сопровождаемая некоторыми из своих приближенных. При ее появлении в преторском зале базилики водворилась тишина; этим присутствовавшие выразили свое почтение несчастной изгнаннице, не перестававшей вместе с тем своей внешностью возбуждать удивление: Юлия блестела еще красотой, а величественное выражение и изящные черты ее лица указывали на ее высокое происхождение, изобличая в ней дочь Августа. Смотря в эту минуту на Юлию, многие из зрителей невольно припоминали стих поэта Вергилия: vera incusse potuit Dea; и, действительно, своей гордо-изящной поступью и всей своей фигурой, окруженной как бы ореолом, она напоминала им свое божественное происхождение, действуя на их воображение и удивительными благоуханиями, которыми была пропитана ее одежда.
Молодая невольница с правильными и совершенными по красоте формами, отличающими греческие статуи, с румянцем радости в лице, одетая в свою национальную крокоту – праздничный наряд шафранового цвета, носимый милетскими девушками в дионизиадские праздники[10], и с головой, покрытой рикой – прямоугольным куском легкой материи, обшитым вокруг бахромой, отчего он назывался также vestimentum fimbriatum, – остановилась у подножья трибунала.
Если бы видел Тимен, как изящна и красива была его Фебе в эту минуту!
Тогда Юлия обратилась к претору с просьбой разрешить ей сделать девушку свободной по форме, предписываемой для этого законом, и, получив с должной в этом случае церемонией такое разрешение, она, вместо того чтобы положить свою руку на голову Фебе, как это обыкновенно делалось, – при этом голова невольницы брилась, чего Юлия по доброте своей к Фебе не пожелала, – положила ее на ее левое плечо и произнесла следующие священные слова:
– Я желаю, чтобы эта женщина была свободна и пользовалась правами римского гражданства, – и, проговорив это, повернула девушку таким образом, что та вновь стала лицом к претору, который после этого, назначенной для этого обряда палочкой, называвшейся vindicta и служившей знаком власти, тронул трижды девушку, утвердив этим самым просьбу госпожи и объявив девушку свободной.
Такова была церемония, носившая название manumissio, утверждавшая за освобождаемым невольником или невольницей гражданские права невозвратным образом и делавшая лицо совершенно независимым. Тацит говорит даже, что только манумиссия посредством троекратного прикосновения упомянутой палочкой и выражала собой действительно полное освобождение невольника, делая его вполне независимым от прежнего своего господина.
Фебе со слезами благодарности на глазах поцеловала три раза руку своей великодушной благотворительницы. Затем она и Юлия вышли из базилики, поздравляемые и приветствуемые всем собранием.
Между народом, сочувствовавшим дочери Августа и поджидавшим на улице ее выхода из базилики, Фебе не заметила бедно одетой старухи; но эта старуха, удерживаемая вместе с прочими толпившимися у дверей базилики приставленной тут стражей, тотчас узнала милетскую девушку и, как будто довольная своим открытием, последовала за ней; и когда Юлия вместе с бывшей невольницей вошла в свой дом и скрылась в нем от оваций народной толпы, старуха, нисколько не стесняясь, вступила за ними на порог дома и готовилась войти в двери.
– Cave canem! Берегись собаки! – крикнул ей ostiensis, привратник дома; в эту минуту, действительно, большая дворовая собака, привязанная цепью к стене близ каморки привратника, бросилась на старуху и едва не укусила ее своими острыми зубами.
Но эта женщина, не смутясь грозившей ей опасностью, обернулась к привратнику и сказала ему:
– Отведи меня к той вольноотпущеннице, которая только что сюда вошла.
– Что тебе нужно от нее?
– Я не обязана говорить тебе, что мне нужно от нее; удержи собаку и дай войти мне.
Собака рычала и злобно смотрела страшными глазами на старуху.
– Кто ты такая? – спросил невольник.
– К чему тебе знать это?
– Клянусь Геркулесом, что не мне нужно знать это, а моим плечам, которые не желают знакомиться с плетью лорария.
Этот разговор был прерван явившимся номенклатором, который, в свою очередь, спросив незнакомую женщину, что ей нужно, после нескольких объяснений впустил ее в дом.
Когда Фебе, вызванная номенклатором в прихожую, увидела перед собой старуху, то в то же мгновение, как бы укушенная ядовитым жалом, воскликнула, побледнев в лице:
– Филезия!
– Да, фессалийская колдунья, как ты меня называла, – отвечала старуха и, схватив руку девушки, продолжала, не останавливаясь: – Что сделала ты с моим Тименом? Где Тимен? Ты это знаешь, ты, напоившая его зельем более сильным, чем мои.
Эти слова старуха проговорила грозным и повелительным тоном, страшно сверкая глазами.
– Тимен? – пролепетала с испугом вольноотпущенница. – Разве с ним случилось что-нибудь недоброе? Говори, Филезия.
– Да я разве знаю что-нибудь о нем? Смотри, Фебе, я оставила Адрамиту, где в его доме, с тех пор как он уехал, царят печаль и отчаяние, и пренебрегла бурями, лишениями и всеми опасностями, чтобы ехать отыскивать его. Да погибнет тот день, в который твои глаза и твой голос очаровали моего Тимена, не имевшего с той минуты покоя у себя в доме. Разве ты не знаешь, несчастная, чем ему грозит судьба и что я должна и желаю спасти его от самой судьбы? Не скрывай же, скажи, если ты действительно любила его когда-нибудь, где Тимен? Где ты, там должен быть и он!
– Замолчи, говори тише, Филезия, если ты не желаешь его гибели.
Морщинистое и обезображенное злостью и страхом лицо пифии, казалось, будто бы прояснилось, и глаза ее загорелись дикой радостью. «Тимен, – думала она, – действительно тут; сердце мое меня не обмануло».
Фебе перешла в tablinum, куда за ней последовала и Филезия.
Здесь вольноотпущенница рассказала ей, каким образом только вчера вечером она увидела Тимена в первый раз после разлуки; передала Филезии свой короткий разговор с ним и его скорый уход, так что она не успела узнать о его местопребывании. Но она умолчала при этом о его намерениях и о том, в каком предприятии он должен был принять участие в тот день.
– Следовательно, он вернется, – прошептала как бы про себя Филезия; затем, опустив голову, она проговорила своим обыкновенным тоном пророчества: – Дитя, он и ты, вы хотите бороться со своей судьбой: она поднимается ураганом и сметает все, что попадается ей по пути с целью замедлить ее быстрый бег.
– Так что же? Пусть она захватит, сомнет и уничтожит меня; все равно, без Тимена невозможно для меня существование.
– Значит, ты любишь очень сильно Тимена?
– Я сказала уже, что люблю его более жизни.
– Смотри же, чтобы и он не потерял ее из-за тебя.
– Питая к нему материнские чувства, ты рисуешь в своем воображении опасности, которые на самом деле ему не грозят, предвещаешь несчастья, которых с ним не случится.
– Разве ты забыла, что будущее открыто для меня благодаря моему искусству и знанию?
– А разве ты никогда не ошибалась в своих ужасных предсказаниях?
– Никогда! – воскликнула Филезия, кивая отрицательно головой.
– Ты и мне также предсказывала однажды вещи очень неприятные и притом сомневалась в любви Тимена ко мне.
– Я говорила лишь, что он любит тебя по-своему; разве это была неправда? Я называла его непостоянным, как море, и разве все, что случилось с тех пор, не подтверждает моих слов?
– Ты говорила Тикэ, что ее судьба лучше моей: она до сих пор невольницей в Риме, тогда как я уже свободна; знаешь ли ты это?
Филезия разразилась резким смехом и отвечала тоном, не допускавшим сомнения:
– Свободна… Бедная Фебе!.. А я тебе все-таки повторяю, что и теперь не променяю участи Тикэ на твою участь.
– Но отчего, добрая Филезия, ты так сильно нерасположена ко мне?
– Кто сказал тебе это? Кто сказал, что я не люблю тебя? Разве ты не дорога Тимену? Но разве в моей воле устранить назначенное судьбой?
Бедная девушка стояла, пораженная роковыми предсказаниями ламийской вещуньи.
Прошло несколько минут в глубоком молчании, после чего Филезия, погруженная в свои думы, подняла на вольноотпущенницу глаза и спросила:
– Что намеревается он делать? И на что ты сама решилась?
– Что намерен он предпринять, я не знаю, но я решусь на то, чего он пожелает.
– В таком случае я подожду, – сказала в заключение Филезия и направилась к выходу, где дворовая собака вновь приветствовала ее своим рычанием.
Вольноотпущенница осталась смущенной, взволнованной предсказаниями колдуньи, но остерегалась сообщить эти предсказания Юлии, не желая никаким образом помешать предприятию пирата и его друзей.
Не с осуществлением ли этого предприятия достигала она и своего собственного счастья?
8
Данте. Чистилище, гл. VI.
9
Этот закон был издан в 757 году от основания Рима, а закон Fusia Caninia в 761 году.
10
Дионизиадские праздники (дионизиаки, дионизиады или дионизии) – в Древней Греции праздники в честь Бахуса, называвшегося также Дионисием. Эти праздники с особенным торжеством праздновались преимущественно афинянами, у которых они происходили в начале года.