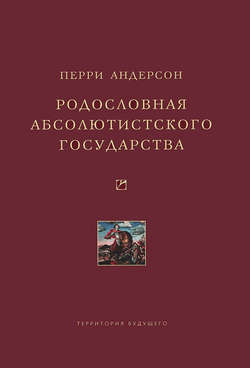Читать книгу Родословная абсолютистского государства - Перри Андерсон - Страница 2
I
Западная Европа
1. Абсолютистское государство на Западе
ОглавлениеДлительный кризис европейской экономики и общества, разразившийся в XIV–XV вв., сделал очевидными проблемы, с которыми столкнулся феодальный способ производства в период позднего Средневековья[2]. Каким был окончательный политический итог континентальных конвульсий той эпохи? В течение XVI в. на Западе утверждалось абсолютистское государство. Централизованные монархии Франции, Англии и Испании пошли на решительный разрыв с «пирамидами» раздробленного суверенитета средневековых общественных формаций, с их поместной и вассальной системами. Споры об исторической природе этих монархий не утихают со времен Энгельса, который в знаменитом выражении назвал их продуктом классового равновесия между старой феодальной аристократией и новой городской буржуазией: «В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними. Такова абсолютная монархия XVII–XVIII вв., которая держит в равновесии дворянство и буржуазию друг против друга…»[3]. Множественные оговорки этого пассажа указывают на определенные концептуальные колебания Энгельса. Но, бросив внимательный взгляд на другие тексты Маркса и Энгельса, становится ясно, что именно эта концепция абсолютизма была постоянной темой их работы. Энгельс повторил этот же основной тезис в другом месте в более категоричной форме, отметив, что «базовым условием старой абсолютной монархии» было «равновесие между землевладельческой аристократией и буржуазией»[4]. В самом деле, определение абсолютизма как политического балансира между аристократией и буржуазией часто склоняется к имплицитному или эксплицитному описанию его как буржуазного в своих основаниях государства. Этот сдвиг особенно очевиден в самом «Манифесте коммунистической партии», в котором политическая роль буржуазии «в период мануфактуры» охарактеризована одной фразой как «противовес дворянству в сословной или в абсолютной монархии и главная основа крупных монархий вообще»[5]. Показательно, как авторы здесь незаметно переходят от «противовеса» к «главной основе», что отзывается эхом и в других текстах. Энгельс мог отзываться об эпохе абсолютизма как о времени, когда «феодальная аристократия начала понимать, что период ее социального и политического господства пришел к концу»[6]. Маркс, со своей стороны, постоянно утверждал, что административные структуры новых абсолютистских государств были непосредственно буржуазным инструментом. «При абсолютной монархии, – писал он, – бюрократия была лишь средством подготовки классового господства буржуазии». В другом месте Маркс утверждал, что «централизованное государство, с его вездесущими органами постоянной армии, полиции, бюрократии, духовенства и суда – органами, созданными по плану систематического и иерархического разделения труда, – появилось во времена абсолютной монархии, служившей новорожденному среднему классу в качестве могучего оружия в его борьбе против феодализма»[7].
Эти размышления об абсолютизме были более или менее случайными и иносказательными – основатели исторического материализма не теоретизировали специально о новых централизованных монархиях, появившихся в ренессансной Европе. Оценка их точного веса была оставлена на суждение будущих поколений. Марксистские историки, фактически, спорят о социальной природе абсолютизма до наших дней. Правильное решение этой проблемы, в самом деле, жизненно важно для понимания как перехода от феодализма к капитализму в Европе, так и политических систем, сопутствовавших этому переходу. Абсолютные монархии создали постоянные армии, бюрократию, ввели налогообложение в масштабах всей страны, кодифицированное законодательство и начала общего рынка – все это характеристики капитализма. Поскольку они совпали с исчезновением крепостного права, стержневого института феодального способа производства в Европе, то и описание абсолютизма Марксом и Энгельсом как государственных систем, представлявших собой либо баланс между буржуазией и аристократией, либо даже прямое господство капитала выглядело правдоподобным. Более тщательное исследование структур абсолютистского государства на Западе, однако, неминуемо ослабляет такое впечатление. Дело в том, что конец крепостничества не означал исчезновения феодальных отношений из села. Отождествление двух процессов – частая ошибка. И все же очевидно, что частное внеэкономическое принуждение, личная зависимость и соединение непосредственного производителя со средствами производства вовсе не обязательно исчезли, когда сельские излишки перестали извлекаться в форме труда или оброка и превратились в денежную ренту. До тех пор пока аристократическая аграрная собственность блокировала свободный рынок земли и фактическую мобильность работников, – другими словами, пока труд не был отделен от социальных условий, для того чтобы стать «рабочей силой», – отношения производства на селе оставались феодальными. Сам Маркс в теоретическом анализе земельной ренты в «Капитале» ясно сформулировал это: «Превращение отработочной ренты в продуктовую ренту, если рассматривать дело с экономической точки зрения, ничего не изменяет в существе земельной ренты. <…> Под денежной рентой мы понимаем здесь <…> земельную ренту, возникающую из простого превращения формы продуктовой ренты, как и она сама, в свою очередь, была лишь превращенной отработочной рентой, <…> базис этого рода ренты, хотя он и идет здесь навстречу своему разложению, все еще остается тот же, как при продуктовой ренте, образующей исходный пункт. Непосредственный производитель по-прежнему является наследственным или вообще традиционным владельцем земли, который должен отдавать земельному собственнику как собственнику существеннейшего условия его производства избыточный принудительный труд, то есть неоплаченный, выполняемый без эквивалента труд в форме прибавочного продукта, превращенного в деньги»[8].
Феодалы, которые оставались собственниками основных средств производства в любом доиндустриальном обществе, были, конечно, родовитыми землевладельцами. На протяжении всей эпохи раннего Нового времени господствующим классом, как в экономике, так и в политике, оставался тот же самый класс, что и в Средневековье: феодальная аристократия. Эта аристократия претерпевала глубокие метаморфозы на протяжении веков после окончания Средневековья; однако от начала и до конца истории абсолютизма она не теряла политической власти.
Изменения форм феодальной эксплуатации, происходившие в конце феодальной эпохи, были, конечно, очень значительными. В самом деле, именно эти перемены изменили формы государства. Абсолютизм был по своей сути именно перенацеленным и перезаряженным аппаратом феодального господства, созданным для того, чтобы вернуть крестьянские массы на их традиционные социальные позиции – несмотря на и вопреки тем приобретениям, которые они получили в результате замещения повинностей. Другими словами, абсолютистское государство никогда не было беспристрастным арбитром в спорах между аристократией и буржуазией, еще меньше причин назвать его инструментом в руках новорожденной буржуазии против аристократии: на самом деле оно было новым политическим щитом, отбивающим удары, направленные против благородного сословия. Консенсусное мнение целого поколения историков-марксистов, от Англии до России, суммировал Хилл 20 лет назад: «Абсолютная монархия была особой формой феодальной монархии, отличавшейся от сословно-представительной монархии, которая ей предшествовала; однако правящие классы оставались теми же самыми, точно так же, как республика, конституционная монархия и фашистская диктатура могут быть разными формами правления буржуазии»[9]. Новая форма власти аристократии была, в свою очередь, предопределена распространением товарного производства и обмена в переходных общественных формациях эпохи раннего Нового времени. Альтюссер точно определил его характер: «Политический режим абсолютной монархии – это всего лишь новая политическая форма, необходимая для поддержания феодального господства и эксплуатации в период развития товарной экономики»[10]. Однако нельзя преуменьшать глубину исторической трансформации, связанной с появлением абсолютизма. Напротив, весьма важно ухватить полностью логику и значение той огромной перемены в структуре аристократического государства и феодальной собственности, которая произвела на свет новый феномен – абсолютизм.
Феодализм как способ производства изначально определялся через органическое единство экономики и политики, парадоксальным образом распределенное между звеньями цепи раздробленных суверенитетов по всей общественной формации. Институт крепостного права как механизма изъятия излишков соединял экономическую эксплуатацию и политико-юридическое принуждение на молекулярном уровне деревни. Феодал, в свою очередь, обычно был обязан проявлять вассальную лояльность и нести рыцарскую службу для своего сеньора, который считал землю своим исключительным владением. По мере общей замены повинностей на денежную ренту клеточное единство политического и экономического подавления крестьянства серьезно ослабело и угрожало полным распадом (в конце этого пути ждали «свободный труд» и «договор о зарплате»). Таким образом, постепенное исчезновение крепостного права ставило под сомнение классовое господство феодальных хозяев. Результатом стал сдвиг политико-юридического принуждения вверх, в сторону централизованной и милитаризованной вершины – абсолютистского государства. Ослабленное на уровне деревни, оно сконцентрировалось на «национальном» уровне. Результатом стал возрожденный аппарат королевской власти, постоянной политической функцией которого было подавление крестьянских и плебейских масс внизу общественной иерархии. Эта новая государственная машина, однако, была по самой своей природе наделена силой, способной подавлять или дисциплинировать индивидов и группы внутри самой аристократии. Установление абсолютизма не было, следовательно, как мы видим, мягким эволюционным процессом для самого господствующего класса: оно было отмечено чрезвычайно резкими разрывами и конфликтами среди феодальной аристократии, чьим коллективным интересам оно в конечном счете служило. В то же самое время объективным дополнением к политической концентрации власти на вершине общественного устройства в централизованной монархии была экономическая консолидация феодальной собственности под ней. С развитием товарных отношений распад первичных связей между экономической эксплуатацией и политико-юридическим принуждением вел не только к усилению роли королевской власти в осуществлении второго, но и к компенсаторному укреплению прав собственности, гарантировавших первое. Другими словами, вместе с реорганизацией феодальной политической системы в целом и разжижением оригинальной системы феодов, владение землей делалось все менее «условным», по мере того как суверенитет становился все более «абсолютным». Ослабление средневековых концепций вассалитета приводило к двум результатам: оно придавало новую чрезвычайную власть монархии, в то же самое время освобождая от традиционных ограничений владения аристократии. Аграрная собственность в новую эпоху была молчаливо превращена в безусловно наследственную (аллодиальную, используя термин, который сам становился анахронизмом в изменившемся юридическом климате). Индивидуальные члены аристократического класса, которые постепенно теряли политические права представительства в новую эпоху, получали в качестве другой стороны того же процесса экономические приобретения в форме собственности. Окончательным результатом этого общего передела социальной власти аристократии было создание государственной машины и юридического порядка абсолютизма, целью которых было увеличение эффективности аристократического правления путем принуждения некрепостного крестьянства к новым формам зависимости и эксплуатации. Королевские государства эпохи Ренессанса были первыми и передовыми модернизационными инструментами в поддержании господства аристократии над сельским населением.
Одновременно, однако, аристократия вынуждена была приспосабливаться и ко второму антагонисту – торговой буржуазии, которая появилась в средневековых городах. Как было показано, именно наличие этой третьей прослойки не позволило западной аристократии решить свои проблемы с крестьянством по восточному образцу, сокрушив его сопротивление и прикрепив его к поместью. Средневековый город смог развиваться в результате того, что иерархическое распределение суверенитетов при феодальном способе производства впервые освободило городские экономики от прямого господства сельского правящего класса[11].
Города не создавались внешними для западного феодализма факторами, главным условием их существования была уникальная «детотализация» суверенитета в политэкономическом порядке феодализма. Это объясняет гибкость городов на Западе во время тяжелейшего кризиса XIV в., который временно обанкротил множество патрицианских семей в средиземноморских городах. Барди и Перуджи потерпели крах во Флоренции, Сиена и Барселона пришли в упадок; однако Аугсбург, Женева или Валенсия только начинали свой подъем. Важнейшие городские производства-изготовление железа, бумаги и тканей – росли, несмотря на феодальную депрессию. Сохраняя внешнюю дистанцию от аграрных проблем, сама эта экономическая и социальная жизнестойкость являлась постоянным раздражителем в ходе классовой борьбы и блокировала любые регрессивные поползновения аристократии. В самом деле, важно, что именно в 1450–1500 гг., когда на Западе появились первые предшественники унифицированных абсолютных монархий, был преодолен и долгий кризис феодальной экономики. Это стало возможным благодаря рекомбинации производственных факторов, ведущую роль в которой впервые сыграли специфически городские технологические достижения. Концентрация изобретений, совпавшая с переломом между «средневековой» и «современной» эпохами слишком хорошо известна, чтобы обсуждать ее здесь. Открытие процесса аффинажа (seiger) для отделения серебра от медной руды возобновило работу шахт в Центральной Европе и поток металлов в международную экономику; за 1460–1530 гг. производство монеты в Центральной Европе выросло в 5 раз. Развитие литых бронзовых пушек впервые сделало порох решающим орудием войны, превратив замки баронов в анахронизм. Изобретение наборных литер положило начало книгопечатанию. Конструирование трехмачтовых управляемых с кормы галеонов сделало океаны преодолимыми и положило начало заморским завоеваниям[12]. Все эти технические прорывы, заложившие основы европейского Возрождения, произошли во второй половине XV в., и именно тогда прекратилась вековая аграрная депрессия– в Англии и Франции это произошло примерно к 1470 г.
Это была именно та эпоха, когда неожиданное восстановление политической власти и единства происходило в одной стране за другой. Из пропасти крайнего феодального хаоса и беспорядка времен войны Алой и Белой розы, Столетней войны и второй кастильской гражданской войны, практически одновременно появились и первые «новые» монархии в правление Людовика XI во Франции, Фердинанда и Изабеллы в Испании, Генриха VII в Англии и Максимилиана в Австрии. Таким образом, когда на Западе возникали абсолютистские государства, их структура была в своем основании определена перегруппировкой феодалов против крестьянства после отмены крепостного права; однако затем она была переопределена подъемом городской буржуазии, которая после серии технических и коммерческих достижений развивала доиндустриальную мануфактуру. Именно это вторичное влияние городской буржуазии на формы абсолютистского государства отметили Маркс и Энгельс в своих вводящих в заблуждение представлениях о «противовесе» и «главной основе». Энгельс не раз достаточно аккуратно описывал настоящее соотношение сил: обсуждая новые морские открытия и мануфактуры времен Возрождения, он писал, что «за этим колоссальным переворотом в экономических условиях жизни общества не последовало немедленно соответственное изменение его политической структуры. Государственный строй оставался по-прежнему феодальным, в то время как общество становилось все более и более буржуазным»[13]. Угроза крестьянского недовольства, незримо конституировавшая абсолютистское государство, всегда, таким образом, сочеталась с давлением торгового или мануфактурного капитала внутри западных экономик, отливая контуры классового господства аристократии в новую эпоху. Конкретная форма абсолютистского государства на Западе стала результатом действия двух этих факторов.
Двойственные силы, которые произвели на свет новые монархии Европы эпохи Ренессанса, нашли единую юридическую форму. Возрождение римского права, одно из великих культурных достижений эпохи, одинаково соответствовало нуждам обоих социальных классов, чья сила и положение оформили структуру абсолютистского государства на Западе. Новое открытие римского права восходит к эпохе Высокого Средневековья. Все более прочное установление обычного права не смогло полностью стереть память о нем и практику римского гражданского права на том полуострове, где его традиции были самыми долгими, – в Италии. Именно в Болонье Ирнерий, «светоч закона» (lamp of the law), начал систематическое изучение кодексов Юстиниана в начале XII в. Основанная им школа глоссаторов методически воспроизводила и классифицировала наследие римских юристов на протяжении следующей сотни лет. За ними последовала школа комментаторов XIV–XV вв., более заинтересованных в современном приложении римских правовых норм, чем в научном анализе их теоретических принципов; в процессе адаптации римского права к резко изменившимся условиям времени они исказили его первоначальную форму и очистили его от частного содержания[14]. Сама неточность перевода ими латинской юриспруденции парадоксальным образом «универсализировала» ее, удаляя большие порции римского гражданского права, строго привязанные к историческим условиям античности (например, конечно же, всестороннее рассмотрение вопросов рабства)[15]. Римские юридические концепции начали распространяться за пределы Италии начиная с их повторного открытия в XII в. К концу Средних веков ни одна крупная страна Западной Европы не осталась не затронутой этим процессом. Однако решительное «принятие» римского права, его решающий юридический триумф произошел в эпоху Возрождения, одновременно с триумфом абсолютизма. Два типа исторических причин его глубокого влияния отражали противоречивый характер самого римского наследия.
Экономически восстановление и введение классического гражданского права весьма благоприятствовало росту свободного капитала в городе и стране, потому что главной отличительной чертой римского гражданского права была содержащаяся в нем концепция абсолютной и безусловной частной собственности. Классическая концепция законной (Quiritary) собственности потерялась еще в темных глубинах раннего феодализма, потому что феодальный способ производства, как мы видели, точно определялся юридическим принципом условной собственности в дополнение к раздробленному суверенитету. Этот статус собственности был хорошо адаптирован к почти полностью натуральной экономике, возникшей в «темные века»; хотя он никогда не был полностью адекватным городскому сектору, развивавшемуся в средневековой экономике. Возрождение римского права в ходе Средневековья вело, таким образом, к юридическим попыткам «уточнить» и ограничить понятие собственности, вдохновленное заново открытыми классическими принципами. Одной из таких попыток было изобретение в конце XII в. различения между dominium directum и dominium utile для объяснения существования вассальной иерархии и соответственной множественности прав на одну и ту же землю[16]. Другой была характеристика средневекового понятия владения собственностью (seisin), расположенного между римскими «собственностью» (property) и «владением» (possession), которая гарантировала защищенную собственность от случайного присвоения или конфликтующих притязаний, сохраняя при этом феодальный принцип множественных прав на один и тот же объект: право seisin не было ни исключительным, ни вечным[17]. Полное восстановление концепции абсолютной частной собственности на землю было продуктом раннего Нового времени, когда потребовалось, чтобы производство и обмен товаров в сельском хозяйстве и в мануфактурном производстве достигли уровня равного или превосходящего античность и чтобы кодифицирующие их юридические концепции смогли вернуть себе изначальное значение. Принцип superficies solo cedit— единой и безусловной собственности на землю – снова стал действующим (хотя далеко еще не доминирующим) правилом аграрной собственности, именно благодаря распространению товарных отношений в сельской местности, определявшему долгий переход от феодализма к капитализму на Западе. В самих средневековых городах, конечно же, появилось относительно развитое коммерческое право. Внутри городской экономики обмен товаров достиг относительного динамизма уже в Средневековье, и в некоторых важных отношениях формы его юридического выражения были более развитыми, чем сами римские прецеденты: примером могут служить законодательство о компаниях и морское право. Однако здесь тоже не существовало единой структуры, правовой теории или процедур. Превосходство римского права для торговой практики городов состояло, таким образом, не только в его ясном понятии абсолютной собственности, но и в традициях равенства, рациональных канонах доказательства и опоре на профессиональных юристов – преимущества, которые не мог предоставить традиционный суд[18]. Восприятие римского права в ренессансной Европе было, таким образом, знаком распространения капиталистических отношений в городах и в стране: экономически оно отвечало жизненным интересам торговой и мануфактурной буржуазии. В Германии, стране, где воздействие римского права было наиболее драматичным, в конце XV–XVI в. невероятно быстро вытеснившим местные суды с родины тевтонского обычного права, первоначальный импульс к его принятию возник в южных и западных городах и пришел снизу через давление городских истцов, требовавших ясного и профессионального процессуального права[19]. Вскоре, однако, оно было взято на вооружение германскими князьями и применено на их территориях в еще больших масштабах и с совершенно иными целями.
Политически возрождение римского права соответствовало конституционной необходимости реорганизованных феодальных государств той эпохи. Несомненно, что в Европе первичная причина принятия римской системы права лежала в стремлении королевских правительств к усилению центральной власти. Римская юридическая система включала две различные – и очевидно противоречивые – части: гражданское право, регулирующее экономические трансакции между гражданами; и публичное право, управляющее политическими отношениями между государством и его подданными. Первое называлось jus, второе – fex. Юридически безусловный характер частной собственности, освященный первым, находил противоречивого двойника в формально абсолютной природе имперского суверенитета, определяемого вторым, по меньшей мере начиная с эпохи Домината. Именно теоретические принципы этого политического impeńum оказали глубокое влияние на новые монархии эпохи Ренессанса и были для них особенно привлекательными. Если возрождение концепции законной собственности способствовало общему росту товарного обмена в переходных экономиках эпохи, то возрождение авторитарных прерогатив Домината выражало и укрепляло концентрацию аристократической классовой власти в централизованном государственном аппарате, которая была реакцией знати на этот процесс. Двойственные общественные процессы, запечатленные в структурах западного абсолютизма, нашли, таким образом, выражение в новом введении римского права. Знаменитая максима Ульпиана– quodprincipi placuit legis habet vicem («воля правителя имеет силу закона») – стала конституционным идеалом ренессансных монархий на всем Западе[20]. Дополняющая ее идея, что короли и князья сами являлись legibus solutus, или освобожденными от предшествующих законных ограничений, предоставила юридическую формулу, позволявшую не принимать во внимание средневековые привилегии, игнорировать традиции и подчинять частные права.
Другими словами, прирост частной собственности снизу дополнялся сверху увеличением публичной власти, олицетворенной в самовластной воле короля. Абсолютистские государства на Западе основывали свои новые стремления на классических прецедентах: римское право было самым могущественным интеллектуальным оружием, доступным для их типичной программы территориальной интеграции и административного централизма. Неслучайно единственной средневековой монархией, которая достигла полной эмансипации от любых представительных или корпоративных ограничений, было папство, первая политическая система феодальной Европы, оптом принявшая римскую юриспруденцию, кодифицировав каноническое право в XII–XIII вв. Претензии Папы на plenitude potestatis в Церкви создали прецедент для последовавших притязаний светских князей, часто прямо направленных против религиозной чрезмерности. Более того, точно так же, как юристы-каноники в папском государстве управляли созданными ими административными рычагами контроля над Церковью, так и полупрофессиональные бюрократы, обученные римскому праву, стали ключевыми исполнительными служащими новых королевских государств. Абсолютные монархии Запада характерным образом опирались на страту умелых законников для заполнения своих административных машин: letrados в Испании, maitres de requetes во Франции, doctores в Германии. Пропитанные римскими доктринами королевской декретной власти и римскими концепциями унитарных правовых норм, эти юристы-бюрократы были рьяными проводниками королевского централизма в первый критический век создания абсолютистского государства. Именно этот международный корпус легистов более, чем любая другая сила, романизировал юридические системы Западной Европы в эпоху Ренессанса. Трансформация закона с неизбежностью отражала распределение власти между классами собственников той эпохи: абсолютизм, как реорганизованный государственный аппарат господства аристократии, был центральным архитектором восприятия римского права в Европе. Даже там, где, как в Германии, движение инициировали автономные города, именно князья возглавляли его и воплотили в жизнь; там же, где, как в Англии, королевская власть не смогла распространить гражданское право, оно не пустило корни и в городской среде[21]. В сверхдетерминированном процессе римского возрождения первенствовало политическое давление династического государства: требования монархической «ясности» доминировали над требованиями коммерческой «определенности»[22]. Рост формальной рациональности, пусть несовершенной и неполной, в юридической системе Европы раннего Нового времени был в преобладающей степени результатом работы аристократического абсолютизма.
Эффект юридической модернизации состоял, таким образом, в восстановлении правления традиционного феодального класса. Очевидная парадоксальность этого феномена отразилась на всей структуре абсолютных монархий – экзотических гибридных композиций, чья поверхностная «современность» раз за разом выдавала их глубинную архаику. Это ясно видно из обзора институциональных инноваций, которые олицетворяли их появление: армии, бюрократии, налогообложения, торговли, дипломатии. Давайте рассмотрим их кратко и по порядку.
Часто обращалось внимание на то, что абсолютистское государство первым создало профессиональную армию, которая с началом военной реформы конца XVI–XVII в., связанной с именами Мориса Оранжского, Густава-Адольфа и Валленштейна (голландский строй и учения пехоты, шведская система кавалерийского залпа, чешская единая вертикальная команда), невероятно выросла в размерах[23]. Армия Филиппа II насчитывала около 60 тыс. человек, а столетия спустя Людовик XIV командовал 300 тыс. солдат. Однако и по форме, и по функциям эти войска весьма отличались от тех, что позднее станут характеристикой современного буржуазного государства. Обычно эти солдаты не были призваны в национальную армию, а составляли смешанную массу, в которой иностранные наемники играли постоянную центральную роль. Эти наемники типично рекрутировались в регионах из-за пределов новых централизованных монархий; на поставке солдат особенно специализировались горные регионы: швейцарцы были гуркхами Европы раннего Нового времени. Французская, голландская, испанская, австрийская и английская армии включали швабов, албанцев, швейцарцев, ирландцев, валахов, турков, венгров и итальянцев. Самой очевидной социальной причиной феномена наемничества был, конечно, естественный отказ аристократии массово вооружать собственных крестьян. «Совершенно невозможно обучить всех подданных республики (commonwealth) искусству войны и в то же время сохранять их лояльность законам и должностным лицам, – писал Жан Боден, – В этом, вероятно, была главная причина роспуска Франциском I в 1534 г. семи полков по 6 тыс. пехотинцев каждый, которые он сам создал в своем королевстве»[24]. Напротив, на наемные войска, невежественные даже в языке местного населения, можно было положиться в подавлении народных восстаний. Немецкие ландскнехты справились с крестьянскими волнениями в Восточной Англии в 1549 г., в то время как итальянские аркебузиры ликвидировали сельский мятеж к юго-западу от Лондона; швейцарские гвардейцы помогли усмирить герильи булонцев и камизаров в 1662 и 1702 гг. во Франции. Значение наемников, заметное уже в конце Средних веков от Уэльса до Польши, не сводилось к временному удобству абсолютизма в начале его существования: они сопутствовали ему на Западе до самого конца. В конце XVIII в., даже после введения воинской повинности в основных европейских странах, до двух третей любой «национальной» армии могло состоять из нанятых иностранных солдат[25]. Пример прусского абсолютизма, нанимавшего и похищавшего людей в армию из-за границы, используя аукционы и мобилизацию, напоминает, что не всегда можно четко отделить одно от другого.
В то же самое время функции этих огромных сборищ солдат также, видимо, отличались от более поздних армий капитализма. До сих пор не существовало марксистской теории различных социальных функций войны при разных способах производства. Здесь не место исследовать этот предмет. Однако можно аргументировать, что война была, вероятно, самым рациональным и быстрым способом извлечения избытков, доступных любому правящему классу при феодализме. Сельскохозяйственное производство не было, как мы видели, застойным на протяжении Средневековья, то же самое относится и к объему торговли. Однако и то и другое росло слишком медленно с точки зрения феодалов, в сравнении со скорым и массивным «урожаем», предоставляемым завоеванием территории, в ряду которых норманнское вторжение в Англию или на Сицилию, захват Неаполя Анжуйской династией или завоевание Кастилией Андалусии были только самыми впечатляющими примерами. Поэтому логичным представляется, что с социальной точки зрения феодальный правящий класс был военным. Экономическая рациональность войны в такой общественной формации была весьма специфичной: это максимизация богатства, роль которого не может сравниться с той, что оно играет в сменивших ее более развитых формах производства, где доминирует базовый ритм аккумуляции капитала и «неустанные всеобщие перемены» (Маркс) в экономических основаниях общественной формации. Аристократия была землевладельческим классом, родом занятий которого была война: внешние приобретения были не ее общественной целью, а внутренней функцией ее экономического положения. Нормальная среда конкуренции между капиталистами – экономика, и ей соответствует типично приобретательская структура: обе конкурирующие стороны могут расширяться и процветать, хотя и не в равной степени, в условиях конфронтации, потому что производство товаров внутренне неограниченно. Типичной средой соперничества между феодалами была, по контрасту, война, и ее структура всегда была в потенции конфликтом с нулевой суммой, разыгрывавшимся на поле битвы, в результате которой ограниченное количество земли бывало завоевано или потеряно. Дело в том, что земля представляет собой естественную монополию: ее нельзя увеличить, но только переделить. Категориальной целью аристократического правления была территория, независимо от того, какое сообщество на ней проживало. Земля как таковая, не язык, определяла естественные периметры могущества. Правящий класс феодалов был поэтому весьма подвижным – таким, каким позже не мог быть правящий класс капиталистов. Так как капитал сам по себе характерно мобилен, он позволяет своим держателям быть национально закрепленными: земля национально немобильна, и феодалы должны были путешествовать, чтобы овладеть ею. Поэтому любая вотчина или династия могла переносить свою резиденцию с одного конца континента на другой без дезорганизации. Члены Анжуйской династии могли править Венгрией, Англией или Неаполем; норманны – Антиохией, Сицилией или Англией; Бургундская династия – Португалией или Зеландией; Люксембургская – Рейнской областью или Богемией; Фламандская – Артуа или Византией; Габсбурги – Австрией, Нидерландами или Испанией. В этих различных землях феодалам и крестьянам не нужен был общий язык. Общественные территории формировали единое целое с частными владениями, и классическим средством их приобретения была сила, неизменно приукрашенная претензиями на религиозную или генеалогическую легитимность. Война не являлась «спортом» принцев, она была их судьбой; за пределами ограниченного разнообразия индивидуальных наклонностей и характеров она влекла их неумолимо, как социальное требование их статуса. Для Макиавелли, обозревавшего Европу начала XVI в., главным законом существования была истина, безукоризненная, как небо над ним: «Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого»[26].
Абсолютистские государства отражают эту архаичную рациональность в своей глубинной структуре. Они были машинами, построенными главным образом для битвы. Важно отметить, что первый регулярный национальный налог, введенный во Франции, taille royale, был создан для того, чтобы финансировать первые регулярные военные подразделения в Европе – companies d’ordonnance середины XV в., первое из которых состояло из шотландских «солдат удачи». К середине XVI в. 8о % доходов испанского государства шло на военные траты: Виценс Вивес (Vives) мог написать, что «импульс по направлению к современному типу административной монархии был задан в Западной Европе великими морскими операциями Карла V против турок в Западном Средиземноморье начиная с 1535 года»[27]. К середине XVII в. ежегодные расходы континентальных княжеств от Швеции до Пьемонта были везде преимущественно и монотонно посвящены подготовке или ведению войны, теперь чрезвычайно более дорогой, чем в эпоху Возрождения. Еще век спустя, в мирный канун 1789 г., по данным Неккер, две трети французских государственных расходов были по-прежнему ассигнованы на военные нужды. Очевидно, что такая морфология государства не соответствует капиталистической рациональности: она представляет разбухшую память о средневековых функциях войны. Грандиозный военный аппарат позднефеодального государства не оставался в бездеятельности. Практически постоянное состояние международного вооруженного конфликта было одной из отличительных черт всего климата абсолютизма. Состояние мира был метеорологическим исключением в те века, когда абсолютизм доминировал на Западе. Подсчитано, что за весь XVI в. было только 25 лет без крупномасштабных военных операций в Европе[28], тогда как в XVII в. только 7 лет прошло без крупных войн между государствами[29]. Такие календари чужды капиталу, хотя, как мы увидим, он внес в них и свой вклад.
Характеристика гражданской бюрократии и налоговой системы абсолютистского государства была не менее парадоксальной. Она появилась как будто для того, чтобы проиллюстрировать переход к веберовской рациональной юридической администрации, по контрасту с джунглями частных зависимостей Высокого Средневековья. В то же самое время ренессансная бюрократия рассматривалась как собственность, которую можно продавать частным лицам: это было смешение двух порядков, различие между которыми всегда будет поддерживать буржуазное государство. Следовательно, доминирующей формой интеграции феодальной аристократии в абсолютистское государство на Западе стало приобретение «должностей»[30]. Тот, кто частным образом покупал пост в государственном аппарате, мог затем компенсировать свои затраты с помощью лицензированных привилегий и коррупции (системы вознаграждений), что напоминает монетизированную карикатуру на пожалование поместья. В самом деле, маркиз дель Васто, испанский губернатор Милана в 1544 г., мог потребовать от итальянских чиновников этого города заложить свое имущество Карлу V в тяжелый для него час после поражения при Цересоле, в точности следуя модели феодальных взаимоотношений[31]. Такие «держатели должностей», распространившиеся во Франции, Италии, Испании, Британии или Голландии, могли надеяться получить со своей покупки до 300–400 % прибыли, а возможно, и много больше. Система родилась в XVI в. и превратилась в главный источник финансов абсолютистских государств на протяжении XVII в.
Ее избыточно паразитический характер очевиден: в крайних ситуациях (например, во Франции в 1630-е гг.), она могла стоить государственному бюджету примерно столько же в издержках (через налоговые откупа и иммунитеты), сколько поставляла в ответ. Рост продаж должностей был, конечно, одним из самых ярких побочных продуктов возраставшей монетизации экономик раннего Нового времени и относительного роста влияния торговой и мануфактурной буржуазии. Однако справедливо и то, что сама интеграция последних в государственный аппарат путем частной покупки и наследования общественных должностей и почестей означала подчиненный характер их ассимиляции в феодальную политическую систему, в которой аристократия всегда с неизбежностью составляла верхушку социальной иерархии. Чиновники (officiers) французского парламента, которые заигрывали с муниципальным республиканизмом и спонсировали «мазаринады» (движение против Мазарини) в 1650-е гг., стали самыми твердолобыми защитниками аристократической реакции в 1780-е. Абсолютистская бюрократия не только замечала рост торгового капитала, но и тормозила его.
Если продажа должностей была косвенным способом поднять доход от аристократии и торговой буржуазии на выгодных для них условиях, абсолютистское государство также, и прежде всего, облагало налогом бедных. Экономический переход от трудовой повинности к денежной ренте на Западе сопровождался появлением королевских налогов, собиравшихся на войну, что в условиях долгого феодального кризиса в конце Средневековья было уже одной из главных причин отчаянных крестьянских восстаний. «Цепь крестьянских восстаний, прямо направленных против налогообложения, взорвалась по всей Европе. <…> Выбор между фуражирами дружественной или вражеской армий был невелик – те и другие брали одинаково. Затем появлялись сборщики налогов и выметали все, что могли найти. Наконец, феодалы выбивали из своих людей „помощь“, которую они должны были заплатить своему суверену. Нет сомнений, что изо всех бед, с которыми они сталкивались, крестьяне страдали наиболее болезненно и наименее терпеливо от бремени войны и налогообложения»[32]. Практически везде преобладающий вес налогов – тальи и габели во Франции, сервисио в Испании – падал на бедняков. Не существовало юридической концепции «гражданина», обязанного платить налоги по самому факту своей принадлежности к нации. Класс сеньоров был на практике везде освобожден от налогообложения. Поршнев наглядно показал, что новые налоги, установленные абсолютистскими государствами для «централизации феодальной ренты», были противоположностью сеньориальным сборам, которые формировали «местную феодальную ренту»[33]: эта двойная система поборов приводила к мучительным эпидемиям восстаний бедноты во Франции XVII в., где провинциальная аристократия часто вела своих собственных крестьян против сборщиков налогов, чтобы с большей вероятностью собрать с них местные подати. Фискальных чиновников должны были охранять отрядами фузилеров, чтобы они могли исполнять свои функции в сельской местности: вместе они представляли модернизированное олицетворение единства политико-правового принуждения с экономической эксплуатацией, определяющего феодальный способ производства как таковой.
Экономические функции абсолютизма не исчерпывались, однако, его налоговой и должностной системами. Меркантилизм был правящей доктриной эпохи, и он представляет ту же самую неопределенность, как и бюрократия, которая должная была воплощать его в жизнь, и с тем же самым скрытым возвратом к более раннему прототипу. Меркантилизм несомненно требовал подавления партикуляристских барьеров торговли внутри национальных границ и боролся за создание унифицированного внутреннего рынка для производства товаров. Нацеленный на увеличение мощи государства по отношению ко всем другим государствам, он поощрял экспорт товаров, запрещая в то же время экспорт золота или монет, веруя в то, что в мире существует конечное количество торговли и богатства. В соответствии со знаменитой фразой Хекшера (Hecksher) «государство было одновременно и субъектом, и объектом меркантилистской экономической политики»[34]. Его характерными творениями были королевские мануфактуры и регулируемые государством гильдии во Франции, а также привилегированные компании в Англии. Средневековое и корпоратистское происхождение первого вряд ли нуждается в комментарии; слияние экономического и политического порядков в последних возмущало Адама Смита. Дело в том, что меркантилизм представлял собой концепцию феодального правящего класса, который адаптировался к общему рынку, но сохранил суть своего мировоззрения в единстве того, что Френсис Бэкон назвал «соображениями изобилия» и «соображениями мощи». Классические буржуазные доктрины laissez-faire, с их жестким формальным разделением политической и экономической систем, служили ему антиподом. Меркантилизм был теорией последовательного вмешательства политического государства в работу экономики, в общих интересах процветания одного и мощи другого. Логично, что там, где laissez-faire был сущностно «пацифистским», благословляя блага мира между народами для увеличения взаимовыгодной международной торговли, меркантилистская теория [Монкретьен (Motchretien), Бодэн (Bodin)] была очень воинственной, подчеркивая необходимость и выгодность войны[35]. И наоборот, целью сильной экономики было успешное осуществление завоевательной внешней политики. Кольбер говорил Людовику XIV, что королевские мануфактуры были экономическими полками, а корпорации его резервами. Этот величайший практик меркантилизма, который восстановил финансы французского государства за десять волшебных лет интендантства, затем подтолкнул своего суверена к роковому вторжению в Голландию в 1672 г., таким выразительным советом: «Если король подчинит все Объединенные провинции своей власти, их торговля станет торговлей подданных его величества, и ничего больше не надо будет просить»[36]. Сорок лет европейского конфликта последовали за этим экономическим умозаключением, которое совершенным образом фиксирует социальную логику абсолютистской агрессии и хищнического меркантилизма: торговля голландцев рассматривалась как земля англосаксов или владения мавров, – физический объект, который можно захватить военной силой и которым можно потом владеть постоянно. Оптическая иллюзия этого частного суждения не делает его нерепрезентативным: именно такими глазами абсолютистские государства смотрели друг на друга. Меркантилистские теории богатства и войны были, в самом деле, концептуально соединены: модель мировой торговли как игры с нулевой суммой, которая вдохновляла экономический протекционизм, проистекала из модели международной политики как игры с нулевой суммой, которая была неотъемлемой частью ее воинственности.
Торговля и война, конечно, не исчерпывали внешнюю активность абсолютистских государств Запада. Большие усилия прилагались и к дипломатии. Она стала одним из великих институциональных изобретений эпохи – возникшая в миниатюрном регионе Италии в XV в., институционализированная там миром в Лоди, и принятая Испанией, Францией, Англией, Германией и всей Европой в XVI в. Дипломатия была, фактически, нестираемым родимым пятном ренессансного государства: с ее появлением в Европе родилась международная государственная система, в которой существовало «постоянное зондирование слабых мест в окружении государства и опасностей, ему угрожающих, исходящих от других государств»[37]. Средневековая Европа никогда не состояла из четко разграниченных гомогенных политических единиц – международной системы государств. Ее политическая карта была запутанной, наложенной и замысловатой, в которой разные политические ступени были географически переплетены и стратифицированы, изобиловали множественными вассальными зависимостями, асимметричными сюзеренитетами и аномальными анклавами[38]. И в этом сложном лабиринте не могла возникнуть формальная дипломатическая система, потому что не существовало единообразия или равенства партнеров. Концепция латинского христианства, членами которого были все люди, предлагала универсалистскую идеологическую матрицу для конфликтов и решений, которая была необходимой оборотной стороной чрезвычайно партикуляристской гетерогенности самих политических единиц. Поэтому «посольства» были спорадическими и неоплачиваемыми путешествиями с обращениями, которые с равным основанием могли быть направлены вассалом к собственному вассалу на данной территории, или от князя к князю двух разных территорий, или от принца к его сюзерену. Сокращение феодальной пирамиды до новых централизованных монархий ренессансной Европы впервые создало формализованную систему новых институтов взаимных постоянных посольств за границей, постоянные канцелярии для иностранных дел и секретные дипломатические коммуникации и доклады, защищенные новой концепцией «экстерриториальности»[39]. Светский дух политического эгоизма, вдохновлявший с этого времени дипломатическую практику, был прозрачно выражен Эрмолао Барбаро, венецианским послом, который был его первым теоретиком: «Первая обязанность посла – та же самая, что и у других государственных служащих, то есть думать и советовать такие вещи, которые лучше всего послужат сохранению и расширению его собственного государства».
И все же эти инструменты дипломатии, послы и государственные секретари, не были орудием современного национального государства. Идеологическая концепция «национализма» была чужда внутренней природе абсолютизма. Королевские государства новой эпохи не пренебрегали мобилизацией патриотических чувств своих подданных в ходе политических и военных конфликтов, постоянно противопоставлявших различные монархии Западной Европы. Однако рассеянный народный протонационализм Англии Тюдоров, Франции Бурбонов или Испании Габсбургов был в основном знаком присутствия буржуазии в политической жизни[40]; сановники или суверены манипулировали им в большей степени, чем он управлял их действиями. Национальный ореол абсолютизма на Западе, очень часто декларированный (Елизавета I, Людовик XIV), на деле зависел от многих обстоятельств. Руководящие нормы эпохи надо было искать в другом месте. Высшим знаком легитимности была династия, а не территория. Государство задумывалось как вотчина монарха, и, соответственно, право на него могло быть получено путем союза личностей: felix Austria. Высшим изобретением дипломатии был, следовательно, брак – мирное зеркало войны, которое очень часто ее провоцировало. Менее дорогостоящее в качестве способа территориальной экспансии, чем военная агрессия, матримониальное маневрирование давало и менее гарантированный результат (часто всего лишь на одно поколение) и было потому предметом непредсказуемого риска смертности в интервале между свадебным обрядом и созреванием его политических плодов. Отсюда длинный окольный путь брака так часто вел назад прямо к короткой дороге войны. История абсолютизма замусорена такими конфликтами, названия которых свидетельствуют сами за себя: войны за испанское, австрийское, баварское наследства. Их результат мог, в самом деле, способствовать упрочению власти династии над территорией, развязавшей войну. Париж мог потерпеть поражение в разрушительной военной борьбе за испанское наследство, и дом Бурбонов унаследовал Мадрид. В дипломатии абсолютистского государства, таким образом, также очевидно доминирование феодалов.
Чрезвычайно выросшее и реорганизованное феодальное государство эпохи абсолютизма, тем не менее, постоянно и глубоко переопределялось ростом капитализма внутри составных общественных формаций периода раннего Нового времени. Эти формации были, конечно же, комбинацией различных способов производства при постепенно затухающем доминировании одного из них – феодализма. Все структуры абсолютистского государства раскрывают, таким образом, влияние работы новой экономики в рамках старой системы: изобиловала гибридная «капитализация» феодальных форм, само извращение которыми институтов будущего (армии, бюрократии, дипломатии, торговли) было превращением старых социальных целей в их повторение.
И все же предчувствие нового политического порядка, содержащееся в них, не было ложным обещанием. Буржуазия на Западе была уже достаточно сильной, чтобы в условиях абсолютизма оставить на государстве свой смазанный отпечаток. Видимым парадоксом абсолютизма в Западной Европе было то, что он по сути своей представлял аппарат для защиты собственности и привилегий аристократов, в то же самое время средства, которыми обеспечивалась эта защита, могли одновременно обеспечить и базовые интересы новорожденных торгового и мануфактурного классов. Абсолютистское государство во все возраставшей степени централизовало политическую власть и работало в направлении создания единой правовой системы: кампании Ришелье против гугенотских редутов во Франции были типичным случаем. Оно покончило с большим количеством внутренних барьеров в торговле и поддержало ввозные пошлины против иностранных конкурентов: меры Помбаля (Pombal) в Португалии времен Просвещения были ярким примером. Оно предоставило доходные, хотя и рискованные инвестиции для ростовщического капитала: Аугсбургские банкиры XVI в. и генуэзские олигархи XVII в. могли наживать состояния на своих займах испанскому государству. Оно мобилизовало сельскую собственность путем захвата церковных земель: роспуск монастырей в Англии. Оно предложило бюрократии синекуры рантье: Полетт (Paulette) во Франции создавал им стабильные должности. Оно спонсировало колониальные предприятия и торговые компании: Белого моря, Антильских островов, Гудзонова залива, Луизианы. Другими словами, оно выполняло некоторые частичные функции первоначального накопления, необходимые для окончательного триумфа самого капиталистического способа производства. Причины того, почему оно смогло выполнять такую «двойную» роль, лежат в специфическом характере торгового или мануфактурного капитала: поскольку ни тот ни другой не основывался на массовом производстве, характерном для машинной индустрии, ни один сам по себе не требовал радикального разрыва с феодальным аграрным порядком, который все еще включал подавляющее большинство населения (будущие наемные работники и будущий рынок потребления промышленного капитализма). Другими словами, они могли развиваться в пределах, установленных реорганизованными феодальными рамками. Не хочу сказать, что так было везде: политические, религиозные или экономические конфликты могли после периода созревания при определенных условиях легко вылиться в революционные взрывы, направленные против абсолютизма. Всегда в рамках этой стадии, однако, существовало потенциальное поле совместимости между природой и программой абсолютистского государства и действиями торгового и мануфактурного капитала. В условиях международной конкуренции между благородными классами, которая порождала специфические войны той эпохи, размеры товарного сектора внутри каждой «национальной» вотчины всегда имели критическое значение для ее относительной военной и политической силы. Каждая монархия поэтому была заинтересована и в пополнении казны и поощрении торговли под ее собственными флагами, и в борьбе со своими соперниками. Отсюда – «прогрессивный» характер, который последующие историки так часто приписывали официальной политике абсолютизма. Экономическая централизация, протекционизм и заморская экспансия усиливали позднефеодальное государство и создавали прибыль ранней буржуазии. Они увеличивали налогооблагаемые доходы одного, создавая возможности для бизнеса другого. Рекламные максимы меркантилизма, провозглашавшиеся абсолютистским государством, давали убедительное выражение этому временному совпадению интересов. В соответствии с этим герцог Шуазель (Duc de Choiseul) в последние десятилетия аристократического старого режима на Западе декларировал: «От флота зависят колонии, от колоний – торговля, от торговли – возможности государства содержать многочисленные армии, увеличивать население и делать осуществимыми самые славные и полезные начинания»[41].
Однако, как подразумевает финальный пассаж о «славных и полезных начинаниях», абсолютизм сохранял свой неотъемлемо феодальный характер. Это было государство, основанное на социальном превосходстве аристократии и ограниченное императивами земельной собственности. Аристократия могла передать власть монарху и разрешить обогащение буржуазии: массы оставались в ее власти. Никакого умаления благородного класса в абсолютистском государстве никогда не случалось. Его феодальный характер проявлялся в отказе от выполнения или искажении обещаний, которые оно делало капиталу. Фуггеры были в конце концов разрушены банкротствами Габсбургов; английская аристократия захватила большую часть монастырских земель; Людовик XIV разрушил блага работы Ришелье, отозвав Нантский эдикт; лондонские купцы были ограблены проектом Кокейна (Cockayne); Португалия после смерти Помбала вернулась к системе Метуэна, парижские спекулянты были обмануты законом. Армия, бюрократия, дипломатия и династия оставались затвердевшими феодальными комплексами, которые правили всей машиной государства и управляли его судьбами. Правление абсолютистского государства было правлением феодальной аристократии в эпоху перехода к капитализму. Его конец означал кризис власти этого класса: начало буржуазных революций и возникновение капиталистического государства.
2
См. обсуждение этого вопроса в моей книге Passages from Antiquity to Feudalism (London, 1974), которая предшествует данному исследованию.
3
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства //Marx-Engels. Werke. Bd. 21. Berlin, 1962. S. 167.
4
Zur Wohnungsfrage// Ibid. Bd. 18. S. 258.
5
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Marx-Engels. Selected Works. Moscow, 1968. P.37; Werke, Bd. 4. S. 464.
6
Uber den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie // Marx-Engels. Werke. Bd. 21. S. 398. «Политическое» господство в процитированной фразе означает государственное, Staatliche.
7
Первая формула из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» (Selected Works. P. 171); вторая – из «Гражданской войны во Франции» (Selected Works. P. 289).
8
Маркс К. Капитал: критика политической экономии Т. 3. М., 1985. С. 863–867. Описание Доббом этого фундаментального вопроса в его «ответе» Суизи в ходе знаменитых дебатов в пятидесятые о переходе от феодализма к капитализму было колким и ясным: Science and Society. Vol. 14. N 2. Spring 1950. P. 157–167, особенно P. 163–164. Теоретическая важность проблемы очевидна. В случае с такой страной, как Швеция, например, стандартные исторические работы до сих пор заявляют, что там «не было феодализма» на том основании, что там не было крепостного права. На самом деле, феодальные отношения господствовали в сельской местности Швеции в позднесредневековую эпоху.
9
Hill С. Comment (on the Transition from Feudalism to Capitalism) //Science and Society. Vol. 17. N 4. Fall 1953. Р-351– Надо осторожно относиться к словам в этом суждении. Общий эпохальный характер абсолютизма делает любое формальное сравнение с локальными, исключительными фашистскими режимами неуместным.
10
Althusser L. Montesquieu, Le Politique etl’Histoire, Paris, 1969. P. 117. Я выбрал эту формулировку как недавнюю и репрезентативную. Однако и сегодня встречается вера в капиталистический или квазикапиталистический характер абсолютизма. Пулантцас так же опрометчиво классифицирует абсолютистские государства в его во всем остальном хорошей работе Pouvoir Politique et Classes Sociales. P. 169–180, хотя использует неопределенные и двусмысленные фразы.
Недавние дебаты о русском абсолютизме в советских исторических журналах также показывают похожие примеры, хотя хронологически они лучше нюансированы; см., например, Аврех А.Ю. Русский абсолютизм и его роль в утверждении капитализма в России //История СССР. 1968. Февраль. С. 83–104. Автор считает абсолютизм «прототипом буржуазного государства» (С. 92). Взгляды Авреха были подвергнуты жесткой критике в последовавших дебатах и не были типичными для содержания этой дискуссии.
11
Знаменитые дебаты между Суизи (Sweezy) и Доббом (Dobb), в которых приняли также участие Такахаши (Takahashi), Хилтон (Hilton) и Хилл (Hill), в журнале Science and Society (1950. Vol.3), остаются до наших дней единственным систематическим марксистским анализом центральных проблем перехода от феодализма к капитализму. В одном важном отношении, однако, они велись вокруг неверной проблемы. Суизи (вслед за Пиренном) доказывал, что «первичным движителем» в переходе был «внешний» агент разложения – городские анклавы, которые разрушили феодальную аграрную экономику посредством расширения товарного обмена в городах. Добб отвечал, что толчок к развитию надо искать в противоречиях самой аграрной экономики, которая порождала социальную дифференциацию крестьянства и подъем мелкого производителя. В последующем эссе на эту тему Вилар (Vilar) недвусмысленно сформулировал проблему перехода как проблему определения правильной комбинации «эндогенных» аграрных и «экзогенных» «торгово-городских» перемен, при этом подчеркивая важность новой экономики атлантической торговли в XVI в.: см.: Problems in the Formation of Capitalism //Past and Present. 1956. N 10. P 33–34. В важном недавнем исследовании The Relations between Town and Country in the Transition from Feudalism to Capitalism (неопубликовано) Джон Mepрингтон (John Merrington) эффективно разрешил эту антиномию, продемонстрировав базовую истину, что европейский феодализм вовсе не был исключительно аграрной экономикой, а был первым способом производства в истории, предоставившим автономное структурное место городскому производству и обмену. Рост городов был в этом смысле таким же «внутренним» развитием западноевропейского феодализма, как и разложение манора.
12
О пушках и галеонах см.: Cipotta С. Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion, 1400–1700. London, 1965. О книгопечатании самые смелые размышления, хотя и подпорченные мономанией, известной историкам технологий, недавно предложила Элизабет Эйзенштайн: см. Eisenstein Е. Some Conjectures about the Impact of Printing on Western Society and Thought: a Preliminary Report //Journal of Modern History. 1968. March – December. P. 1–56, а также The Advent of Printing and the Problem of Renaissance// Past and Present. 1969. N 45. P. 19–89. Главные технические изобретения той эпохи могут быть рассмотрены как вариации на общем поле коммуникаций. Они затрагивали соответственно деньги, язык, путешествия и войну – в более поздний период все это стало великими философскими темами Просвещения.
13
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. С.105. (Anti-Duhring. Moscow, 1947. P. 126). См. также Р. 196–197, где смешаны верные и неверные формулы. Эти страницы цитировались Хиллом в его Комментариях, где он пытается оправдать Энгельса за ошибочное положение о «равновесии». В целом у Маркса и у Энгельса можно найти пассажи, в которых абсолютизм описывается более адекватно, чем в цитированных выше текстах. (Например, в самом «Манифесте Коммунистической партии» есть прямое упоминание «феодального абсолютизма».) Было бы странным, если бы этого не было, поскольку логическим следствием из признания абсолютизма буржуазным или полубуржуазным стал бы отказ в реальности самих буржуазных революций в Западной Европе. Однако несомненно, что, несмотря на повторяющуюся путаницу, главный дрейф их комментариев был направлен к концепции «равновесия» с сопутствующим ей сдвигом к идее «главной основы». Нет нужды скрывать этот факт. Огромное интеллектуальное и политическое уважение, которое мы питаем к Марксу и Энгельсу, несовместимо с любым благоговением перед ними. Их ошибки – часто более плодотворные, чем истины у других, – не должны скрываться, их надо обнаруживать и преодолевать. Здесь необходимо еще одно предупреждение. Долгое время было модным преуменьшать вклад Энгельса в создание исторического материализма. Для тех, кто до сих пор расположен придерживаться этой точки зрения, необходимо сказать спокойно, хотя и провокационно: суждения Энгельса об истории практически всегда превосходят суждения Маркса. Он обладал лучшими знаниями по европейской истории, он лучше разбирался в ее сменяющих друг друга и ясно выраженных структурах. Во всех трудах Энгельса нет ничего сопоставимого с иллюзиями и предрассудками, которые Маркс иногда привносил в науку, как, например, в фантасмагорической «Тайной дипломатической истории XVIII века» (вряд ли надо при этом заново утверждать превосходство вклада Маркса в общую теорию исторического материализма). Именно позиция Энгельса в его исторических трудах делает необходимым привлечь внимание к содержащимся там специфическим ошибкам.
14
См. Hazeltine H.D. Roman and Canon Law in the Middle Ages //The Cambridge Mediaeval History. Vol. g. Cambridge, 1968. P. 737–741. Именно по этой причине сам ренессансный классицизм был очень критично настроен по отношению к работам комментаторов.
15
«Теперь, когда это право было перенесено в совершенно другую, неизвестную античности ситуацию, задача „конструирования“ логически безупречной ситуации стала главной. Именно таким образом концепция права, существующая до сих пор и рассматривающая право как логически последовательный комплекс „норм“, требующих „применения“, стала основной концепцией юридической мысли». Weber М. Economy and Society. Berkeley: University of California Press, 1978. Vol. 2. P. 885.
16
См. Levy J.-P. Histoire de la Propriete. Paris, 1972. P. 44–46. Другим ироническим побочным эффектом попыток создать новую юридическую ясность, вдохновленным средневековым исследованием римских кодексов, было, конечно, определение крепостных как glebae adscripti («приписанных к земле»).
17
О значении понятия seisin см. Vinogradoff P. Roman Law in Mediaeval Europe. London, 1909. P. 74–44, 86, 95–96; Levy J.-P. Histoire de la Propriete. P. 50–52.
18
Отношение первоначального средневекового права в городах к римскому праву нуждаются в дальнейшем исследовании. Сравнительное развитие юридических правил, регулировавших операции по типу commenda и морскую торговлю в Средневековье неудивительно: римский мир, как мы видели, не знал антрепренерских компаний и включал единое Средиземноморье. Следовательно, тогда не было причин развивать ни то ни другое. С другой стороны, изучение римского права в итальянских городах показывает, что то, что казалось ко времени Возрождения «средневековой» практикой контрактов, могло быть изначально сформировано юридическими принципами, восходящими к античности. Виноградов не сомневался, что римское контрактное право прямо влияло на деловые кодексы городских бюргеров Средневековья. См.: Vinogradoff Р. Roman Law in Mediaeval Europe. Oxford: Clarendon Press, 1929. P. 79–80, 131. Городская недвижимая собственность, с ее «арендой», была всегда, конечно, ближе к римским нормам, чем сельская собственность в Средние века.
19
См. Kinkell W. The Reception of Roman Law in Germany: An Interpretation; Dahm G. On the Reception of Roman and Italian Law in Germany // Pre-Reformation Germany/G.Strauss (ed.). London, 1972. P. 271, 274–276, 278, 284–292.
20
Одним из идеалов, но далеко не единственным: мы увидим, что сложная практика абсолютизма была всегда очень далека от максимы Ульпиана.
21
Римское право так никогда и не натурализовалось в Англии, главным образом в результате ранней централизации англосаксонского государства, чье административное единство сделало английскую монархию безразличной к преимуществам гражданского права во время его средневековой диффузии. См. комментарии Cantor N. Mediaeval History. London, 1963. P345-349– В раннее Новое время династии Тюдоров и Стюартов ввели новые юридические институты по типу гражданского права (Звездную палату, Адмиралтейство и Суд лорда-канцлера), но в целом оказались неспособными преодолеть обычное право: после острых конфликтов между ними в начале XVII в. Английская революция 1640 г. закрепила победу последнего. Некоторые размышления над этим процессом см.: Holdsworth W. A History of English Law. Vol. IV. London, 1924. P. 284–285.
22
Этими двумя терминами Вебер обозначал соответственно интересы двух сил, работавших на романизацию: «пока буржуазия добивалась „определенности“ (certainty) в администрации юстиции, бюрократия была заинтересована в «ясности» (clarity) и подчинении законам (orderliness)». См. его превосходное обсуждение в: Economy and Society. Vol. II. P. 847–848.
23
См. Roberts М. The Military Revolution 1560–1660 //Essays in Swedish History. London, 1967. P. 195–225 – основной текст; Gustavus Adolphus. A Historyof Sweden 1611–1632. London, 1958. Vol. II. P. 169–189.
24
Bodin J. Les Six Livres de la Republique. Paris, 1578. P. 669.
25
Cm. Dorn W. Competition for Empire. New York, 1940. P. 83.
26
Machiavelli N. II Principe е Discorsi. Milan, 1960. P. 62.
27
Vives V. J. Estructura Administrativa Estatal en los Siglos XVI у XVII // XIе Congres International des Sciences Historiques, Rapports IV, Goteborg 1960; переиздано в: Vives V. Cojuntura Economica у Reformismo Burgues. Barcelona, 1968. P. 116.
28
См. Ehrenberg R. Das Zeitalter der Fugger. Bd. I.Jena, 1922. P. 13.
29
Cm. Clark G. N. The Seventeenth Century. London, 1947. P. 98. Эренберг, использующий немного другое определение, дает несколько меньшее число, 21 год.
30
Лучшим исследованием этого международного феномена является: Swart K. W. Sale of Offices in the Seventeenth Century. The Hague, 1949. Самое всестороннее исследование на национальном уровне: Mosnier R. La Venalite des Offices sous Henri IV et Louis XIII. Rouen (n. d.).
31
Cm. Chabod F. Scritti sul Rinascimento. Turin, 1967. P. 617. Миланские функционеры отказались выполнить требование своего губернатора, однако их коллеги в других местах могли не проявить такой решительности.
32
Duby G. Rural Economy and Country Life in the Medieaeval West. P. 333.
33
Porshnev В. F. Les Soulevements Populaires en France de 1623 а 1648. Paris, 1865. p. 395–396.
34
Хекшер доказывал, что целью меркантилизма было «увеличение мощи государства», а не «богатство наций», и это означало подчинение, словами Бэкона, «соображений изобилия» «соображениям мощи» (Бэкон на этом основании хвалил Генриха VII за ограничение импорта вин только на английских судах). Винер (Viner), в эффективном ответе не затруднился показать, что большинство писателей-меркантилистов, наоборот, придавали равное значение и тому, и другому, и верили, что они совместимы. Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the 17th and 18th Centuries EWorld Politics. I. N 1. 1948. Переиздано в: Revisions in Mercantilism/D. C. Coleman (ed.). London, 1969. P. 61–91. В то же время Винер очевидно недооценивал разницу между меркантилистской теорией и практикой, и сменившей ее laissez-faire. Фактически и Хекшер, и Винер разными способами упустили существенный факт, а именно неразличение экономики и политики в переходную эпоху, которая производила меркантилистские теории. Спорить о том, что из них имело «первенство» над другим, – анахронизм, потому что на практике между ними не было такого жесткого разделения до самого появления laissez-faire.
35
См. Silberner Е. La Guerre dans La Pensee Economique du XVIe au XVIIIe Siecle. Paris, 1939. P. 7–122.
36
Goubert P. Louis XIV et Vingt Millions de Francais. Paris, 1966. P. 95.
37
Porshnev B.F. Les Rappports Politiques de l’Europe Occidentale et l’Europe Orientale a l’Epoque de la Guerre de Trente Ans’ //XIe Congres International des Sciences Historiques. Uppsala, 1960. P. 161. Чрезвычайно умозрительный набег в Тридцатилетнюю войну, хороший пример сильных и слабых сторон Поршнева. Вопреки намекам его западных коллег, его главным недостатком является не жесткий «догматизм», а чрезмерно плодотворная изобретательность, не всегда адекватно ограниченная дисциплиной доказательств; в то же время эта самая черта в другом отношении делает его оригинальным и творческим историком. Краткие предложения в конце его эссе по поводу концепции «международной системы государств» очень хороши.
38
Энгельс любил приводить пример Бургундии: «Карл Лысый, например, был ленником Императора по части своих земель и ленником французского короля по другой их части; с другой стороны, король Франции, его сюзерен, был в то же время ленником Карла Лысого, своего собственного вассала, по некоторым регионам». См. его важную рукопись, посмертно озаглавленную Uber den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie // Werke. Bd. 21. S. 396.
39
Полное развитие новой дипломатии в Европе раннего Нового времени можно найти в замечательной работе Mattingly G. Renaissance Diplomacy. London, 1955. passim.
40
Сельские и городские массы сами, конечно, порождали спонтанные формы ксенофобии; однако эта традиционная негативная реакция на чужие сообщества сильно отличалась от позитивной национальной идентификации, которая стала возникать среди грамотных буржуа в раннее новое время. Смешение этих двух процессов могло в кризисной ситуации породить патриотический порыв снизу, неконтролируемого и мятежного типа: восстания Комунерос в Испании или Лиги во Франции.
41
Цит. по: Graham G. The Politics of Naval Supremacy. Cambridge, 1965. P. 17.