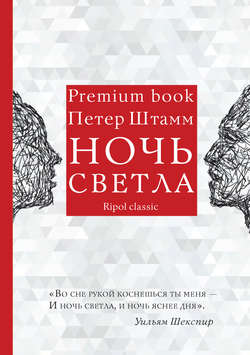Читать книгу Ночь светла - Петер Штамм - Страница 3
Оглавление* * *
Снова и снова – или явь, или сон, то пробуждение ото сна, то погружение в невесомость. Джиллиан лежит в воде, и вода светится синим светом. А собственное ее тело отливает желтизной, но стоит всплыть на поверхность, как опять растворишься во тьме. Свечение исходит от воды, теплая вода заливает ее живот, ее грудь. Маслянистая вода, она застывает и каплями стекает с кожи. Джиллиан кажется, что она в замкнутом пространстве, где не слышно ни звука, но все-таки она не одна. Она любима, и ее тоже переполняет любовь.
Время движется скачками. Заслышав шум, Джиллиан открывает глаза. Вот теперь она действительно одна. На стене ряды светящихся точек, а ведь раньше их не было. Джиллиан закрывает глаза, и шум удаляется, стихает.
А вот подле нее возникает белая фигура и, успокаивая, простирает руки, но вот она вновь исчезает. Джиллиан ощущает легкий приступ дурноты, едва ли не живительный, эта чудесная слабость снова загоняет ее назад, вглубь, в сон. Как вдруг – светает. Все тонет в ослепительной белизне. На тумбочке поднос с завтраком. Пахнет кофе, пахнут цветы. Медленно пробуждается тело, вот ноги, вот рука откидывает одеяло, вот холодок прошелся по оголившейся коже. Болей почти нет, зато есть такое чувство, словно ты собираешься и распускаешься, как будто медленно пульсируя. О, вот чья-то рука лежит рядом, но только нажмешь на кнопку, как она становится твоей собственной рукой. И вот уже что-то заставляет тебя подняться всем телом, и слышится легкий гул. Дышать почему-то очень легко, будто воздух беспрепятственно заполняет легкие и тотчас улетучивается. Палец жмет на зеленую кнопку с нарисованным колокольчиком. Время течет.
Белая женщина входит в палату, идет к кровати и, не спрашивая, подставляет ночной горшок. И снова такое чувство, будто ты растворяешься в тепле, исходящем из твоей плоти.
– Сделали?
Джиллиан выдавливает из себя нечто вроде короткого стона. И мнится ей, будто сама она занимает лишь малую часть собственного тела, а тело кажется таким огромным – пустая оболочка, наполненная странными звуками, непроизвольными движениями. Так входишь в комнату, которая только что опустела. Но издалека доносятся обрывки разговоров, смех. Джиллиан спешит вниз по лестнице, и опять она опоздала! На столе только грязная посуда, пустые тарелки. И смятые салфетки на белой скатерти, усеянной винными пятнами и крошками.
* * *
Идет дождь. Джиллиан задается вопросом, как давно она тут лежит, но не надеется получить ответ. Сил едва хватило и на сам вопрос. Она сидит в кровати, наклонившись вперед, и не помнит, как приняла это положение. Вдруг она чувствует какой-то холод, сначала точечку, но точечка увеличивается до массивных размеров, штрих за штрихом вырисовывается этот массив в пустоте, и вот уже она чувствует его целиком. Пахнет спиртом. Включено радио, Джиллиан слышит сигнал точного времени и голос, как же быстро звучит эта речь, она различает лишь отдельные слова, не составляющие общего смысла. Уполномоченный ООН, марсоход «Бигль-2», победа в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, циклон с центром над Бискайским заливом. Местами кратковременные дожди. Мысленно она повторяет: уполномоченный ООН, марсоход, циклон… и пытается найти взаимосвязь. Ощущение холода проходит, массив исчезает из ее сознания, ночная рубашка опускается, подобно занавесу. Затаив дыхание, Джиллиан ждет, когда же занавес поднимется снова. Легонько кто-то ее подталкивает, и она, выбегая на сцену, быстро осматривается, как будто споткнулась. Обращается к публике и, глядя на рампу, делает низкий поклон. Три, четыре занавеса, и аплодисменты стихают, минуло ее быстротечное счастье. Джиллиан знает, что была нехороша, и режиссер ей скажет об этом в который уж раз. «Ты просто играешь, – скажет он. – А ролью надо жить».
– Наверное, вам лучше прилечь. Выключить радио или так оставить?
Джиллиан пытается сосредоточиться. Все зависит от ее ответа. Она хочет проснуться и встать, но не получается. Ноги не двигаются, даже не шевелятся, будто нет у нее ног. Радио замолкло, медсестра подошла к окну и задернула шторы. Джиллиан вспомнила про дождь. Циклон. Наверное, вот тут и есть взаимосвязь.
– Отдохните немного.
Отдохнуть? От чего отдохнуть? Что-то случилось. Смутные воспоминания как будто обволакивают Джиллиан, то нахлынут, то отступят. Стоит только протянуть руку, картинки исчезают и вновь поднимается голубая вода, опять эта голубая вода и пустой дом, первая ее сцена. Но и другое не уходит, другое по-прежнему здесь, другое только и ждет. Она знает: выход есть, и она этот выход найдет. Но позже.
* * *
Врач придвинул стул поближе к кровати, откинулся на спинку. В руках у него зеркальце в розовой пластмассовой рамке, маленькое, словно игрушечное. Спросил, как ее самочувствие.
– Лучше, – ответила Джиллиан. – Прихожу в себя.
Впервые ей удалось что-то вспомнить.
– Два дня, – ответил он на ее вопрос о том, давно ли она здесь находится. Хоть бы и месяц, хоть бы и год – она бы не удивилась. – Нам пришлось дать вам сильное обезболивающее.
– Здорово мы покатались. – Джиллиан попробовала пошутить и рассмеяться.
Она подняла было руку, однако врач перехватил ее быстрым, но мягким движением:
– Нет, вам нельзя прикасаться к этому месту.
И принялся описывать ее лицо, будто это посторонний предмет. Дал очень толковую и подробную его характеристику, но только Джиллиан не совсем поняла, к чему весь этот рассказ. А врач уже перешел к описанию методик и операций, которые необходимо в данном случае провести.
– Через полгода почти ничего не будет видно.
– Ничего – это в каком смысле?
– Ухо нам легко удастся реплантировать, а вот нос весь состоит из мелких сосудов. Нос придется изготовить для вас заново. Пока смотрится не очень-то красиво, – продолжил врач, – но все же, мне кажется, будет лучше, если вы на себя взглянете.
Джиллиан быстро закрыла и тут же вновь открыла глаза, протянула руку. Врач дал ей зеркальце. Она покрутила зеркальце в руках, как оружие, с которым не умеет обращаться. Обвела взглядом окно, множество цветочных букетов в комнате, дверь и лицо врача. Тот улыбнулся и задал какой-то вопрос, но она не вслушивалась, все вертела зеркальце в руках, будто пытаясь найти на его поверхности безопасный уголок, и, наконец, отложила:
– Скажите, это полный ужас?
Врач кивнул и еще раз напомнил про полгода.
– Кто вас не знает, тот почти ничего не заметит.
– А тот, кто знает?
– Мы сделаем все возможное, чтобы добиться сходства, ведь уж чего-чего, а фотографий ваших хватает. Вы будете удивлены, – заверил он. – Пластическая хирургия продвинулась далеко вперед.
– Как же я чувствую запах кофе, если у меня нет носа?
– Обонятельные клетки сохранились, – пояснил врач, указав на собственную переносицу, и встал. – Оставить вам зеркало?
Сначала она отказалась, потом согласилась.
Только врач вышел, как Джиллиан быстрым движением подняла зеркало и поднесла близко к лицу, словно хотела за ним спрятаться.
* * *
Никак не могла вспомнить, когда же ей сообщили. Может, и не сообщали вовсе, может, она просто сама знала. Или только догадывалась, что Маттиас мертв. Тишина, только слышно, как ветер шумит в деревьях, да капли воды, да прерывистое похрустывание, словно понемногу распрямляется погнутый металл. Свет включался и выключался, оранжевый свет. Джиллиан не чувствовала боли, заметила только, что лицо у нее мокрое. И во рту металлический привкус крови. Голову повернуть никак не удавалось, но краем глаза она увидела Маттиаса, тот склонился на руль, будто заснул от усталости. Он не шевелился, он появлялся, исчезал, снова появлялся, снова исчезал. Лицо его казалось темным даже на свету… и багровым, как у алкоголика. Вот бы выключить ей эту мигалку, вот бы хорошо стало, а она смогла бы наконец поспать. Но пока даже пошевелиться не удавалось. А потом медленно подступила боль – грудь, ноги, лицо. Казалось, прежде она своего лица никогда не чувствовала, а теперь его свело болью, как рука сжимается в кулак. Маттиас мертв. Куда же ей девать все его вещи? Как встретиться с его семьей, с друзьями? Вспомнила продукты в холодильнике, как они там потихоньку портятся, и цветы в горшках, как они засыхают. И вдруг твердо поверила, что Маттиас не умер. Подумала, что такого быть не может, и эта мысль принесла облегчение, она едва не рассмеялась. Такого попросту не может быть.
* * *
Джиллиан проснулась, у кровати стоит отец, рядом с ним врач. Тихонько переговариваются. Джиллиан не стала вслушиваться. Закрыла глаза, снова увидела свое лицо и провал в самой его середине, и сквозь этот провал она глядит внутрь себя. Попыталась поднять руки, чтобы спрятаться, защититься. Одеяло давило на грудь, она едва могла пошевелить пальцем. Вдруг стало тяжело дышать. Открыла глаза. Двое мужчин так и стоят рядом. Теперь они молча смотрят на нее, смотрят вниз, смотрят внутрь. Джиллиан не удалось отвести этот их взгляд, остановить, предотвратить. Она закрыла глаза и помчалась прочь, скрылась от этого взгляда в укромном уголке. Пустая игра, вечная карусель, нескончаемые куплеты детской песенки. И тут она услышала свое имя – врач его произнес. Посмотрела вверх и встретилась глазами с отцом. Отец отвернулся.
– Как вы себя чувствуете?
Она не ответила. Нельзя себя выдавать. Раз уж спряталась, так не шевелись, и тогда им тебя не найти. Часами она могла выжидать в своем убежище – в платяном шкафу или за диваном, а то и на чердаке, – пока вдруг не поймет, что никто ее не искал. Тогда она прокрадывалась назад, показывалась почти в открытую, но получалось так, что она из-за долгих пряток будто становилась невидимкой. Родители смотрели сквозь нее. Какое облегчение, когда простоишь добрую четверть часа в кухонном дверном проеме, а мать наконец велит накрывать на стол, словно ничего не произошло. Джиллиан услышала, как дверь открылась, и увидела, как отец вышел из палаты. А врач следом за ним.
Сломалась, сломалась! Джиллиан помнила то отчаяние, с каким она прижимала одну часть лица к другой, словно они возьмут да и срастутся. И не могла вспомнить, как она вообще оказалась в этой искореженной машине. Помнила только невесомость. Как вдруг осознала, что время движется в одном направлении и его нельзя повернуть вспять. Первое ее воспоминание – вот это чувство: невозможно пошевелиться – и сила, и тяжесть ее оставили. Казалось, сознание уже покинуло тело, и тело, воспарив ввысь, со страшной скоростью носится в пространстве, ударяется и отскакивает, и опять мчится в нелепых своих метаниях.
Джиллиан всегда знала, что она в опасности, что однажды придется ей заплатить за все. Вот теперь и заплатила. Врач спросил, помнит ли она хоть что-то, но она лишь тихо покачала головой. Не в знак отрицания, нет, она просто попыталась отыскать свои воспоминания на белых стенах. Однако увиденные картины ничего общего с нею самой не имели. Работа, родители, Маттиас – все это из другой жизни.
– Все это есть, только меня нет, – вымолвила она.
* * *
Выверенные движения медсестры, ее напряженная улыбка.
– Скажите, если будет больно.
Боль состояла из коротких вспышек в непосредственной близости от ее лица, фейерверк уколов, которые Джиллиан к себе никак не относила. Тело на них реагировало, вздрагивало или рефлекторно пыталось не поддаваться. Сестра извинилась, в голосе ее слышалось нетерпение. Джиллиан не собиралась извиняться за свое тело, оно всего лишь досталось ей по наследству. Она здесь третья сторона, она только что здесь поселилась. Придет кто – откроет дверь и впустит. И наблюдает за посетителем, пытается прочесть в его взгляде, каким он находит этот дом. Радовалась, если он выражает восхищение. Да, здесь хорошо, не правда ли? Но и сделать предстоит еще немало. И смеется. Сестра объясняла ей свои действия, но Джиллиан не слушала. Она пыталась соотнести боль со своим лицом, создать единую картину, но ей не удавалось. Картина неполная, пропорции смещены.
– Сейчас заканчиваем, – сообщила медсестра. – Вот так, все хорошо получилось.
И вышла из палаты. Зеркало лежит на тумбочке. Джиллиан думала о зеркале, не о своем лице. Зеркало – вот лицо, которое она может держать перед собой. Нерешительно протянула руку, чуть помедлила, но все-таки его взяла. Повертела, покрутила, поднесла к глазам обратной стороной и разглядывала блестящую поверхность, слабое отражение своего лица, неповрежденный его отблеск. Если бы кто-то глядел на нее сейчас, то лицо его, отразившись в зеркале, стало бы ее лицом.
И все-таки она перевернула зеркало, долго и пристально на себя смотрела. Раньше она, вставая порой перед зеркалом, заглядывала себе глубоко в глаза. Но глаза были как стекляшки, а зрачки – как провалы, за которыми скрывалась непроницаемая тьма ее тела.
Изо всех сил она старалась узнать себя в этой плоти. Узнавала глаза, брови, губы, но они не составляли целого. Когда врач или кто-то из сестер входил в палату, она быстро откладывала зеркало на тумбочку, воображая, что облик ее там и остается, что она может скрыть его от посторонних взглядов. Пыталась прочитать в глазах сестер отвращение или ужас. Но видела лишь равнодушную любезность.
Она разглядывала лица сестер, мысленно пытаясь в них перебраться. Подражала их мимике, вытягивала верхнюю губу, закрывая нижнюю, прищуривалась, морщила лоб. Заводила то с одной, то с другой сестрой долгий разговор, чтобы понаблюдать за ее лицом и отдохнуть.
* * *
Отец поставил стул к кровати. Повернешь голову, и видно, как он сидит, уставившись на стену, а там плакат с какой-то выставки – на зеленом поле три красные точки по диагонали. – Нравится тебе картинка?
Три точки. Она подняла голову с подушки. Отец быстро взглянул на нее и тут же отвернулся.
– Джон Армледер, – произнесла она и в самом имени художника вдруг почуяла опасность.
С нее сдерут кожу – ну, она не совсем поняла, но врач вроде бы собирается отделить кожу ото лба, не нарушая кровоснабжения, спустить пониже и использовать для нового носа.
– Маттиас погиб, – сказал отец.
– Да, – ответила она, – конечно.
Она знала, она ведь его видела. Слезы уже текли по вискам, а она и не заметила, что плачет. Отец достал из пачки на тумбочке бумажный платочек и промокнул ей глаза – непривычно нежное движение.
– Мне очень жаль.
«Я могла погибнуть!» – эти слова Джиллиан повторяла про себя снова и снова, но какой в них смысл? Поток слез прекратился так же неожиданно, как вначале хлынул. Отец выбросил платочек в мусорное ведро у двери и, вернувшись к кровати, снова уселся на стул. Выждав минутку, он сказал, что надо бы прояснить несколько организационных вопросов.
– Мама заходила к вам домой, сделала все, что нужно.
С тех пор как Джиллиан попала в больницу, она часто вспоминала детство и то время, когда уже покинула родительский дом: театральное училище и годы, проведенные в маленьких провинциальных театрах. Смутно вспоминалось ей и продолжение истории – брак с Маттиасом, работа на телевидении. Она и финал домыслила: сцена в саду, солнечный летний день, она стала старше, но как женщина все еще привлекательна, и мужчина там есть, пьют белое вино и беседуют о былых временах.
– Маттиас погиб, – произнесла Джиллиан.
– Одна и четыре десятых промилле алкоголя в крови, – ответил отец. Просто констатировал факт, будто сообщил размер одежды или вес Маттиаса.
– Я устала…
– Но главное, что ты осталась жива.
– Так только говорится. А я не знаю…
Отец, коротко взглянув на нее, тут же отвел глаза:
– Твоя подруга рассказывает, что вы с Маттиасом поссорились.
– Очень может быть, – согласилась Джиллиан. – Наверное, мы поссорились.
* * *
Маттиас обнаружил пленку и отнес проявлять в фотомастерскую. Они уже собирались выехать к Дагмар справлять Новый год, как вдруг он раскинул перед нею эти снимки:
– Кто фотографировал?
Джиллиан собрала фотографии, даже не рассмотрев, и сунула обратно в конверт:
– Тебя не касается!
Маттиас язвительно расхохотался:
– Да уж, обычное дело – фотографироваться в таком виде.
– Не волнуйся, для публики эти снимки не предназначены, – заверила она.
– Значит, ты этим занималась для удовольствия?
– А если я подарок тебе готовила?
Маттиас замолчал на минутку. Потом все-таки продолжил:
– Что, если тот тип в мастерской сделал отпечатки и для себя? Но тебе, похоже, все равно, кто на тебя смотрит в таком виде!
– Ты сам понес проявлять пленку, я тебя об этом не просила.
Маттиас вышел из комнаты. Час спустя он, одетый в темный костюм, появился в дверях с вопросом, готова ли она ехать. В этот миг Джиллиан потеряла к нему всякое уважение.
– Ладно, – сказала она, – поехали. Сейчас только переоденусь.
Пошла в спальню и нарядилась в самое короткое свое платье, в черные чулки сеткой, в туфли на высоченном каблуке. Губы накрасила ярко-красным, на шею за ушами нанесла чуточку духов – роскошный аромат, подарок Маттиаса, она этими духами почти не пользовалась. Маттиас нетерпеливо топтался в прихожей.
А когда она прошла мимо него к входной двери, тихо спросил:
– Ты на панель собралась или на новогоднюю вечеринку?
В машине они не обменялись ни единым словом, а в гостях он изо всех сил старался к ней не приближаться. Джиллиан издалека наблюдала, как он там стоит – причесочка аккуратная, костюм поблескивает.
К двум часам ночи только самые стойкие все еще сидели за большим столом, уставленным грязными тарелками и пустыми бокалами. Маттиас, единственный мужчина в компании, держался в сторонке, с бокалом в руке он через дверь террасы вглядывался в темный сад. Дагмар недавно рассталась со своим другом, и тут вдруг она сболтнула, что ей стоит все более значительных усилий воспринимать мужчину как эротический объект. Вопреки договоренности, что домой машину поведет Джиллиан, она выпила лишку. Потому и согласилась с Дагмар, еще и добавив, что женское тело вообще красивее мужского. Дагмар встала и направилась в туалет. Но по дороге приостановилась позади Джиллиан, положила руки ей на плечи и поцеловала в щечку. Маттиас распахнул дверь террасы и шагнул в сад.
Маттиас был редактором по культуре в иллюстрированном журнале, где про культуру почти ничего не писали. Когда они познакомились, Джиллиан еще работала на местном телеканале. Маттиас произвел на нее впечатление, поскольку в культурных кругах знал всех и вся. Их пути часто пересекались, Маттиас знакомил ее со всякими людьми и каждый раз уговаривал остаться на празднование премьеры. Однажды морозным зимним днем они встретились на премьерном показе в маленьком театре, расположенном высоко над городом. После спектакля сидели вместе, за одним столом с артистами. Правда, Джиллиан почти весь вечер говорила только с композитором. Тот заинтересовался ее необычным именем, она объяснила: мать у нее – англичанка. Джиллиан казалось, будто композитор знает о ней такое, что ей и самой неведомо. Далеко за полночь все вместе вышли из театра, а улица завалена снегом, и ветер ледяной. Маттиасу непременно хотелось показать ей что-то такое особенное. И когда остальные потопали к станции канатной дороги, он перевел ее через улицу к маленькой площадке, откуда открывался изумительный вид. Огни города сверкали в холодном воздухе, и казалось, даже до звезд рукой подать. Маттиас показал ей на памятник под большой липой: там похоронен Бюхнер. Обнял ее за плечи и рассказал сказку про бедного мальчика из «Войцека». Джиллиан ее помнила еще со школьных лет… И луна – гнилушка, и звезды – маленькие жучки золотые, и земля – горшок перевернутый… Тут они поцеловались.
Тем вечером ничего более не произошло. На трамвайной остановке они разошлись и поехали в разных направлениях. Лишь весной они впервые провели вместе ночь. Джиллиан, к тому времени пережив два-три бурных романа, радовалась, что с Маттиасом все так просто и он, кажется, по-настоящему ее полюбил. Но… ласковый-то он ласковый, а чем дальше, тем реже спали они друг с другом. И дел у обоих всегда по горло, так что Джиллиан раз за разом откладывала разговор на эту тему.
Когда он, упав на колени, попросил ее руки, она только рассмеялась и взъерошила ему волосы. Дело было в дорогом ресторане, где все ее знали, обращались к ней по имени. Сначала ситуация показалась ей неловкой, а потом даже понравилась. В последующие годы у них бывали и тщательно инсценированные романтические ужины, и завтраки с шампанским, и вечеринка сюрпризов с гостями в масках, когда ей исполнилось тридцать пять, и выходные дни в спа-отелях, и ночи в номерах для влюбленных.
Вскоре Джиллиан взяли ведущей на телевидение, и она вдруг стала зарабатывать столько же, сколько Маттиас. Но страдал он скорее от того, что в событиях, которые освещали они оба, Джиллиан всегда играла более значительную роль. Лишь тогда она заметила, что знает-то он действительно всех, но всерьез его не воспринимает никто. И вот, например, она берет у кого-то интервью, а сама краем глаза видит, как Маттиас толчется где-нибудь поблизости. Только выключат камеру, как он подойдет и встрянет в разговор. Да еще демонстративно обнимет ее или поцелует.
– Он в самом деле обиделся? – поинтересовалась Дагмар, когда вернулась.
– Просто мы поссорились сегодня вечером, – ответила Джиллиан.
Она поднялась и пошла в сад. Маттиас стоял на террасе, курил.
– Что случилось? – Ее голос прозвучал куда более резко, чем ей хотелось бы. – Давай-ка иди внутрь, холод-то какой.
Но ему померещилось, будто она как-то особенно смотрела на Дагмар. Вот он и спросил:
– Дагмар сделала эти фотографии?
– Знаешь что? С меня хватит! – возмутилась Джиллиан.
– Мы уходим, – сказал Маттиас, будто не слыша ее.
– Мне нельзя за руль, – сообщила она, нарисовав указательным пальцем нечто вроде спирали вокруг головы. – Можем остаться у Дагмар.
– А тебе только того и надо.
Бросив его на террасе, она вернулась в дом. Кто-то ей что-то говорил, она не отвечала, налила себе в стакан граппы, выпила и тут же снова налила.
– Останетесь ночевать? – спросила Дагмар.
– Теперь уж придется! – рассмеялась она в ответ.
* * *
– Да, мы поссорились, – подтвердила Джиллиан. – Но теперь это не важно.
Отец поднялся.
– Возьми с собой хоть парочку букетов, – попросила она. – Понятия не имею, кто их все прислал.
– Зачитать тебе карточки?
Она только головой покачала:
– Так и кажется, что меня тут выставили в гробу для прощания.
После обеда позвонила мать, поблагодарила за цветы. Спросила, когда можно навестить Джиллиан.
– Лучше не надо совсем.
Ведь любое обычное, нормальное лицо напоминало ей о собственном, погубленном. И было у нее такое чувство, будто она должна принять на себя весь тот ужас, что испытывают при виде ее другие, должна утешать их своим мужественным поведением. Выносить ей удавалось лишь присутствие врачей и сестер.
Мать не стала настаивать. Сообщила, что приглядывает за квартирой, холодильник освободила, грязное белье постирала.
– Спасибо, – сказала Джиллиан, – не стоило беспокоиться. Завтра у меня операция, а потом разберемся.
И добавила, что она очень устала.
– Ну, всего тебе хорошего.
– И тебе тоже.
Попыталась заснуть, чтобы только не думать об аварии, об операции, о Маттиасе.
Ближе к вечеру отец заглянул к ней снова. Очень деловитый.
– После первой операции ты в принципе можешь отправиться домой, – объявил он. – Но целесообразнее было бы остаться в больнице до тех пор, пока ты все-таки…
– Пока я не стану похожей на человека? – перебила Джиллиан.
– Пока ты не станешь нормально ходить. Когда тебе разрешат подниматься на ноги?
– Мне вставили пластину, значит, через неделю я, по идее, уже должна пойти, – пояснила она.
– Да и вообще здесь хорошо, – продолжил отец, – почти как в отеле. Дома мы не сумеем обеспечить тебе такой уход, как здесь.
– Не надо мне никакого ухода, – сказала Джиллиан.
– Если что нужно – звони. – Отец поднялся, протянул ей руку.
– У меня есть все, что нужно. Маме привет передавай.
– Ты ее тоже пойми, – сказал отец, уже стоя в дверях.
* * *
Предоперационная полным-полна людей, облаченных в зеленое. Чтобы лучше их разглядеть, Джиллиан попыталась привстать, но не сумела. Снизу видела лица, повязки и глаза-щелочки, над ними брови, в этом ракурсе всегда очень внушительные, и забавные марлевые шапочки. Какое-то лицо склоняется к ней, глаза дружелюбные, вокруг морщинки, и звучит голос: «Как вы себя чувствуете?» Вечно один и тот же вопрос: как она себя чувствует. Она-то задает себе другие вопросы. Что от меня осталось? То, что осталось, не рана? Как же она срастется? Кто это будет – я или все-таки не я?
Не успела она дать ответ про самочувствие, как лицо уплыло вверх и сплющилось, взгляд обратился в другую сторону. Но шевелилась повязка, и Джиллиан слышала слова, стараясь их не понимать, слышала спокойно и уверенно отданные указания. И сама ощутила сосредоточенность, какое-то радостное ожидание. Почему-то ей вспомнились школьные поездки. Всем классом собирались на вокзале, один за другим присоединялись к группе. Коротко приветствовали друг друга, вообще много не болтали. Хирург что-то сказал, совсем тихо. Кто-то захихикал, но подавил смешок. Движения их пока еще казались случайными, каждый занимался чем-то своим, стараясь не попадаться другому на пути. Анестезиолог подробно объяснял Джиллиан, как намеревается действовать. Она не знала, чего ожидают от нее самой. Зеленые существа исчезали одно за другим, и на миг Джиллиан показалось, что про нее тут вообще забыли. Но одновременно ей показалось, что ее поднимают за ноги, заталкивают в черную трубу и отпускают. Она помчалась вниз, сквозь тьму, все быстрее и быстрее, мимо проносились огни, шумы вдруг зазвучали где-то рядом, звонкий удар колокола, звук голоса, протяжный до неразборчивости и отдающийся эхом. И вдруг – совсем светло. Она почувствовала, как чья-то рука мягко тронула ее плечо. И снова появилось это дружелюбное лицо. Внутри у нее все сжалось. Почувствовала, как чьи-то руки поднимают ее, и вот настоящая качка, и вот металлический стук. Над нею проносятся лампы. Дышать тяжело. Нос заложен! Значит, у нее опять есть нос.
* * *
Ночью после операции Джиллиан снились кошмары. Наутро она не вспомнила своих снов, но сохранила тревожное ощущение от каких-то ночных просторов, по которым движутся невидимые люди, друг к другу они не обращаются, но таинственным образом между собой связаны. Откроешь дверь – а за нею возникает новое пространство, отвернешься – пространство исчезнет.
Зеркала не было на том месте, где она его оставила. Врач, вошедший в палату, держал это зеркало в руке. Он еще раз подробно объяснил ей, как он действовал: извлек хрящ из реберной части и восстановил нос, взял кожный лоскут со лба и покрыл им новый нос.
– Пока что красоты никакой, – сказал он. – Вам пока трудно будет представить, как оно заживет, но, уверяю вас…
Она сказала, что хуже прежнего все равно быть не может.
– Я вами очень доволен, – заключил он.
– Почему? Я ведь ничего не делала.
– Вы вели себя мужественно.
Джиллиан казалось, что он пытается выиграть время. Она протянула руку. Врач, кивнув, положил зеркало на одеяло перед ней:
– Через три недели кожа прирастет настолько, что мы сумеем окончательно отделить ее ото лба. А через три месяца вернетесь к нам. Пока вам надо на некоторое время остаться тут. Но после второй операции вы в принципе сможете работать. Есть кому о вас позаботиться?
– Нет, – сказала Джиллиан, и тут же, повинуясь неожиданному импульсу: – То есть да, это не проблема.
Врач недоуменно пожал плечами:
– Главное – ни о чем не волнуйтесь. Все будет хорошо.
Дышать ей становилось труднее. Дотрагиваясь кончиком языка до верхней губы, она нащупывала пересохший бинт и ощущала вкус крови. Врач ушел. Она с опаской взяла в руки зеркало, лежавшее на одеяле.
* * *
После обеда позвонила отцу на работу. Наверное, рядом с ним кто-то находился – может, из мастерской, может, заказчик. Отец приглушал голос и, как она заметила, старался поскорее закончить разговор.
– Я хотел навестить тебя сегодня, – проговорил он. – Загляну ненадолго после работы.
– Лучше не надо, – сказала она в ответ.
– В самом деле? – рассеянно переспросил отец. – У тебя есть все, что нужно?
– Мне ничего не нужно, кроме покоя, – заявила Джиллиан. – Не надо меня навещать.
– Знаешь, дел по горло, – пожаловался он. – Перед отпуском все от меня чего-то хотят.
– Теперь это выглядит еще страшнее! – крикнула в трубку Джиллиан и неожиданно расплакалась.
Отец, вроде бы того и не заметив, сказал только, что такова часть лечения, ведь врач сам ему показывал снимки разных этапов курса.
– Послушай, это совсем не то, что у тебя в мастерской! Автомобиль всегда можно хоть как-то залатать.
– Много ты понимаешь, – улыбнулся отец. – У тебя все хорошо?
Она невольно рассмеялась:
– Да, у меня все хорошо.
– Заскочу к тебе на минутку сегодня вечером, – повторил он и повесил трубку.
Перспектива его прихода вгоняла Джиллиан в беспокойство. Да, можно представить, что однажды появится на свет человек с другим лицом, и этот человек – она сама. Но между нею и этой новой персоной связи так же мало, как между нею и той, кем она была до аварии. В театральном училище они то и дело примеряли на себя разные выражения лица и пробовали разные жесты, таким способом изображая и испытывая необходимые переживания. Опустишь уголки губ – и чувствуешь легкую, необъяснимую грусть; поднимешь уголки губ – и настроение тут же улучшается. Теперь, без лица, такое ей не удается. Любые чувства, будь то гнев, скорбь, успокоение – что угодно, испытать не удается. Даже чужие лица – медицинских сестер, например, или те, что в газетах, – теперь вдруг стали казаться ей искаженными или невыразительными.
* * *
Вечером отец, повесив пальто у двери, замешкался. Постоял, постоял, только потом подошел. Поглядел на нее, не произнося ни слова и крепко ухватившись за спинку кровати, затем нерешительно присел на стул рядом. Пока разговаривали, на нее не смотрел, только держал за руку. Говорил тише и неувереннее, чем во время последних своих визитов, и задержался не более чем на четверть часа.
После его ухода Джиллиан позвонила свекрови. К телефону долго никто не подходил. Наконец в трубке раздался запыхавшийся голос Маргрит. Услышав, кто на связи, она замолчала.
– Мне очень жаль… – сказала Джиллиан.
– Что ж теперь поделаешь, – ответила Маргрит.
И рассказала, как хоронили Маттиаса, как было красиво, и еще попросила Джиллиан подтвердить, что та не возражала бы против выбора музыки и ресторана, куда направились после похорон, и текста объявления о смерти, которое тут же и зачитала. И взялась перечислять всех, кто явился на похороны.
– Ладно, ладно, – перебила Джиллиан. – И так ясно, что ты все сделала правильно.
– Жаль, ты не могла там быть, – посетовала Маргрит.
– Да уж, – согласилась Джиллиан. – Как выйду из больницы, схожу на могилу.
Отношения с Маргрит были у нее куда лучше, чем с собственной матерью. Они еще немного поговорили, но вскоре Джиллиан призналась, что уже устала.
– Звони в любое время, – попрощалась Маргрит.
* * *
Джиллиан задавалась вопросом, что сказала бы Маргрит, что сказали бы родители, если б увидели фотографии. На миг испугалась, что мать могла найти снимки, когда заходила в квартиру, но тут же сообразила, что сунула конверт в свой письменный стол. Не глядя. Они – документальное свидетельство того вечера, о котором ей хотелось забыть. Но помнились и стыд, испытанный ею тогда, и собственное бегство. Одевалась, будто в трансе. Хуберт стоял у распахнутой двери. Впервые за весь вечер он по-настоящему ее рассматривал. Джиллиан схватила пленку, лежавшую на столе, и тут же ушла, причем никто из них не произнес ни слова. Побежала к станции. На платформе один-единственный мужчина. И смотрит на нее так, словно она все еще раздета, и вот тут она вдруг осознала, что попросту не вынесет поездки на электричке или на трамвае. Пошла по улице в сторону центра, сначала через какой-то промышленный район, потом через кварталы, где никогда еще не бывала. То и дело попадались ей группы костюмированных детишек, переходивших от одного дома к другому. Вели они себя поразительно смирно. Некоторые передвигались в сопровождении взрослых, но те держались в сторонке, когда дети звонили в двери и выпрашивали сладости. Джиллиан понадобился целый час, чтобы добраться наконец до дому и захлопнуть за собою дверь. Хорошо, что Маттиаса еще нет. Она могла бы засветить и уничтожить пленку, но поддалась абсурдному ощущению, что именно таким способом выпустит свои изображения на волю. Потому и спрятала пленку внутри письменного стола. Набрала горячую ванну, несколько раз с головой окунулась в воду.
Маттиас вернулся домой, когда она еще лежала в ванне. Слышно было, как захлопнулась входная дверь, и вскоре он вошел в ванную комнату, сел на краешек ванны. Позабавлялся с последними клочьями пены, плавающими на поверхности воды. Джиллиан очень хотелось остаться в одиночестве, но он стал рассказывать ей про заседание в редакции журнала. Она не слушала. Сидя в ванне, качнулась в сторону, потянулась за купальным халатом. Маттиас сам взял халат и, распахнув, держал для нее наготове. Она встала, повернувшись при этом к нему спиной. А когда вылезла из ванны, он обнял ее и поцеловал. Она же, выскользнув из объятий, схватила полотенце, чтобы вытереть волосы.
Со временем Джиллиан и вовсе забыла про эту пленку, а вспоминала только тогда, когда вдруг зачем-нибудь открывала ящик. Так ведь и не спросила Маттиаса, что ему понадобилось у нее в письменном столе. Может, шпионил за ней, может, искал какую-нибудь скрепку или почтовую марку. Знать бы, действительно ли тот лаборант, который проявлял пленку, сделал копии и для себя. Впрочем, какое ей дело. Той женщины, что на фотографиях, больше нет.
* * *
На следующее утро, вскоре после завтрака, в больницу явилась сотрудница полиции. Красивая, невысокого роста. Пожала Джиллиан руку и представилась:
– Мануэла Бауэр, кантональная полиция.
Вытащила ноутбук и маленький принтер. Джиллиан попыталась было сказать, что все равно ничего не помнит, но сотрудница возилась со своей техникой и не обратила внимания на протесты. Наконец, подготовившись, она уселась на стул возле кровати и застучала по клавиатуре. Перечислила Джиллиан ее права, специально отметив, что та не обязана давать показания против своего супруга и против самой себя.
– Это был несчастный случай, – сказала Джиллиан.
Но сотрудница полиции возразила: речь, мол, идет о нанесении тяжких телесных повреждений.
– Вы собираетесь его посадить, что ли? – не удержалась Джиллиан.
Сотрудница полиции пояснила, что покойному, разумеется, невозможно предъявить обвинение в совершенном преступлении, однако дело должно быть расследовано со всей тщательностью. Она подробно расспрашивала Джиллиан о вечере накануне аварии, выясняла, к кому они ездили в гости и кто еще там находился. Джиллиан задавалась вопросом, привлекут ли ее к ответственности, если она во всем признается. Она – тот единственный человек, кто знает всю правду, однако давать показания она ведь не обязана.
И тем не менее она рассказала все, что помнила.
– Из-за чего же произошла ссора? – спросила женщина-полицейский.
– К делу это не относится, – ответила Джиллиан. – Так, пустяки. Но сразу после этого я выпила лишнего.
– Вы попросили мужа сесть за руль?
– Да и так было ясно, что я не в состоянии вести машину.
– Но вы могли вызвать такси.
– Могли, – подтвердила Джиллиан. – И остаться там ночевать тоже могли. Но мы этого не сделали.
Ей казалось, она действительно все позабыла, однако теперь, пока рассказывала, вспомнила очень многое. Как она, садясь в машину, старалась все-таки держаться на ногах, как Дагмар уговаривала их остаться. Маттиас успокаивал, он ведь поедет по второстепенным дорогам, там уж точно никакого контроля нет. Ее мутило, она покрутила рукоятку, стекло опустилось, и холодный ночной ветер резко ударил ей в лицо. Маттиас вел машину молча. В эту минуту она даже и представить не могла, что они когда-нибудь помирятся. Угнетала только мысль о том, каков будет разрыв.
Потом она, видимо, задремала. Когда пробудилась, ехали по узкой дороге через лес. Дорожное полотно блестело от влаги, между деревьями стелился туман. Другие машины им ни разу не повстречались. Из радиоприемника, включенного на полную громкость, несся агрессивный рок. Джиллиан нашла другую станцию, где передавали джаз, и закрыла глаза. Маттиас, не произнеся ни слова, опять переключил радио на рок. Не в это ли мгновение он потерял контроль над автомобилем? Следующее ее воспоминание – невесомость. А потом – зловещая тишина.
– Он сбил на дороге косулю, – сообщила Мануэла Бауэр.
– Это не его вина! – сказала Джиллиан и невольно залилась слезами.
– Он не должен был садиться руль, – отрезала сотрудница полиции. – Независимо от того, что вы говорили и что вы делали.
– Это моя вина… – все еще всхлипывала Джиллиан.
– К сожалению, ничем не могу вам помочь, – в голосе женщины-полицейского слышалось нетерпение, – с уголовно-правовой точки зрения вины на вас нет.
Уходя, она вручила Джиллиан памятный листок организации, оказывающей помощь жертвам преступлений, и поинтересовалась, не нуждается ли она в поддержке какого-либо рода или в услугах психолога.
Джиллиан отрицательно покачала головой:
– Об этом позаботятся мои родители. Мне вот нос нужен, это да.
И попробовала было засмеяться, но даже сама напугалась раздавшихся при этом отрывистых звуков.
* * *
Шофер такси помог Джиллиан пересесть в кресло-коляску и завез ее в подъезд, потом вернулся к машине за сумкой. Поставил ее рядом с коляской и замешкался.
– Идите, идите, – сказала ему Джиллиан. – Сейчас ко мне спустятся.
Сумку ей пришлось положить на колени, потому что одной рукой управлять коляской не получалось. На лифте она поднялась на верхний этаж. К счастью, во всем доме нет ни одного порожка. Настоящий шок – тишина в квартире.
– Ау! – закричала Джиллиан, хотя и знала, что откликнуться некому. – Ау!
Квартиру они купили три года назад. Просторные комнаты, светлый паркет и окна до самого пола. В гостиной вся стена стеклянная, и дверь ведет на балкон. Оттуда вид на весь город и на озеро. Если встать напротив дома, с улицы просматривается чуть ли не вся гостиная, но Джиллиан это нисколько не смущало, даже наоборот. Ей нравилась эта прозрачность, а когда друзья говорили, что она, дескать, поселилась в витрине или в аквариуме, Джиллиан только смеялась в ответ.
По соседству проживали в основном пожилые люди, большие окна они завешивали шторами, а по вечерам еще и опускали жалюзи.
Джиллиан почти никого из соседей не знала. Здоровались только, встречаясь в подземном гараже или на лестнице.
Гостиная оказалась прибрана, а на столе – букет увядших роз. Джиллиан купила их две недели назад, чтобы подарить Дагмар, но в конце концов забыла взять с собой. Вероятно, мать оставила их тут из чувства такта. Вода в вазе мутная и дурно пахнет, некоторые лепестки уже осыпались. Джиллиан сгребла лепестки рукой, а они на ощупь мягкие, как бархат. Подержала минутку в сжатом кулаке, потом выпустила.
Вкатилась в кухню, чистую до зеркального блеска. Типичный для ее матери способ выказать любовь и заботу. Иногда, наблюдая, как мать занимается домашними делами, Джиллиан невольно вспоминала, что та когда-то работала стюардессой. Все движения выверенные, и даже улыбка дежурная. С некоторых пор утратив к матери всякое доверие, Джиллиан относилась к ней с тем же дружелюбным безразличием, что и отец.
Холодильник почти пустой, если не считать баночек с горчицей, вялеными томатами в оливковом масле, маринованными огурцами, да нескольких банок пива и бутылки просекко, всегда стоявшей наготове для нежданных гостей.
Джиллиан попыталась перебраться с коляски на унитаз. Но вместо того, чтобы взять в гостиной костыли, она оперлась о раковину. Однако ноги подкосились, и она рухнула на пол, ударившись о подставку для ног коляски, причем та пришла в движение и с грохотом врезалась в стену. Вот так, в сидячем положении, Джиллиан подтащила себя к унитазу и в него уперлась. Послушай она врача, так вообще осталась бы без коляски, но все-таки ей удалось выпросить у него эту коляску на первые дни. Сидя на полу, она все же сумела приспустить брюки. Холодный кафель подстегивал желание, она попыталась подняться. Увы, поздно, уже чувствовалось растекающееся большой лужей тепло. Кое-как Джиллиан спустила брюки ниже, но ткань промокла и потемнела. Ее затошнило. Стянув наконец с себя брюки и трусики, она вытерла ими пол. Всхлипнула раз-другой, но эти сухие звуки никак не напоминали плач.
Жизнь до автокатастрофы показалась ей пустой инсценировкой. Работа, телестудия, красивая одежда, поездки по всяким городам, дорогие рестораны, визиты к ее родителям и к матери Маттиаса. Не жизнь это, а ложь, если так легко она разбилась – всего лишь неосторожность, одно неверное движение. Рано или поздно – неожиданным ли событием, постепенным ли разрушением, – но катастрофа должна была случиться.
Джиллиан знала, что на ноги ей вставать разрешается, врач это даже поощрял. Однако взгромоздилась на коляску и покатилась в гостиную. На диване валялась книжка, начатый ею две недели назад шведский детектив. Она нашла то место, до какого тогда дочитала, но не сумела сосредоточиться и вскоре отложила книгу в сторону. Полистала модный журнал. В доме напротив отворилось окно, соседка вытряхивала одеяло. Джиллиан с нею почти не знакома. В испуге она откатилась назад, ведь так и оставалась по пояс голой, но соседка вроде бы ее не заметила, а просто постояла еще немного у окна, выглядывая на улицу. Видно, ждала почтальона или детишек, что вот-вот придут домой из школы.
Джиллиан покатилась в прихожую за сумкой. Вернувшись в гостиную, она заблокировала колеса у коляски и сползла на пол. Улеглась на толстый шерстяной ковер. Так ее не увидишь снаружи. Джиллиан знобило, хотя в квартире было тепло. Порылась в сумке, чтобы достать чистое белье и брюки, но все вещи оказались нестиранными. Стащила плед с дивана, укуталась. Очень захотелось обратно в больницу, где от нее требовалось лишь одно: переносить боль. Да и от той избавляли лекарства. Сначала Джиллиан послушно принимала болеутоляющие, потом все чаще стала от них отказываться. Ей казалось, что боль – составная часть лечения, боль следует перетерпеть, тогда и выздоровеешь.
* * *
Поднявшись на локтях, Джиллиан осмотрелась. Вокруг ничего не изменилось, но комната стала чужой. И кто только купил эти книги, развесил эти картины? Репродукция Энди Уорхола – Мерилин, одно и то же лицо в десяти расцветках, безжизненное, как рекламный плакат. Минималистская мебель, бездушные аксессуары, тщательно подобранные в дорогих салонах, сувениры, не вызывающие никаких воспоминаний. Перевернувшись на спину, она увидела итальянскую дизайнерскую люстру. Воздела руки к люстре, казалось, парившей прямо над нею, затем опустила руки и врезала раз-другой кулаком по замершей каталке.
Подползла к телевизору, огромному, с плоским экраном, включила и принялась листать каналы. Остановилась на передаче про животных. Сумерки, по широкой полосе пляжа тысячами ползают какие-то доисторические существа, на вид состоящие только из круглого панциря и длинного не то жала, не то хвоста. Или вдруг какое-нибудь из этих существ, оказавшись в волне прибоя, барахтается ножками кверху, пытается вернуться на брюшко резкими толчками хвоста. «Лишь несколько дней в году удается наблюдать это увлекательное зрелище… – Голос за кадром звучал торжественно. – Более пятисот миллионов лет обитают мечехвосты в мелких прибрежных водах на всей планете. Они превосходно приспособились к окружающей среде и за весь этот срок почти не претерпели генетических изменений. Именно потому мечехвостов часто называют живыми ископаемыми. В начале лета они собираются на побережьях родных морей и откладывают яйца».
Джиллиан просмотрела стопку дисков, лежавших возле маленькой телевизионной тумбы, но ни один из фильмов ее не заинтересовал. Наконец, поставила диск со своей передачей, которую просила записать, но так и не посмотрела. Смотреть на себя по телевизору она никогда не любила, записи передач изучала только по необходимости, в случае каких-либо накладок.
Включила быструю перемотку. Вот появились заставка передачи, краткий перечень сюжетов, искаженные лица людей, молча разинутые рты, улыбки, картины, балетные танцовщицы. Вот, наконец, студия – белое пространство или скорее белая плоскость, на заднем плане Джиллиан, будто бы парящая в этой белизне. Стремительный наезд камеры. Включила нормальную скорость и, когда камера остановилась совсем близко, нажала на паузу. Ее прежнее лицо, рот открыт – она приветствует зрителей, глаза широко распахнуты. Джиллиан жала на кнопку, последовательно просматривая картинку за картинкой. Рот открывался и закрывался, но выражение глаз не менялось.
Перед эфиром она никогда не волновалась, потому так удивил ее теперь испуганный взгляд на экране. В этом лице, оказывается, читалось предвестие катастрофы. Внезапный шум, блик, неожиданное воспоминание изменили выражение глаз, и на долю секунды камера запечатлела человека, которого никогда раньше не было и которого никогда уже не будет. Двадцать пять кадров в секунду, двадцать пять человек, не имеющих между собой ничего общего, кроме анкетных данных, цвета волос и цвета глаз, роста и веса. Лишь последовательный показ кадров создает размытость, необходимую для восприятия одного человека.
Нажав на кнопку «плей», Джиллиан снова улеглась на спину. Слушала собственный голос: многообещающий молодой художник, первая персональная выставка, возврат к образности. Повернулась к экрану, увидела, как она объявляет телерепортаж. В этом ракурсе, под углом в девяносто градусов, лицо ее выглядело более тонким, молодым. И совершенно чужим, как ей показалось, а потому она отчетливо разглядела отдельные его черты, губы, ямочку на подбородке, нос, глаза и веки. Вспомнилось ей, как Таня, гримерша, никогда не упускала случая сделать замечание по поводу ее внешности: то брови широки, то губы тонки, то цвет лица не очень. «Ваши проблемные зоны». Так она говорила.
Женщина в телевизоре замолчала, и на миг, показавшийся Джиллиан бесконечно долгим, ее лицо приняло напряженное выражение. Тут наконец начался телерепортаж. Камера кружила по залу, выхватывая портреты обнаженных женщин в полный рост, они мылись, раздевались и одевались, хлопотали по хозяйству. Будничные их позы представлялись едва ли не классическими. Потом крупным планом лицо Хуберта, титр с именем – «Хуберт Амрейн» и, в скобках, его возраст. Тридцать девять, ее ровесник. Рассказывал, как работает, как находит моделей прямо на улице, ведь профессионалок он не признает. «Совершенно обычные женщины, – говорил он. – Они раздеваются, я фотографирую. Повинуясь порыву, на одном дыхании, и чтобы никаких договоренностей, никаких вторых попыток. Поиски модели – существенная часть творческого процесса». Из десятка сфотографированных женщин он пишет двух-трех, порой и через несколько месяцев, когда давно уже позабыл их имена. Он говорил, а на телеэкране то и дело возникали его картины. Вопросы журналиста вырезали, звучал только голос Хуберта, и каждый раз он как будто начинал рассказывать все сызнова. Мол, ему трудно объяснить, по каким критериям он выбирает модель, ему даже кажется, что модели сами его выбирают. И не красота в первую очередь его привлекает, нет, он ищет напор, силу и страсть, а также растерянность, страх и агрессию. Так бывает, мол, когда влюбляешься в женщину – тоже ведь не объяснишь почему. Улыбка его казалась робкой, но в то же время и высокомерной. Возможно, говорит, этим и определяется качество его картин: желанием и невозможностью его осуществить. «Самодовольный болтун!» – подумала Джиллиан.
За этим последовала уличная съемка: прохожие в пешеходной зоне, заснятой с некоторой высоты. Камера, выхватив из толпы одну женщину, двигалась за нею. Молодая сотрудница фирмы, привлекательная деловая женщина в унылом костюме. Джиллиан пыталась представить ее голой, но никак не получалось. А Хуберт тем временем рассказывал, что он порой воображает, как его модель вдруг встречается со своим портретом. Гуляет по городу, останавливается у галереи и в витрине видит себя нагишом в собственной квартире за мытьем посуды или с пылесосом. «Думаю, она сначала узнает квартиру, а потом уж себя, – заключил Хуберт. – Фотография рождается за считаные доли секунды. В ней запечатлена тайная жизнь, которую ведет наше тело, когда мы занимаемся своими делами».
Репортаж завершала одна из картин Хуберта, изображавшая дородную женщину лет сорока, которая моет ноги в раковине под краном. На одной ноге стоит, другую задрала вверх. Одной рукой поддерживает ногу, другой моет ступню. Пальцы рук и пальцы ног причудливо переплетаются. Поза весьма напряженная, но женщина, кажется, ушла в себя и глубоко задумалась.
Далее снова показали студию. Джиллиан и Хуберт стоят друг против друга. Ей следует задать несколько вопросов, подготовленных редактором и записанных на маленьких карточках. Спросила, как он работает с моделями, дает ли им указания. «Движения должны быть подлинные, их собственные, – ответил Хуберт. – Попробуй-ка этого добиться. Говорил той женщине, что ей надо будет мыться, а она взяла да и сунула ногу в раковину. Сам бы я до такого никогда не додумался. Настоящий подарок!» Джиллиан увидела свою улыбку и услышала свой вопрос: «Не слишком ли сложно работать с теми, кто не имеет опыта натурщицы?» Она злилась, что произнесла слово «натурщица» вместо слова «модель». Остановила запись. Увидела, как ее лицо приняло брезгливое выражение. Перемотала до очередного появления Хуберта на экране. Трудно понять, что выражало в тот миг его лицо, вроде бы иронию с примесью грусти, а может, просто снисходительность. Опять включила нормальную скорость, и Хуберт, словно очнувшись после долгих размышлений, произнес: «Нет, наоборот. Профессиональная модель обучена владеть собственным телом и носить наготу как платье. Поразительно, как изменяют некоторых женщин их нагота и мой взгляд со стороны. Как их внутренний мир раскрывается вовне. Это – очень личное». Джиллиан показалось, что с этими словами он обращался к ней, а не к телезрителям.
«Но бывает, вообще ничего не происходит, – продолжал Хуберт. – Пригодятся ли фотографии, как правило, я знаю еще до того, как проявлю пленку». Тут Джиллиан выступила с вопросом: «Но кто же тогда подлинный художник: вы или модель?» И получила такой ответ: «Дело не в художнике, а в произведении искусства. Но таковое ни к художнику, ни к модели отношения не имеет».
Джиллиан отмотала запись к началу интервью и снова внимательно просмотрела, кадр за кадром. Хотела выяснить, что же между ними происходило. Девяносто секунд, больше двух тысяч кадров. «Тайная жизнь наших тел», – подумалось ей. Хуберт – пустомеля, и тем более досадно, что он высказал ее собственные мысли, что она могла позаимствовать свои мысли у него. Джиллиан часто ловила себя на том, что схватывает чужую мысль, а после приписывает ее себе.
Диалог их лиц разительно отличался от только что прозвучавшего диалога. Кажется, с самого начала между ними возникло какое-то настороженное доверие, по лицу то у одного, то у другого не раз проскальзывала неприметная улыбка, и по меньшей мере однажды Джиллиан прочла в своих глазах восхищение, девичий восторг. Скучающее выражение лица Хуберта постепенно сменилось нежным, и Джиллиан это озадачило. Монтажная перебивка, и она на долю секунды появляется с опущенными долу глазами, как будто смущена его взглядом. Потом, правда, поворачивается к другой камере, и вот уже ее лицо светится глуповатой радостью и удивлением: следующий сюжет! Джиллиан нажала на «стоп» и достала диск из проигрывателя. На экране вновь показались мечехвосты, теперь они двигались в обратную сторону, к воде. «Каждый год мечехвосты таким образом откладывают яйца. – В закадровом голосе чувствовалось тепло. – И будут откладывать еще долго-долго… Даже тогда, когда человек давно уже исчезнет с лица земли».
* * *
Джиллиан почти целый день пролежала в гостиной. Постепенно она успокоилась. Почувствовала себя окрепшей, правда, стоило ей только приподняться, как голова закружилась. Посидела, подождала, пока пройдет головокружение. Затем взяла костыли, которые валялись рядом с нею на полу, и встала. Дело пошло лучше, чем она ожидала. Доковыляла до кухни, съела целую банку консервированного тунца и несколько рисовых вафель, которые купила несколько месяцев назад и которые ей тогда не понравились. Запила еду бокалом просекко, хотя врач запретил ей алкоголь на то время, пока она принимает лекарства.
Дошла до ванной комнаты и открыла свою створку шкафчика, до отказа набитого лекарствами, отпускаемыми без рецепта, а также косметическими и гигиеническими средствами. Женщина, которая здесь жила, опасалась, видимо, дурного запаха изо рта, глотала витамины – наверное, из-за неполноценного питания, – периодически страдала от головных болей и повышенной кислотности желудка. Боялась старения кожи и ломкости ногтей. Занятая на работе женщина, у которой денег больше, чем времени, которая часто бывала в разъездах, покупала в маленьких лавочках мыло ручной работы с оливковым маслом и никогда им не пользовалась, заводила новые зубные щетки, не успев выбросить старые. Джиллиан невольно пришло на ум, что теперь-то для ее вещей хватит места, а вот горевать по Маттиасу у нее не получается. То вдруг она расплачется и не может остановиться. То вообще забывает, что Маттиаса больше нет. Они ведь часто расставались на день-другой, на несколько дней, потому и одиночество для нее не труд. Джиллиан и на похоронах-то его не была, откуда же ей знать, что он мертв?
Сняла блузку, сняла бюстгальтер. Осматривая себя сверху донизу, смогла даже вообразить, будто ничего не произошло. Несколько синяков на теле да шов после операции на ноге, а больше ничего не заметно. Но вот, подняв глаза, она стала вглядываться в свое лицо. Находясь в больнице, она, кроме ран, ничего не видела. А то, что теперь увидела там, выше, над своим почти невредимым телом, мигом лишило ее сил. Живот свело, она тихо опустилась на пол. На четвереньках доползла до спальни и легла в кровать. Проверила на ощупь свое обнаженное тело – грудь, талию, бедра.
* * *
Пробудившись среди ночи, Джиллиан не смогла заснуть снова. Она встала, доковыляла до кабинета. Включила компьютер и зашла в свой почтовый ящик. Входящие – триста с лишним писем! Бегло проглядела темы. Скорейшего выздоровления. Всего наилучшего. Примите соболезнования. Вызовы на совещания, а через несколько дней – протоколы этих совещаний. Она стерла все мейлы до единого. Ящик другого аккаунта, с которого она вела переписку с Хубертом, был пуст. Набрала в поисковике свое имя и фамилию. Кроме ряда кратких сообщений о произошедшей аварии, нашла еще ссылки на свою передачу, нашла свою биографию, две-три посвященные ей статьи, в том числе даже статью в Википедии, составленную каким-то поклонником и, как ни странно, достоверную. Вот интересно, как долго человек может прожить в Интернете после своей смерти? В каком-то блоге подробно обсуждалась ее деятельность телеведущей. Блогер, похоже, испытывал к ней глубокое отвращение. Поначалу она решила, что текст написан мужчиной, но стала читать дальше и догадалась: нет, явно женщина. Чувствовалось, что авторша с нею когда-то встречалась, может, она художница или организатор выставки, а Джиллиан брала у нее интервью. Когда Джиллиан ругали в прессе, она хотя бы знала, с кем имеет дело. А тут она как будто подслушивала у двери в комнату, где о ней говорят. «Ты же не можешь нравиться всем», – заметил как-то Маттиас, когда ее однажды раскритиковали, но ведь не в том дело. Она так и не научилась отделять себя от своей работы, и кто наводил критику на работу, тот ставил под сомнение и ее персону. В конце страницы предлагалось оставить комментарий к тексту. Там она обнаружила несколько записей, в основном признававших правоту блогерши, и ряд коротких высказываний, изобиловавших опечатками и непристойными словами. Джиллиан, прикинув, стоит ли отвечать, решила не ввязываться. Выключила компьютер и открыла верхний ящик письменного стола. Конверт с фотографиями лежал на том самом месте, где она его оставила.
Джиллиан встретилась с Хубертом прямо перед записью в студии. Пока готовились, он только и поносил телевидение, якобы губительное для его картин, а сам при этом бесстыдно ее разглядывал. Уже стоя в свете прожекторов, спросил, не хочет ли она после записи выпить с ним бокал вина, но она отказалась.
«Не пугайтесь, – иронически усмехнулся он. – Я не собираюсь писать ваш портрет». Почему-то эти слова прозвучали обидно.
Когда кончили записывать всю передачу, оказалось, что Хуберт уже ушел, и Джиллиан испытала некоторое разочарование, хотя на него и злилась. Смывая грим, Таня показала набросок к ее портрету, мимоходом сделанный Хубертом. Ничего особенного, но Джиллиан разозлилась еще больше.
Маттиаса дома не было, она на скорую руку сделала себе бутерброд и засела в кабинете. Нашла персональный сайт Хуберта Амрейна, открыла. В разделе News одна-единственная новость о групповой выставке двухгодичной давности. В разделе Who I am под фотографией Хуберта размером с почтовую марку его краткая биография. Получив профессию шрифтовика, параллельно с работой учился в Высшей художественной школе. Далее – список незначительных грантов, которые он получал, и групповых выставок, в которых он участвовал. Джиллиан кликнула раздел Gallery. Пять картин, на всех изображены пустые, без людей, помещения: кабинет, гостиная, спальня, кухня, ванная комната. На картинах ночь, пространство лишь кое-где освещается. Почти ничего не разглядеть, однако складывалось впечатление, будто кто-то есть в этих комнатах, кто-то прячется в потайном уголке или за спиной у наблюдателя. Ниже сообщалось, что картины выполнены цветными карандашами на бумаге, размер – 15×21 см. В разделе Contact me она обнаружила адрес электронной почты.
Что бы такое спросить у Хуберта? Почему он не хочет написать ее портрет? Она долго вглядывалась в пустой компьютерный экран, потом все-таки выбрала отправителя: Фрекен Жюли. Адрес, который она завела для того, чтобы анонимно посылать мейлы. Всякий раз при использовании этого адреса ей казалось, будто она и в самом деле другой человек, будто она снова играет роль безрассудной, но решительной героини Стриндберга. Вспомнила завершающий показ в театральном училище и даже кое-что из текста: «И если уж я буду танцевать, так только с тем, кто в танце поведет!» Аплодисменты долго не смолкали. После ей казалось, что она с кем угодно может помериться силами и любая роль ей по плечу. Теперь на фотографиях она видела только тощую девчонку с дурацким выражением лица и вытаращенными глазами.
Недолго думая она написала Хуберту, как восхищается его работами и как ей жаль, что у него на персональном сайте нет новых картин. И, чуть помедлив, добавила: «К тому же я имела случай убедиться, что внешне вы очень привлекательны». Подписалась именем Жюли и нажала «отправить».
Она уже ложилась спать, а Маттиас все еще не вернулся. В пять утра проснулась, Маттиас лежит рядом. Тут же вспомнила Хуберта и представила себе, как они бы встретились у него в мастерской. Она постучала бы в дверь, он бы открыл, впустил ее. Вот она, не снимая плаща, идет по залу, осматривается. Мастерская выглядит точно, как в старом голливудском фильме: высокие окна, печка-буржуйка, большой мольберт. Хуберт разглядывает ее с тем же дерзким любопытством, что она подметила перед интервью, и показывает на старый кожаный диван. Прикинувшись, будто не заметила этого жеста, Джиллиан подходит к большому окну, откуда открывается вид на городские крыши и Эйфелеву башню вдали. Небо скрыто темными дождевыми облаками, но на горизонте облачный покров разорвался и выглянуло солнце, и вот уже серый металл городских крыш сверкает в его лучах. Джиллиан слышит, что Хуберт тихонько подошел к ней сзади. Наконец она обернулась, скинула плащ, а под ним маленькое черное платьице. Хуберт улыбнулся, принял плащ и бросил на кресло. Взял с низенького столика блокнот, угольный карандаш и стал ее рисовать. Джиллиан закрыла глаза. Слышала только, как уголь шуршит по бумаге.
Маттиас перевернулся на бок. Джиллиан тихонько встала, вышла на балкон. Несмотря на прохладу, она не зябла. Светало, птичий галдеж звучал громко, как будто в закрытом пространстве. Издалека тоже доносились шумы – редкого в этот час движения на автостраде, да еще поездов, которые сортируют на железной дороге.
* * *
Спустя немного времени Хуберт и Джиллиан стали переписываться каждый день. Маттиас не уставал интересоваться, отчего она по десять раз на дню заходит в почту. Она только плечами пожимала. Джиллиан – под псевдонимом – отважилась спросить Хуберта, зачем его моделям обнажаться догола, если, как он утверждает, тело само по себе его не интересует. Он ответил почти теми же словами, что в интервью, оттого она ему не поверила. Написал про встречу как часть процесса, про единственно верную минуту – разве такое запланируешь? Настойчиво просил ее прислать фотографию, но она ответила, что фотографий у нее нет.
«Мы встречались когда-нибудь?»
Джиллиан прочитала этот мейл лишь на следующее утро. Она улетала на несколько дней в Гамбург снимать репортаж о старике-писателе, выпустившем нечто вроде автобиографии. Рейс только в полдень, так что она еще лежала в постели, когда Маттиас собрался на работу. Поцеловал ее на прощание.
Ночью она плохо спала, с утра настроение было какое-то подавленное, хотя и без всяких причин. Даже не глотнув утреннего кофе, Джиллиан села за компьютер. Написала Хуберту, что у нее нет никакого желания поработать для него моделью. Только представит себе, как он заявится с фотоаппаратом к ней в квартиру, и уже противно. Не из-за собственной наготы, а из-за вторжения в ее дом, да как он будет тут все оглядывать, да какое впечатление составит о ее жизни. Не в обиду ему будь сказано.
Выпила кофе, выкурила сигарету. Стоя под душем, воображала, как Хуберт станет писать ее портрет. Она осматривается в мастерской. Он указывает на старый кожаный диван. Не скинув плаща, она садится. Он берет стул, усаживается напротив и принимается за работу. Через некоторое время он, отложив блокнот, явно хочет сказать ей что-то важное, но колеблется. Наконец, понизив голос так, что она едва разбирает слова, предлагает ей пойти за ширму и раздеться. Когда Джиллиан нагишом выходит из-за ширмы, Хуберт как раз вставляет пленку в большой фотоаппарат. Не поднимая глаз, он просит ее прилечь с книгой на диван. Смотрит в видоискатель, так что глаз его опять не видно, но все равно она ощущает его беззастенчивый и холодный взгляд.
Джиллиан складывала дорожную сумку. Времени еще хоть отбавляй, можно проверить почту. От Хуберта уже пришел ответ. Дескать, если ей неприятно фотографироваться в собственной квартире, то можно встретиться в его мастерской. «Ты себя выдал, – подумала она, – ты меняешь правила посреди игры».
Мейлы летели в ту и другую сторону с минутным интервалом.
«Вы одна?»
«Вам бы только того и хотелось».
«Значит, одна».
«Все-таки вы стараетесь меня использовать!»
«Почему же?»
«Стараетесь меня себе представить, вообразить».
«Вы не показываетесь, вот я и вынужден стараться».
«Почему вы пишете только женщин? Почему только обнаженных?»
На сей раз ответ заставил себя ждать. И разочаровал Джиллиан. Поразмыслив, она отстучала другой вопрос, но тут же его стерла. И снова написала.
«Вы спите со своими моделями?»
Только успела отправить, как от Хуберта пришел еще один мейл. Мол, благодаря наготе между художником и моделью возникает эротическое напряжение, тяга друг к другу. Искусство состоит в том, чтобы использовать эту энергию для создания картины.
Тут уж Джиллиан пожалела, что задала тот вопрос. Ответ, снова заставивший себя ждать, звучал так:
«Предлагаю встретиться».
«Это непрофессионально».
«Предлагаю встретиться».
«Вы повторяетесь!»
«Все в жизни повторяется».
«Нет».
«Тогда чего же вы добиваетесь?»
Джиллиан призадумалась. Написала ответ, перечитала, улыбнулась и кликнула «отправить». Ответа дожидаться не стала, выключила компьютер. Когда шум вентилятора окончательно смолк, ей показалось, что в квартире как-то очень уж тихо.
В Гамбурге шел дождь. В аэропорту Джиллиан взяла такси и поехала домой к писателю. Съемочная группа уже находилась там, и писатель страшно волновался, потому что оператор хотел переставить мебель в гостиной. Еще писатель отказывался гримироваться, хотя ведь ясно, что на протяжении жизни его уже сто раз гримировали. Джиллиан вмешалась с объяснениями: все ради того, чтобы он выглядел совершенно естественно. Во всяком случае, она ему вроде бы понравилась, постепенно он чуточку расслабился и даже неуверенно пытался с нею пофлиртовать. Засняли его за письменным столом и на фоне книжных стеллажей, на прогулке по району портовых складов, в шикарном кафе, куда, по его словам, он добровольно ни за что бы не пошел. Джиллиан попросила его попутно что-нибудь записывать, делать заметки, но он не прихватил из дому ни листка бумаги. Пришлось ей одолжить писателю черный блокнотик-молескин, и какую-то запись он сделал. Потом вернулись в его дом, чтобы записать интервью. Джиллиан разместилась поближе к камере. Открыв блокнотик со списком вопросов, она углядела следующие строчки: «Именно таким читатели представляют себе писателя. Телевидение полностью оправдало мои ожидания». Не моргнув глазом она задала первый вопрос.